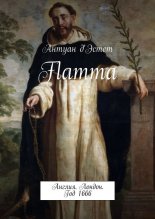Лавандовая комната Георге Нина
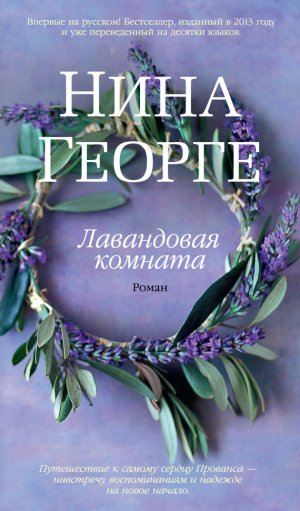
– Но лучше бы я этого не делала! Эта история с тараканом – жуть! Как мать гонялась с веником за своим собственным сыном. Фу, гадость! У меня после этого несколько дней была мания уборки. Он что, всегда так пишет, этот мсье Кафка?
– Вот видите, вы сразу все поняли, мадам. Другим для этого требуется десять лет учебы.
Мадам Розалетт улыбнулась, не совсем уверенная, что поняла смысл комплимента, но все же довольная.
– Ах да, лифт не работает. Опять застрял, где-то между Гольденбергами и мадам Гулливер.
Это означало, что лето начнется сегодня ночью. Оно каждый раз начиналось именно тогда, когда ломался лифт.
Эгаре стал подниматься по лестнице, выложенной бретонским, мексиканским и португальским кафелем, шагая через две ступеньки. Мадам Бернар, владелица дома, любила узоры. «По ним определяют характер дома, так же как по туфлям определяют характер дамы», – говорила она.
С этой точки зрения любой квартирный вор, ступив на лестницу дома № 27 на рю Монтаньяр, немедленно должен был прийти к выводу, что попал в дом с большим приветом.
Эгаре дошел уже почти до второго этажа, когда в поле его зрения, на уровне лестничной площадки, попали энергично шагающие пантолеты кукурузного цвета с султанчиками из перьев.
На втором этаже, прямо над мадам Розалетт, квартировал слепой подиатр Че. Он часто сопровождал мадам Бомм, бывшую секретаршу одного знаменитого гадателя по картам (тоже второй этаж, напротив), за покупками в магазин еврейского коммерсанта Гольденберга (четвертый этаж) и нес ее сумку. Они медленно тащились по тротуару – слепой, ведущий под руку даму с ходунком на колесиках. Часто этот дуэт дополнял Кофи.
Уроженец Ганы Кофи (что на его родном языке означает «пятница») переехал в дом № 27 из какого-то предместья. Он был черным, как сажа, навешивал поверх своих хипхоповских футболок множество золотых цепочек, а в ухе носил креольское кольцо. Красивый юноша, «смесь Грейс Джонс[12] и молодого ягуара», по определению мадам Бомм. Кофи обычно нес ее белую сумочку от Шанель, привлекая к себе подозрительные взгляды прохожих. Он исполнял обязанности управдома, а в свободное время изготавливал фигурки из необработанной кожи и разрисовывал их символами, смысла которых никто в доме не понимал.
Однако на сей раз путь Эгаре преградил не Че, не Кофи и не ходунок мадам Бомм.
– А, мсье Эгаре! Как хорошо, что я вас встретила! Вы знаете, ну просто невероятно интересная книга про этого Дориана Грея. Как мило с вашей стороны, что вы мне порекомендовали ее, когда у вас не оказалось «Страстного желания».
– Рад за вас, мадам Гулливер.
– Ах, я же вас уже сто раз просила называть меня просто Клодин. Или хотя бы мадемуазель. Не люблю этих церемоний. Да, так вот, я прочитала вашего Грея всего за два часа – такая забавная книга! Только я бы на месте Дориана вообще не смотрела на эту картину, ведь это же кошмар какой-то! А ботокса тогда, наверное, еще и не было.
– Мадам Гулливер, Оскар Уайльд писал эту книгу целых шесть лет. Из-за нее он попал в тюрьму и вскоре умер. Разве он не заслужил чуть больше вашего времени, чем два часа?
– Ах, да бросьте вы! Ему сейчас уже все равно.
Клодин Гулливер. Незамужняя дама лет сорока пяти с рубенсовскими формами, протоколистка одного из солидных аукционов. Каждый день она имела дело с людьми особого сорта – коллекционерами, слишком богатыми и слишком алчными. Мадам Гулливер тоже коллекционировала произведения искусства, преимущественно на каблуках и попугайской расцветки. Ее коллекция пантолет насчитывала сто семьдесят шесть пар и занимала отдельную комнату.
Одно из хобби мадам Гулливер заключалось в том, чтобы подкарауливать мсье Эгаре и то приглашать его на прогулку, то рассказывать ему об очередных курсах, которые она заканчивает, или о новых ресторанах, которые открываются в Париже каждый день. Другой страстью мадам Гулливер были романы, в которых героини бросались на широкую грудь какого-нибудь мерзавца и героически боролись с грубой мужской силой, пока эта сила не брала наконец верх над женской слабостью.
– Скажите, вы не хотели бы сегодня вечером сходить на… – прощебетала мадам Гулливер.
– Нет, сегодня что-то не хочется.
– Да вы ведь даже не дослушали! На «вечеринку ненужных вещей» в Сорбонне. Сплошь длинноногие студентки с художественного факультета, которые после выпускного экзамена избавляются от своего хозяйства и за гроши распродают свои книги, мебель, а может, и любовников. – Гулливер кокетливо вскинула брови. – Ну что, идете?
Он представил себе молодых мужчин, сидящих посреди напольных часов, ящиков с книгами и другого скарба с табличками на груди: «БУ. Одна хозяйка. Отличное состояние. Царапин или других механических повреждений нет. Необходима легкая профилактика сердца». Или: «БУ. Три хозяйки. Основные функции в порядке».
– Нет, честное слово, ни малейшего желания.
Мадам Гулливер тяжело вздохнула:
– О господи, у вас никогда нет желания – вы не замечали этого?
– Это…
Правда.
– …никак не связано с вами. Правда. Вы восхитительная, смелая и… э-э-э…
В каком-то смысле она ему даже нравилась. Она загребала жизнь обеими руками. И похоже, брала от нее даже больше, чем ей требовалось.
– И очень компанейская.
Идиот!
Он уже настолько утратил форму, что не в состоянии был сказать что-нибудь приятное существу противоположного пола!
Мадам Гулливер двинулась дальше, виляя бедрами и шлепая своими канареечными пантолетами – топ-шлеп, топ-шлеп. Поравнявшись с Эгаре, она попыталась коснуться его крепкого предплечья, но он невольно отстранился, и она разочарованно уронила руку на перила.
– Мы с вами оба не становимся моложе, мсье… – сердито произнесла она тихим голосом. – Наша вторая половина жизни давно началась.
Топ-шлеп, топ-шлеп.
Эгаре непроизвольно потрогал волосы на затылке, там, где у многих мужчин появляется унизительная тонзура. Нет, до него очередь еще не дошла. Да, ему пятьдесят, а не тридцать. Темные волосы уже засеребрились. Лицо подернулось едва заметной тенью штриховки. Живот… Он втянул его. Пока еще терпимо. Его больше беспокоили бедра: каждый год на них нарастал новый тонкий слой жира. Да и таскать сразу по два ящика с книгами он уже не мог, черт побери! Но все это не имело значения – женщины уже не смотрели на него оценивающим взглядом. Если не считать мадам Гулливер, которая видела потенциального любовника в каждом мужчине.
Он украдкой взглянул вверх, не появится ли еще и мадам Бомм, чтобы начать очередную дискуссию на лестничной площадке. Об Анаис Нин[13] и ее сексуальной одержимости. Во весь голос, потому что ее слуховой аппарат случайно был погребен в какой-то конфетной коробке.
Эгаре организовал читательский клуб для Бомм и других вдов с рю Монтаньяр, забытых детьми и внуками и сохнущих перед своими телевизорами. Они любили книги. А главное – литература была для них лишним поводом покинуть квартиру и в приятном обществе себе подобных предаться дегустации цветных дамских ликеров.
Обычно дамы единодушно выбирали эротические произведения. Эгаре маскировал их во время доставки под суперобложками безобидного характера – «Растительный мир Альп» (для «Сексуальной жизни Катрин М.»[14]), «Вязальные узоры Прованса» (для «Любовника» Дюрас[15]), «Рецепты варенья из Йорка» (для «Дельты Венеры» Анаис Нин). Ценительницы ликера с пониманием и благодарностью относились к предусмотрительности мсье Эгаре: они хорошо знали своих родственников, считавших чтение чересчур эксцентричным хобби для чудачек, которым, видите ли, телевизора уже мало, а эротику – далеко не самым подходящим увлечением для дам за шестьдесят.
Однако ему посчастливилось благополучно миновать второй этаж, не столкнувшись с ходунком мадам Бомм.
На втором этаже жила и пианистка Клара Виолет. Эгаре услышал стремительные пассажи Черни[16]. Под ее пальцами даже гаммы обретали особое, изысканное звучание.
Она считалась одной из пяти лучших пианисток мира. Но поскольку она не переносила присутствия слушателей в помещении, где играла, славы ей, увы, не досталось. Летом она давала балконные концерты: раскрывала все окна, а Эгаре, придвинув ее рояль фирмы «Плейель» к балконной двери, устанавливал под инструментом микрофон. И Клара играла. Два часа подряд. Жители дома № 27 сидели на ступеньках крыльца или на выставленных на тротуар складных стульях. Часть публики слушала ее, сидя за столиками в «Ty Breizh». После концерта, когда Клара выкатывалась на балкон и, робко кивая, кланялась, ей аплодировал чуть ли не весь микрорайон.
Остаток пути наверх Эгаре проделал без помех. Добравшись до пятого этажа, он увидел, что стол исчез. По-видимому, Кофи помог Катрин.
Чувствуя необъяснимую радость, он постучал в зеленую дверь.
– Добрый вечер! – прошептал он, прижимая бумажный пакет к матовому стеклу. – Я принес книги.
Когда Эгаре выпрямился, Катрин открыла дверь.
Светлые короткие волосы, жемчужно-серый взгляд из-под нежных бровей, недоверчивый, но мягкий. Она была босиком, в платье с вырезом, открывавшим только ключицы. В руках она держала конверт.
– Мсье, я нашла письмо.
8
Для одной минуты впечатлений было слишком много – Катрин, ее глаза, конверт с бледно-зеленой надписью, близость Катрин, ее запах, ключицы, жизнь… письмо…
Письмо?
– Нераспечатанное письмо. Оно было в вашем столе, в ящике, в том, что выкрашен в белый цвет. Я открыла этот ящик, а там лежало вот это письмо, под штопором.
– Да нет же, – вежливо возразил Эгаре, – никакого штопора там не было.
– Но я же видела его своими собственными…
– Ничего вы не видели!
Он вовсе не хотел так кричать, но вид письма, которое она держала в руке, был для него просто невыносим.
– Простите, пожалуйста, что я накричал на вас.
Она протянула ему письмо.
– Но это не мое письмо.
Мсье Эгаре попятился к своей квартире.
– Сожгите его.
Катрин пошла за ним, глядя ему в глаза. Его лицо вдруг вспыхнуло, словно от удара хлыстом.
– Или бросьте его в мусорное ведро.
– Значит, я в принципе могла его прочитать?
– Мне все равно. Это не мое письмо.
Она не отрывала от него взгляда, пока он не закрыл за собой дверь, оставив ее на лестнице.
– Мсье! Мсье Эгаре! – Катрин постучала в дверь. – Но на конверте написано ваше имя.
– Уходите! Пожалуйста! – крикнул он.
Он узнал письмо. Почерк.
В нем что-то лопнуло.
Женщина с темными кудрявыми волосами открывает дверь купе, сначала долго смотрит в окно, на перрон, потом поворачивается к нему, со слезами на глазах. Шагает по Провансу, по Парижу, по улице Монтаньяр и наконец входит в его квартиру. Принимает душ, идет нагишом по комнате. Губы, приближающиеся к его губам, в полумраке.
Мокрая после душа кожа, влажные губы, перекрывающие ему дыхание, впивающиеся в его губы. Поцелуй.
Бесконечный.
Лунный свет на ее маленьком мягком животе. Две тени, танцующие в красной оконной раме.
А потом она укрылась его телом.
*** спит на диване в лавандовой комнате, как она называла запретную комнату, завернувшись в свое провансальское лоскутное одеяло, которое сшила еще невестой.
До того, как вышла замуж за своего «виньерона» – винодела и…
Покинула меня.
А потом еще раз.
Каждой комнате, в которой они встречались за эти пять лет, *** давала название: Солнечная, Медовая, Садовая. Для него, ее тайного любовника, ее второго мужа, эти комнаты были вселенной, составляли весь смысл его существования. Его комнату она назвала «лавандовой», это была ее маленькая родина на чужбине.
Последняя ночь, которую она провела в ней, была жаркая августовская ночь 1992 года.
Они вместе приняли душ и были мокрые и голые.
Она ласкала Эгаре своей прохладной мокрой рукой, потом, скользнув ему на грудь, вдавила его ладони, справа и слева, в диван и, глядя на него сверху диким взглядом, прошептала:
– Я хочу, чтобы ты умер раньше меня. Обещаешь мне это?
Она овладела им, нанизала свое тело на его плоть с каким-то особым, целомудренным бесстыдством и все повторяла сквозь стоны:
– Обещай мне! Обещай мне!
Он обещал.
Позже, ночью, уже не видя в темноте белков ее глаз, он спросил почему.
– Я не хочу, чтобы ты один шел по дорожке от стоянки до моей могилы. Я не хочу, чтобы тебе было грустно и одиноко. Лучше пусть я буду тосковать по тебе до самой смерти.
– Почему я ни разу не сказал тебе, что люблю тебя? – прошептал Эгаре. – Почему, Манон? Манон!..
Да, он так и не признался ей в любви. Чтобы не смущать ее. Чтобы не услышать в ответ: «Чччч…» – чувствуя ее палец на губах.
Он ведь мог быть в ее жизни мозаичным камешком, думал он тогда. Красивым, мерцающим, но всего лишь одним из множества элементов, а не законченной картиной. И он готов был принести ей эту жертву.
Манон. Сильная, не красавица и даже не хорошенькая. Провансалка, говорившая словами, которые, казалось, можно пощупать. Она никогда ничего не планировала, она жила настоящим. Она не говорила за вторым блюдом о десерте, ложась спать, не говорила о пробуждении, прощаясь, не говорила о встрече. Она вся была здесь и сейчас.
В ту августовскую ночь, которой предшествовали 7216 других ночей, Эгаре в последний раз спал хорошо. Когда он проснулся, Манон уже не было.
Он не мог припомнить ни одного знака, ни одного сигнала, предвещавшего ее уход. Он вновь и вновь ломал себе голову, тысячу раз воспроизводил в памяти жесты, взгляды, слова Манон, но не находил в них ничего, что могло бы означать начало конца.
Она ушла.
И больше не вернулась.
Через несколько недель он получил от нее письмо.
То самое письмо.
Оно два дня пролежало на столе. Он смотрел на него, давясь своим одиноким ужином, в одиночестве опустошая бутылку за бутылкой, в одиночестве куря сигарету за сигаретой. Ослепнув от слез.
Слезы катились по щекам, капали на стол и на конверт.
Он так и не открыл письмо.
В те дни он испытывал страшную усталость. От слез и от сознания того, что больше не может спать в этой кровати, ставшей без нее такой огромной, пустой и холодной. И от тоски.
В гневе и отчаянии он бросил письмо – нераспечатанным! – в ящик кухонного стола. Туда, где лежал штопор, который они «одолжили» в пивной в Менербе и увезли с собой в Париж. Они тогда только что приехали из Камарга, с сияющими, напоенными южным солнцем глазами, и остановились в Любероне, в маленьком пансиончике, прилепившемся к отвесному горному склону, как пчелиное гнездо, – ванная в коридоре, на завтрак лавандовый мед.
Манон хотела показать ему все. Откуда она родом, чем пропитана ее душа. Она даже хотела представить ему своего будущего мужа Люка, издалека, сидящим на своем длинноногом тракторе, посреди виноградника в долине под Боньё. Люк Бассе, «виньерон», винодел.
Словно в надежде на то, что они все трое станут друзьями. И каждый будет радоваться вожделению, любви каждого.
Эгаре отказался. Они остались в медовой комнате.
Он стоял за дверью, в темноте, и у него было такое ощущение, как будто силы стремительно уходят из него, текут, как кровь из вскрытых вен; казалось, что он уже не в состоянии сделать и шага от этой двери.
Ему не хватало тела Манон. Ему не хватало ее руки, которую она во сне подсовывала ему под попу. Ему не хватало ее дыхания, ее детского ворчания, когда он слишком рано будил ее, а для нее всегда было слишком рано, в котором бы часу он ее ни будил.
И ее глаз, смотревших на него с любовью, ее тонких мягких курчавых волос, когда она терлась головой о его шею, – всего этого ему не хватало так остро, что его тело корчилось в судорогах каждый вечер, когда он ложился в пустую кровать. И каждое утро, когда он просыпался.
Он ненавидел это пробуждение в жизнь без нее.
Поэтому сначала он разбил кровать, потом полки, скамеечку для ног, порезал на куски ковры, сжег картины, опустошил квартиру. Он отдал бездомным всю одежду, раздарил все пластинки.
Оставил только книги, которые читал ей вслух. Он читал ей каждый вечер: стихи, отдельные сцены, главы, заметки, фрагменты биографий, выдержки из справочников, «Детские молитвы» Рингельнаца (о, как она любила про «луковку»!) – чтобы она могла уснуть в этом чужом для нее, зловещем, убогом мире, на холодном севере с его замороженными обитателями. У него не поднялась рука выбросить эти книги.
Он замуровал ими лавандовую комнату.
Но она не отпускала.
Она не отпускала его, эта чертова тоска, будь она проклята!
Единственная возможность как-то жить с ней заключалась в том, чтобы избегать жизни. Он запрятал жизнь вместе с тоской куда-то глубоко внутрь, на самое дно души.
И вот теперь она опять навалилась на него с чудовищной силой.
Мсье Эгаре дотащился до ванной и подставил голову под струю ледяной воды.
Он ненавидел Катрин, ненавидел ее растреклятого, блудливого, жестокого мужа.
Ну почему этому безмозглому козлу Ле П. приспичило уйти от нее, не оставив ей даже кухонного стола, именно сейчас? Не раньше и не позже? Болван!..
Он ненавидел консьержку, и мадам Бернар, и Жордана, и мадам Гулливер – всех! Всех до одного!
Он ненавидел Манон.
С мокрой, прямо из-под крана, головой он распахнул дверь. Если этой мадам Катрин так хочется, то он ей скажет: «Да, черт побери, это мое письмо! Я просто не захотел его тогда открывать. Из гордости. Из принципа».
А любая ошибка, совершаемая из принципа, обретает смысл.
Он хотел прочесть письмо, когда почувствует себя готовым к этому. Через год. Или два.
Он не собирался ждать двадцать лет, постепенно превращаясь в пятидесятилетнего чудака.
Не открыть письмо Манон – было единственно возможной формой защиты. Не принять ее оправданий – было единственным оружием, которым он располагал.
Да, именно так!
Тот, кого покинули, должен отвечать молчанием. И ничего не давать тому, кто ушел, а наоборот, должен закрыться в себе, так же как другой закрылся от него в некоем будущем. Да, именно так.
– Нет! Нет! Нет! – крикнул Эгаре.
Что-то тут было не так, он чувствовал это. Но что? Это сводило его с ума.
Мсье Эгаре направился к двери напротив.
И позвонил.
Потом постучал, потом, выдержав паузу, позвонил еще раз и повторял эти действия еще некоторое время, которое требуется нормальному человеку, чтобы вылезти из-под душа и вытрясти из ушей воду.
Почему она не открывает? Она же только что была дома.
Он вернулся к себе, вырвал из первой попавшейся книги, лежавшей на вершине книжной горы перед дверью в лавандовую комнату, первую страницу и лихорадочно написал:
Я хотел попросить Вас принести мне письмо, как только Вы вернетесь, – не важно, в какое время. Не читайте его, пожалуйста. Извините за неудобства, которые я Вам причиняю. Всего доброго.
Эгаре
Уставившись на свою подпись, он вдруг подумал, сможет ли он еще когда-нибудь нормально воспринимать свое имя.
Потому что каждый раз, мысленно называя его, он слышал голос Манон. Как она произносила его имя сквозь стон. Или сквозь смех. Или шепотом… Да, особенно шепотом!
Он втиснул свой инициал – Ж. (Жан) – между «Всего доброго» и «Эгаре».
Сложив листок вдвое, он прикрепил его скотчем к двери Катрин.
Письмо. Наверняка какие-нибудь беспомощные объяснения из тех, которыми женщины «утешают» наскучивших любовников. Так что особых причин переживать по этому поводу нет.
Конечно нет.
Мсье Эгаре вернулся в свою пустую квартиру и стал ждать.
Он чувствовал себя необыкновенно, немыслимо одиноким – как маленькая безымянная лодка без паруса и без весел посреди игривого, насмешливого моря.
9
Когда ночь ушла, уступив Париж субботнему утру, мсье Эгаре выпрямился, превозмогая боль в спине, снял очки и потер припухшую переносицу. Несколько часов подряд он просидел на коленях над своей крупногабаритной напольной мозаикой, бесшумно вдавливая пазлы один в другой, стараясь не пропустить момент, когда Катрин наконец подаст какие-нибудь признаки жизни. Но на площадке было по-прежнему тихо.
У него все болело: грудь, поясница, шея. Он снял рубашку, пошел в ванную и стоял под ледяным душем, пока не посинел от холода, потом включил горячую воду и стоял, пока не покраснел, как рак. Наконец, обмотав бедра одним из двух своих полотенец, весь в клубах пара, подошел к кухонному окну. Сделал под клокотание чайника на плите несколько отжиманий от пола и приседаний. Потом, сполоснув единственную чашку, налил себе черного кофе.
Лето и в самом деле обрушилось на Париж именно этой ночью.
Воздух – как из паровозной топки.
Может, Катрин сунула ему письмо в почтовый ящик? После его дикой выходки вчера вечером она, наверное, больше вообще не захочет иметь с ним дело.
Босиком, придерживая рукой узел полотенца, Эгаре прошлепал по безлюдной лестнице к почтовым ящикам.
– Ну знаете! Это уже чересч… Ах, это вы?..
Мадам Розалетт, облаченная в домашний халат, высунулась из своей привратницкой. Он почувствовал ее взгляд, скользнувший по его коже, мускулам, полотенцу. «Идиотская ситуация!» – подумал он, отметив при этом, что мадам Розалетт разглядывала его чуть дольше, чем того требуют приличия. И как будто удовлетворенно кивнула?..
Покраснев до корней волос, он помчался наверх.
Добравшись до своей двери, он обнаружил на ней нечто, чего еще пару минут назад не было.
Кто-то оставил ему записку.
Он нетерпеливо развернул листок. Узел полотенца развязался, и оно упало на пол. Но мсье Эгаре, не замечая своей наготы, внезапно открывшейся всем потенциальным взорам на лестничной площадке, читал с возрастающим негодованием:
Дорогой Ж.!
Приходите ко мне сегодня вечером на ужин. Вы должны прочесть письмо, обещайте мне это! Иначе я Вам его не верну. Не сердитесь.
Катрин
P. S. Захватите с собой тарелку. Вы умеете готовить? Я нет.
Он уже разозлился не на шутку. Но тут с ним произошло нечто чудовищное.
Левый угол рта его вдруг дернулся.
И он… расхохотался.
– «Захватите с собой тарелку! Прочитайте письмо!» – ошеломленно бормотал он сквозь смех. – «У вас никогда нет желания, Эгаре! Обещайте мне! Умри раньше меня! Обещай мне!..»
Обещания… Все женщины жаждут обещаний.
– Я никому больше ничего не буду обещать! Никогда! – крикнул он в приступе внезапной ярости.
Ответом ему была равнодушная тишина лестничной клетки.
Он с треском захлопнул за собой дверь, чувствуя глубокое удовлетворение от этого маленького акта вандализма и от сознания, что сорвал всех с теплых постелей.
Потом опять открыл дверь и немного пристыженно поднял с пола полотенце.
Хрясь! – хлопнула дверь во второй раз.
Ну, сейчас-то они уж точно все сидят вертикально в своих кроватях, как суслики.
Мсье Эгаре быстрыми шагами шел по рю Монтаньяр, и ему казалось, будто дома стоят без фасадов. Как кукольные домики, открытые с одной стороны.
Он знал каждую библиотеку в каждом доме. В конце концов, он сам их все составлял год за годом.
№ 14: Кларисса Менпеш. Такая нежная душа в таком тяжелом теле! Она любит воительницу Бриенну из «Песни льда и огня»[17].
За этой гардиной в доме № 2: Арно Силет, который хотел бы жить в двадцатые годы XX века. В Берлине. И быть актрисой.
Напротив, в доме № 5, с прямой, как свеча, спиной, за своим ноутбуком: переводчица Надира дель Паппас. Любит исторические романы, в которых женщины переодеваются мужчинами и преодолевают границы своих возможностей.
А над ней? Там вообще нет книг. Все раздарены.
Эгаре остановился и взглянул вверх на фасад дома № 5.
Восьмидесятидвухлетняя вдова Марго. Влюбившаяся некогда в немецкого солдата, которому было столько же лет, сколько и ей, когда война отняла у них юность, – шестнадцать. Как он хотел любить ее, прежде чем вернуться в окопы! Он знал, что не доживет до конца войны. Как ей было стыдно раздеваться перед ним! И как она до сих пор жалеет о том, что так и не смогла преодолеть свой стыд! Она уже шестьдесят семь лет не могла простить себе этого упущенного шанса. Чем старше она становилась, тем настойчивей вытеснял этот единственный далекий полдень, когда они, рука в руке, лежали с этим мальчиком на кровати, дрожа от возбуждения и робости, все остальные впечатления долгой жизни.
Я вижу, что состарился и даже не заметил этого. Как летит время! Проклятое, потерянное время!
Манон, мне страшно! Я боюсь, что сделал какую-нибудь жуткую глупость.
Я так постарел – всего за одну ночь! И мне так не хватает тебя!
Мне так не хватает себя!
Я уже не помню, кто я.
Мсье Эгаре медленно пошел дальше.
Перед витриной виноторговки Лионы он остановился, изумленно уставившись на свое отражение. Неужели это он? Этот высокий, просто одетый мужчина с невостребованным, нетронутым телом, который ходит ссутулившись, словно желая остаться незамеченным?
Откуда-то из глубины помещения вышла Лиона, владелица магазина, чтобы вручить ему обычный субботний пакет для его отца, и Эгаре, глядя на нее, вспомнил, что уже столько раз заходил сюда и каждый раз отказывался от предложения «пропустить по стаканчику». Поболтать с ней или с кем-нибудь другим, с нормальными, приветливыми людьми. Сколько раз за последние двадцать лет он то тут, то там предпочел пройти мимо, вместо того чтобы остановиться, разговориться с кем-нибудь, попытаться приобрести друзей, сблизиться с женщиной!
Через полчаса Эгаре стоял за высоким столом еще закрытого бара «Урк» в парке Ла Виллет. Здесь игроки в петанк парковали свои бутылки с водой и багеты с сыром и ветчиной. Маленький коренастый мужчина удивленно уставился на него:
– А ты что здесь делаешь в такую рань? Что-нибудь с мадам Бернье?.. Ну, говори – Лираб…
– Да нет, с мамой все в порядке. Она командует целым полком немцев, которые желают учить французский с настоящей парижской интеллектуалкой. Так что за нее не беспокойся.
– Немцы? А, ну да. Мадемуазель Бернье еще не один десяток лет будет в полном здравии поучать весь мир, как когда-то поучала нас.
Отец и сын замолчали, в унисон предавшись воспоминаниям о том, как Лирабель Бернье прямо за завтраком читала Эгаре, еще школьнику, лекцию об отстраненном изяществе условного наклонения и эмоциональности сослагательного. Подняв вверх указательный палец, золотой лакированный ноготь которого должен был усиливать значимость сказанного.
– Сослагательное наклонение – это когда говорит сердце. Запомни это.
Лирабель Бернье. Отец Эгаре опять называл свою бывшую жену ее девичьим именем. Раньше, во время их восьмилетнего супружества, он называл ее сначала «мадам Цап-царап», потом «мадам Эгаре».
– Ну что она велела передать мне на этот раз? – спросил сына Жоакен Эгаре.
– Что тебе надо сходить к урологу.
– Скажи, что схожу. Совсем необязательно напоминать мне об этом каждые полгода.
Они поженились в возрасте двадцати одного года, чтобы досадить своим родителям. Она, интеллектуалка из философско-экономической семьи, вешалась на шею какого-то токаря – отвратительно! Он, сын пролетариев – полицейского патрульно-постовой службы и глубоко верующей фабричной швеи, изменил своему классу, связавшись с какой-то буржуйкой, – предатель!