Головоломка для дураков. Алый круг. Семеро с Голгофы (сборник) Квентин Патрик
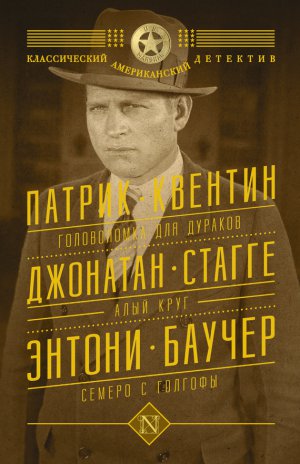
– Что ж, спасибо. – Курт заметно повеселел. – Извини, ты не сдержался. Я должен был бы сразу поблагодарить тебя за то, что вернул мне ключ. И в знак признательности расскажу тебе сейчас все.
– Все? – Какие еще меня ждут открытия, подумал Мартин.
– Но перед тем как начать… Что это за символ, что ты упомянул? Семеро… с Голгофы? Точно. Семеро с Голгофы. В газетах я ничего подобного не читал.
– А о виньярах ты что-нибудь слышал?
– Нет.
Мартин коротко передал Курту содержание рассказанной Ленноксом истории. В конце ее Курт задумчиво покачал головой.
– Что ж, всякое бывает, – с сомнением проговорил он. – Историю я знаю плохо, а о ересях – вообще ничего. Повторяю, все может быть. Но в любом случае в Швейцарии я ничего не слышал об этих – как ты их назвал? – виньярах и об их Семерке. Не думаю также, чтобы у дяди Хьюго были политические враги.
А теперь послушай, что я тебе расскажу. Ты сказал, что все знаешь про Лупе. Что ж, отдаю должное твоему уму – ты умеешь складывать кубики. По словам Моны, чувствует себя Лупе неплохо. Хотелось бы самому в том убедиться. Мне ее страшно не хватает. Но если кто-нибудь заподозрит, а генерал узнает, что… Ты ведь не выдашь нас, Мартин?
– Можешь мне доверять.
– Хорошо. Ты, верно, знаешь, что я давно люблю Лупе – почти с нашей первой встречи прошлой осенью. Мы с ней… – Курт запнулся в поисках слова и, так и не найдя его, продолжил, поощренный сочувственным взглядом Мартина, – …с рождественских каникул. Все случилось перед ее отъездом в Лос-Анджелес под самое Рождество. И с тех пор мы вместе. – Курт снова замолк. Он был не из тех, кто легко говорит о своей личной жизни – это не в последнюю очередь и нравилось в нем Мартину, – так что признание явно давалось ему с большим трудом. – О своем положении Лупе узнала месяц назад. Мы оба испугались. Казалось ведь, так осторожны были. И вот… если тайное станет явным, генерал с ума сойдет. И разразится дикий Scandal, и все будет ужасно. Мы не знали, что нам делать.
– Нужно было найти врача… но мы не знали никого, кто бы… сделал, что требуется. А спрашивать Лупе боялась, потому что люди могли догадаться, зачем ей это понадобилось. Потом, как-то вечером, Лупе случайно услышала, как одна девушка – не уверен, что она была вполне трезва – говорит своей приятельнице, что уже два раза удачно выпуталась. Так Лупе узнала имя врача. Мы не сомневались, что врач это хороший, но дорогой, потому что девушка из богатой семьи.
Ну а я тем временем написал дяде, который как раз только что приехал в Нью-Йорк, что мне очень нужны деньги, и попросил одолжить некоторую сумму. Вот что он мне ответил, сейчас покажу. – Курт встал и открыл ящик стола. Мартина охватило нетерпение. Это письмо явно должно пролить свет на мотив убийства.
– Прошу. – Курт протянул ему конверт.
– Lieber Kurt, – читал про себя Мартин, с некоторым трудом разбирая старомодный немецкий слог доктора Шеделя. – Du kannst ja garnicht wissen, wie es mich freut, zum erstenmale in Amerika anzukommen. Die frische Luft dieses freien, friedlichen Landes[44]… – Мартин иронически улыбнулся и следующие три абзаца, в которых автор послания восхищается безмятежными свободами Америки, пропустил. В докторе Шеделе причудливо сочетались глубокий ум и простодушие. – In Bezug auf Deinen letzten Brief… – прочитал он наконец и сосредоточился. Глаза у него разве что на лоб не полезли.
– «Что касается твоего письма, – продолжал (в свободном переводе) доктор Шедель, – то оно напомнило мне, что в течение долгого времени я оставлял в небрежении дела моего единственного из живых родичей. В полной мере наслаждаясь и письмами твоими, и обществом, я никогда не задумывался о том, что могу оказать тебе какую-либо помощь. Человек я небогатый, но кое-какими средствами обладаю. По-моему, я говорил тебе, что все свое состояние (если столь высокое понятие уместно в данном контексте) я оставляю нескольким швейцарским университетам и благотворительным организациям; часть его пойдет также на создание в рамках университета, где я работаю, шеделевской кафедры Всеобщего Мира (это можно счесть суетным желанием обессмертить свое имя, но, надеюсь, дело того стоит). Так что, даже признаваясь все в том же небрежении, не вижу, как бы я мог изменить завещание и лишить вышеупомянутые институты их доли; тем не менее при жизни я, разумеется, буду делать для тебя все, что в моих силах. Через две недели я окажусь в Беркли, и ты сможешь, если угодно, посвятить меня в подробности, а не хочешь – так и нет нужды. В любом случае прошу тебя воспринимать мою помощь не как заем, а как подарок. Если же она нужна тебе срочно и ждать две недели ты не можешь, телеграфируй мне сюда, в Нью-Йорк».
Дальше в письме пошла речь о расписании лекционного турне доктора Шеделя, и Мартин отложил его в сторону.
– Полиции ты это показывал? – спросил он.
– Да. Там взяли для проверки другие дядины документы, послали их на почерковедческую экспертизу, и специалист оказал мне честь, подтвердив, что письмо подлинное. Только после этого меня отпустили домой.
– Ну да, конечно, – пробормотал Мартин. Письмо устранило любые сомнения насчет мотива, какой мог бы быть у Курта. Если доктор Шедель жив, он всегда может рассчитывать на его финансовую поддержку. Если мертв, у него нет ни малейших оснований претендовать на дядины деньги.
– Наверное, лучше всего будет, – прервал молчание Курт, – если я доскажу тебе все до конца, как и сержанту Каттингу.
– А что, есть еще что-то?
– Ты же не знаешь пока, почему мой ключ оказался именно там, где ты нашел его, – напомнил Курт.
Мартин кивнул. Сочувствие к Курту на какое-то время ослабило его детективную лихорадку.
– Итак, – продолжал Курт, – пятница, вечер. После ужина я переговорил с дядей, и он пригасил меня зайти в половине десятого.
– Знаю, я слышал ваш разговор.
– Ах, вот как? Тебе и это известно? Тогда непонятно, как ты еще до сих пор не отправил меня на виселицу. – Смех у Курта получился вымученный. – Я пришел к нему в назначенное время, мы поболтали немного, а под конец он сказал:
– Курт, это тебе. – Дядя выглядел смущенным и грустным, так, словно ему было неловко дарить эти деньги. В конверте оказалась пачка двадцатипятидолларовых банкнот.
– Я не хочу вмешиваться в твои дела, – сказал он, – решил, что лучше просто дать тебе это. Если хватит, конечно, – добавил он.
– Более чем, – ответил я, – а потом все ему и выложил. Мартин, это очень хороший человек. Он все понимает… Дослушав, он сказал: «Я не люблю смерть, даже когда умирает тот, кто еще не родился. Но, может, это мудрый шаг, если смерть способствует счастью живущих». Он улыбнулся, встал и сказал: «А теперь я пойду прогуляюсь перед сном. Вези завтра свою Лупе в больницу, а потом, когда ей станет лучше, познакомь меня с ней. Мне кажется, она славная девушка, Курт».
– Мне нечего было сказать. Я взял его за руку… и поцеловал ее, как подданный целует руку своего господина. Но именно такое чувство у меня и было. Он был так добр ко мне, и я… Это был последний раз, когда я видел его живым.
Курт замолчал, а Мартин, взволнованный едва ли не так же сильно, как и его приятель, не мог найти слов, которые не прозвучали бы нестерпимо глупо и неуместно. К его удивлению, Курт, выдержав короткую паузу, возобновил рассказ:
– Времени было десять с минутами. Я быстро вернулся к себе и… разрыдался. Потом засунул конверт с деньгами глубоко в ящик письменного стола и тоже пошел погулять. Ходил я по холмам примерно час, а потом пошел назад через Панорамик-вэй. Перед этим, буквально за пять минут, я посмотрел на часы – было около половины двенадцатого.
– В какой-то момент рядом с домом Синтии Вуд я увидел мужчину, несколько походящего на дядю. Впрочем, с уверенностью не скажешь. Он был среднего роста, но сутулился и потому казался совсем маленьким. Дядя же обычно во время своих вечерних прогулок держится прямо. На мужчине был обыкновенный серый костюм. В общем, это мог быть кто угодно, а поскольку он на моих глазах постучался в дверь к Синтии, я на минуту решил, что это, возможно, Алекс. У него есть такой костюм. Я приостановился и вскоре увидел, что мужчина отходит от двери. Я был от него метрах в десяти, шагнул было вперед, а потом… – Курт замолчал. Продолжать он был явно не в силах.
– Ты хочешь сказать… ты увидел его убитым?! – не выдержал Мартин.
– Да! – выдохнул Курт. – Да! Я увидел этого замечательного человека убитым. Кто-то поджидал его за тем самым кустом, под которым ты нашел мой ключ. Он выскочил из укрытия и бросился на дядю. Дядя упал. Все кончилось до того, как я успел сдвинуться с места. Но тут рванулся вперед и вцепился в этого типа. За себя я не боялся, только о дяде думал. Убийца даже не стал пытаться нанести ответный удар. Он увернулся и бросился бежать. Я наклонился к дяде. Он был мертв. Тут я услышал, как из дома кто-то выходит и… о том, что произошло дальше, мне говорить неприятно, даже тебе, Мартин! Гордиться собой не приходится. Но… словом, я испугался. Дядя… лежит мертвый… ничего для него сделать я не могу. Но из дома выходят люди… что они могут подумать, увидев меня? Я повел себя, как дурак, понимаю, но… в общем, я только что в истерику не ударился. Помчался прочь. Бросил мертвым этого чудесного человека и пустился бежать от какого-то дурацкого страха. Минут десять – пятнадцать я не отдавал себе отчета в происходящем. Просто слепо куда-то шел, беспомощно, безнадежно, безумно… Потом все же заставил себя вернуться к людям. Пошел к тебе. Дальнейшее ты знаешь… – Курт подавил что-то похожее на рыдание и замолчал.
– И вот, схватившись с убийцей, ты и обронил ключ?
– Наверное.
– Обо всем этом ты тоже рассказал в полиции?
– Так же, как тебе, слово в слово.
– Каков он на вид, этот мужчина?
– Трудно сказать. На лице у него было что-то вроде маски из носового платка. Он поменьше меня ростом – примерно с дядю, и на нем был серый костюм, почти такой же, как у него. А в остальном – темно было, не разглядишь.
– А почему обо всем этом ничего нет в газетах?
– Сержант Каттинг сказал: «Если я сообщу прессе, что вы видели убийцу, но не смогли опознать его, он будет чувствовать себя в безопасности. Если я вопреки действительности заявлю, что вы его узнали, вы можете оказаться под угрозой. Лучше всего промолчать. Он может занервничать и совершить неверное действие».
Мартин отметил про себя, что сержант Каттинг гораздо умнее, чем может показаться на основании его публичных заявлений, обнародованных в газетах.
– Вот и все, что мне известно, – заключил рассказ Курт. – Не знаю даже, зачем я это все тебе рассказал, Мартин. Сержант Каттинг не одобрил бы такой откровенности. Но ты оказал мне услугу, – он бросил взгляд на золотой ключик, – и мне захотелось отблагодарить тебя.
– Это я должен сказать тебе спасибо, Курт, – возразил Мартин и неловко добавил: – Все это было чрезвычайно интересно. – На самом деле это было гораздо больше, чем просто интересно, только все равно, как ни прикинь, никуда не вело.
Курт взял ключ и прикрепил его к цепочке часов.
– Надо починить, – сказал он, – а то, бог знает, где я в следующий раз его потеряю.
– Остается надеяться, что найду ключ я, а не… – Мартин оборвал на полуслове готовую сорваться с губ бестактность.
– Ну а теперь, может быть, пообедаем, то есть, прошу прощения, поедим? – предложил Курт.
Мартин посмотрел на часы.
– Извини, не получится. Уже поздно, у меня скоро репетиция начинается, времени осталось только на то, чтобы гамбургер перехватить в «Белой таверне». – Он смущенно замолчал и, поколебавшись, протянул Курту руку – необычный для Мартина жест. – Что ж, удачи тебе, Курт. Да, и надеюсь, у Лупе все будет в порядке.
– Не сомневаюсь в этом. Я очень доверяю врачу, которого порекомендовала Синтия.
– Синтия?!
– Ой, извини, случайно с языка сорвалось. Пока, Мартин, и спасибо тебе за все.
Что ж, вот оно, стало быть, как все оборачивается, думал Мартин, идя на репетицию. Столь красиво построенная версия полностью развалилась. Коль скоро даже намек на мотив исчез, остальные детали находят вполне естественное объяснение.
И Мартин был рад – от души рад, что чувства его не обманули, оказались верными, а рассуждения ложными. Но если Курт невиновен, то кто убийца? Описание подойдет любому – мужчина среднего роста в маске. Что это дает? Остаются лишь две возможности, одна – маньяк, другая – агент виньяров. Мартин был вынужден признаться себе, что оба варианта, пусть вероятные, пусть даже правдоподобные, ему не по вкусу. У него имелись некие эстетические представления об убийстве, и под них не подходили ни безумие, ни тайные общества.
Он невольно, хоть к убийству это не имело никакого отношения, вспомнил, как Курт под конец разговора упомянул Синтию. Что за ее абортами стоит Алекс, такой правильный, такой положительный, поверить было трудно. А узнай он про них, что бы, интересно, сказал? Тема для размышлений, ничего не скажешь, соблазнительная, и от убийства отвлекает. Возможно, стоит как-нибудь взяться за детективный роман, целиком построенный на теме отцовства? Нет, пусть будет лучше таинственное изнасилование. В романе будет прекрасная сцена, где шаг за шагом раскрывается преступление, а детектив, как положено, разыгрывает действия преступника.
Несмотря на то, что гамбургер пришлось буквально заглатывать, в Уиллер-холл Мартин немного запоздал. Репетиция уже началась, и Дрексель приветствовал его нельзя сказать, чтобы с почтением, положенным переводчику и одновременно актеру. Пол находился на сцене, как всегда, несколько раздраженный тем, что ему не позволяют исполнять роль с трубкой во рту.
– Наконец-то, Лэм, – нетерпеливо проговорил Дрексель, – в конце концов, это ваша пьеса, так что подключайтесь.
Мартин подключился послушно и так живо, что, целиком погрузившись в своего «Возвращающегося Дон Кихота», совершенно забыл о Семерых с Голгофы и своем к ним интересе. Едва ли он представлял, что в недалеком будущем эти две линии сольются в одну.
5. Ватсон в роли Лотарио
– В своем кратком описании тайны Айлингтона, – заметил доктор Эшвин, – Артур Мейчен утверждает, что вкусы публики капризны и причудливы. Собственно, это подтверждает и наш случай.
Дело происходило в пятницу вечером, ровно через неделю, почти час в час после убийства доктора Хьюго Шеделя. Мартин, вымотанный тяжелой репетицией, столкнулся с Алексом, которого долгие часы работы в лаборатории утомили почти так же сильно, и они вместе решили нанести краткий визит доктору Эшвину.
Разговор, который поначалу крутился вокруг таких предметов, как, например, самые смешные из последних выказываний восьмилетней Элизабет или авторитетные суждения Эшвина против идеи перевода на английский шедевров Бравабхути, с неизбежностью пришел к убийству и Семерым с Голгофы. Эшвин, для которого распутать хитросплетения этого местного убийства стало делом едва ли не личного престижа, в данный момент изливал желчь на любителей газетного чтива.
– Убийство доктора Шеделя, – рассуждал он, – это убийство незаурядное и мастерски совершенное. Характер жертвы, отсутствие мотива, странная графика на листе бумаги, оставленном на теле, – все это вместе создает на редкость интересный ребус. Между прочим, мистер Лэм, как так получилось, что газеты докопались до истории Семерых с Голгофы? Мистер Леннокс вроде бы был твердо настроен не предавать ее гласности.
– Думаю, это дело рук Уортинга, – сказал Мартин. – У него глаза засверкали, когда Пол заявил, что своя жизнь ему дороже гражданского долга. Помнишь, Алекс?
– К тому же, – добавил Мартин, – ему скорее всего известны газетные расценки.
– Что ж, весьма вероятно, – согласился Эшвин. – А как мистер Леннокс отнесся к тому, что опасные для него сведения были обнародованы, занервничал?
– Я оказался рядом, когда он читал газету, – откликнулся Алекс. – Убедившись, что имя его не названо, Пол вздохнул с облегчением. Но признание швейцарского консула, что он ничего не знает о виньярах, кажется, сильно удивило его.
– По-моему, он подозревает консула в том, что тот сам виньяр, – улыбнулся Мартин. – Эти Семеро с Гологфы становятся для него манией.
– Ясно. – Доктор Эшвин уселся поудобнее на вращающемся стуле. – Тем не менее даже столь романтические откровения не сильно заинтересовали читателей. На протяжение минувшей недели убийство, совершенное с помощью ледоруба, не сходит с первых полос всей здешней печати. Оно по-прежнему не раскрыто, а…
– Вот именно, – грустно кивнул Мартин. – Теперь газеты полностью переключились на другое убийство – в Двурожье.
– А что оно дает человеку, разбирающемуся в убийствах? – вздохнул Эшвин. – Заурядное, хоть и жестокое crime passionel[45], полностью лишенное тайны и психологических тонкостей. В машине найдено обнаженное тело женщины. Она убита. В пяти ярдах от дороги обнаружена винтовка. Выяснилось, что и машина, и оружие принадлежат некоему женатому господину, по слухам, любовнику убитой. На оружии и остались его отпечатки – мыслимо ли вообразить подобное в век детективных романов! – и, наконец, он сам признается в содеянном. Вот вам и все убийство в Двурожье, и оно занимает журналистов настолько, что они совершенно забывают о Семерых с Голгофы. – Эшвин снова вздохнул и неловко переменил позу. – Господа, – торжественно заявил он, – только еще один бокал виски способен удержать меня от слез при мысли о прискорбном падении нынешних нравов. Кто со мной?
Мартин и Алекс с подобающей ситуации тоской во взоре присоединились к хозяину.
– Лично я вижу этому только одно объяснение, – продолжал доктор Эшвин. – Обнаженное женское тело, обнаруженное в Двурожье, заставляет людей думать не о географии, а о физиологии. Право, похоть превращается в смазочный материал общественного сознания. – Он погрузился в мрачное молчание.
– Доктор Эшвин… – осторожно начал Алекс.
– Да, мистер Брюс?
– Я слышал от Мартина, что вас не оставила равнодушным смерть бедного доктора Шеделя. Есть какие-нибудь новые идеи на сей счет?
– Никаких идей, мистер Брюс, разве что некоторые самоочевидные факты. То обстоятельство, что власти эти факты игнорируют, безусловно, вызывает сожаление, ибо отсюда следует, что скорее всего это первое убийство так и не будет раскрыто.
– Первое убийство… – с некоторой тревогой повторил Алекс.
– Давайте посмотрим фактам в лицо, мистер Брюс. Мистер Лэм, наверное, помнит, что мы с ним прошлись по краткому перечню возможных мотивов убийства. «Ревность», «месть» и «устранение» мы, исходя из характера жертвы, исключили. Выгоду поначалу отбрасывать не стали – во всяком случае, не стал мистер Лэм – полагая, что ее может извлечь из смерти доктора его племянник Курт Росс. Но тот же мистер Лэм большую часть нашего последнего занятия, которую лучше было бы отдать Махабхарате (суровые выражение, появившееся на лице Эшвина, особенного эффекта не возымело) посвятил аргументации в пользу того, что у мистера Росса ни этого, ни какого-либо иного мотива быть не могло. Эмиссаров же швейцарских благотворительных организаций, которые одни только могли выиграть от смерти доктора, подозревать в убийстве, согласитесь, трудно.
Таким образом, в качестве возможных мотивов остаются «приговор» и «жажда убийства». Приговор мог быть вынесен только виньярами, но у меня крепнет ощущение, что в данном случае богатое воображение и страсть исследователя заставляют мистера Леннокса искать слишком сложные объяснения на основании знакомства с довольно элементарными источниками. Очень жаль, конечно, что упомянутых им работ Урмайера и Курбранда в нашей университетской библиотеке нет. Остается, положим, еще одна, последняя, возможность: убийство совершено маньяком. Но чтобы маньяк, о котором в Беркли никто и никогда не слышал, способен убить едва появившегося в городе швейцарского эмиссара, да еще оставить на месте преступления символику, связанную с историей Швейцарии, – нет, такое предположение представляется слишком смелым. – Эшвин замолчал и потянулся за сигаретой.
– В таком случае что же остается? – не без оснований осведомился Алекс.
– Что остается, мистер Брюс? Остается факт – бьющий в глаза, устрашающий факт – факт в елизаветинском смысле слова – сокрушительный провал всего этого предприятия – тот факт, что убили не того человека.
У Алекса отвалилась челюсть, и он поспешил допить виски. Мартин, чего-то подобного ожидавший, почувствовал тем не менее потребность в очередном глотке.
– Не того? – с трудом вымолвил Алекс.
– Доктор Шедель был мужчина среднего роста, одет неброско, обычно. Ночь, темно, да в Беркли найдется с дюжину таких, кто выглядит точь-в-точь, как он. Убийца просто сделал небольшую ошибку – убил другого. Это вполне объясняет отсутствие мотива, и именно поэтому я говорю, что смерть доктора Шеделя – это только первое убийство.
– Вы хотите сказать, что?..
– Я хочу сказать, мистер Брюс, что убийца скорее всего не отказался от своего первоначального намерения и не оставит вниманием намеченную жертву. Каковы бы ни были его мотивы, смерть доктора Шеделя их не устранила. Тот факт, что случайное убийство оказалось успешным в том смысле, что убийца по-прежнему пребывает на свободе, лишь послужит дополнительным стимулом для повторной попытки.
– Я не склонен, – продолжал Эшвин, – чрезмерно разделять распространенное суждение, будто убийство порождает убийство – то есть удачливый убийца скорее пойдет на преступление, чем кто-либо иной. Большинство проживают жизнь, не сталкиваясь с серьезной причиной убивать более одного или двух людей. И, совершив это необходимое им убийство, они, на мой взгляд, как раз менее склонны вновь пойти на преступление, нежели те, кто еще не брал в руки оружие. Ну, всякие там Ландрю и Смиты[46], те, для кого убийство стало едва ли не профессией или по крайней мере хобби, – дело, конечно, иное.
Но в данном случае это единственное убийство как раз не было совершено. Кто-то из тех, кого нужно убить, – во всяком случае, с точки зрения джентльмена, принадлежащего Семерке с Голгофы, – все еще жив. Я буду весьма удивлен, если еще одна загадочная смерть в Беркли не вытеснит своим чередом с газетных полос убийство в Двурожье.
– Знаешь, – сказал Алекс Мартину по пути домой, – по-моему, он прав.
Субботу Мартин, у которого в тот день не было репетиции, провел с Моной. Они пообедали вместе – уже в третий раз на этой неделе, – потом отправились на озеро Меррит покататься на лодке. Мартин сидел на веслах, а Мона напевала одну за другой печальные креольские песни и нравилась ему все больше и больше.
Обедали они – на сей раз, по мнению Мартина, такое определение было вполне уместно – в «Капри», заказав, дабы поспособствовать улучшению пищеварения, и не только, бутылку кьянти. Когда дело дошло до кофе с ликером и сигарет – Мартин предпочел бы сигару, но вовремя сообразил, что выглядел бы с ней довольно нелепо, – Мона поинтересовалась:
– А что это за вечеринка, куда ты меня ведешь сегодня вечером?
– У Морриса.
– Это что, идиома такая? – озадаченно спросила Мона.
– Ну да, в Беркли так говорят, – хмыкнул Мартин. – Или, пожалуй, не идиома, а идиотема, если на испанский перевести. Я что, не говорил тебе раньше про Морриса?
– По-моему, нет. А кто это?
– Да я и сам толком не знаю. Не знаю даже, как его зовут. Это довольно состоятельный человек, считающий себя филологом. Живет он в верхней части города, у него очень симпатичный особняк, а работает, вернее, занимается псевдофилологическими изысканиями – в университете. Вечеринки же – это его хобби.
– И часто он их устраивает?
– Фактически не устраивает вообще. Это мы хозяйничаем у него дома. Звонишь ему и говоришь: «Мистер Моррис? Это Мартин. Вы в субботу вечером дома?» Он отвечает: «Да. Почему бы вам не прихватить нескольких друзей и не посидеть у меня?» Вот тебе и вся вечеринка у Морриса.
– Занятно должно быть, – рассмеялась Мона.
И верно – занятно. Когда Мартин с Моной добрались до места, там уже было десять – двенадцать гостей и примерно столько же постепенно подошли по ходу встречи, – к тому времени кое-кто из первой дюжины уже ушел. Компания подобралась пестрая. Синтия и Алекс, Мэри Робертс и некто Чак Уизерс (друзья Мэри ему никогда не нравились, но он нарочно участвовал в их встречах, дабы продемонстрировать свое превосходство), Пол в своем обычном женоненавистническом одиночестве, несколько супружеских пар, в том числе доктор Иван Лешин и его симпатичная жена Таня. Курт тоже был приглашен, но предпочел остаться лома – наедине со своими переживаниями. (Лупе, поделилась Мона с Мартином, встает на ноги быстрее, чем можно было ожидать.) Борицына, напротив, никто не звал, но он все равно пришел.
Появления Моны и Мартина никто особенно не заметил. Играла музыка. Борицын неловко танцевал с Синтией танго. Всем хватало своих дел, чтобы обращать внимание на вновь прибывших.
Рассеянно кивая направо и налево, Мартин пробирался к хозяину, который, не обращая внимания на танцы, объяснял совершенно равнодушному к этому вопросу Чаку Уизерсу этимологию одного из терминов игры в гольф – stymie; оказывается, оно происходит от греческого stigma, в значение «вина» или «грех». Мартин прервал этот увлекательный монолог, чтобы представить Мону, и Моррис, бросив на нее одобрительный взгляд и спросив: «Виски, вино?», стремительно удалился на кухню.
Вскоре он вернулся с виски для Мартина и «Анжеликой» для Моны и почти сразу же вернулся к прерванному разговору. Эта этимология, настаивал он, ясно указывает на то, что грекам был знаком гольф.
Мартин протискивался вместе с Моной сквозь скопление гостей и в конце концов отыскал большую подушку на полу рядом с настежь раскрытым окном. Здесь они и устроились, скорее удобно, нежели изящно. Как раз в этот момент закончился танец и раздались аплодисменты. Кто-то поставил новую пластинку – вальс Штрауса, Wienerblut[47]. Мартин допил виски, растянулся на подушке почти во весь рост и посмотрел снизу на Мону. Она улыбнулась ему. А он начал декламировать про себя «Небесную подругу»[48].
Но погружение в мир прерафаэлитов было остановлено мужским голосом, пожелавшим ему с сильным славянским акцентом доброго вечера. Мартин поднял голову и увидел доктора Лешина, взиравшего на него с улыбкой.
– Привет, – буркнул он, явно не выказывая уважения, какового достоин профессор, преподающий в Беркли по программе обмена. – Наслаждаетесь жизнью?
– Ну да. – Доктор Лешин сверкнул безупречно белыми зубами. – Занятная вечеринка, верно?
– Так обычно и бывает. Никто ни за кем не ухаживает, и всем хорошо. О, прошу прощения. Мисс Моралес – доктор Лешин.
Славянин непринужденно поклонился, отнюдь не пытаясь скрыть мелькнувший в его глазах огонек. Только тут Мартин с некоторым раздражением сообразил, почему гость из Праги подошел к нему. Мона с некоторым смущением улыбнулась в ответ.
– Как миссис Лешин? – с нажимом поинтересовался Мартин.
– Да все отлично. – Доктор Лешин обежал взглядом комнату. – Вон она, веселится вовсю.
Мартин посмотрел в ту же сторону и увидел стройную, ослепительную в своем развевающемся платье Таню Лешину. Она танцевала вальс Штрауса с Полом, которому, судя по виду, это занятие было явно не по душе. Что-то в голосе доктора Лешина позабавило Мартина. Оказывается, если дело касается жены, этот неисправимый ходок вполне способен на ревность – даже к Полу, а скорее – к Штраусу.
– Вы видели последний советский фильм, мистер Лэм, его в Сан-Франциско показывают? – спросил доктор Лешин, с трудом отводя взгляд от танцующей пары, и, услышав отрицательный ответ, пустился в нудный, впрочем, проницательный анализ его достоинств. Речь его, однако, была прервана появлением Борицына.
– О чем это вы тут говорите, доктор Лешин? – спросил аристократ-изгнанник.
– О новом советском фильме. На мой взгляд, это, возможно, самый…
– Доктор Лешин! – Борицын, казалось, был оскорблен до глубины души. – Немыслимо, чтобы человек вашего интеллектуального уровня попался на удочку пропаганды Советов, которой они хотят нас отравить! В моих глазах…
– Мартин… – прошептала Мона.
– Да?
– Если они будут продолжать в том же духе… мне бы еще немного вина.
Незаметно для русских диспутантов, которые быстро разгорячились настолько, что английских слов уже не хватало, чтобы выразить всю глубину чувства, Мартин подхватил бокалы, свой и Моны, и отошел в сторону. По пути он заметил, что очередной несчастной жертвой филологических разысканий мистера Морриса стала Синтия.
Мартин вошел в кухню, завертел головой в поисках спиртного и наконец увидел выстроившиеся в ряд бутылки. Наполняя бокалы, он почувствовал на плече прикосновение чьей-то ладони, обернулся и увидел, что это Синтия.
– Сигареты не найдется? А то у меня кончились. – Он охотно протянул ей пачку. – И уж раз ты все равно виночерпием работаешь, может быть, и мне нальешь?
– «Анжелику»?
– Да боже упаси. А что, твоя креолочка «Анжелику» предпочитает? – Синтию передернуло. – Нет, мне бурбон. Неразбавленный.
Дождавшись, пока бокалы будут наполнены, Синтия подняла свой: «За филологию!» – и залпом опорожнила его. Мартин последовал ее примеру.
– Уф! – выдохнула Синтия. – По часам десять минут, а по ощущению десять часов я слушала лекцию о том, что слово bosom (грудь) того же происхождения, что и слово besom, потому что швабские крестьяне были плоскогруды и, чтобы расширить объем груди, дышали через соломенную трубку. Какое счастье, что я не швабская крестьянка! – Она не без удовлетворения скосила взгляд на свою пышную грудь.
– Ты не одна, кого это радует, – осторожно подхватил Мартин.
– Очень мило с твоей стороны, дорогой. Я и не думала, что ты обращаешь внимание на такие вещи. Подумать только, неужели этот деятель действительно верит в весь этот словесный мусор!.. Слушай, Мартин, – Синтия внезапно круто сменила тему, – тебе нравится миссис Лешин?
– Я почти не знаю ее. Был у них дома не больше одного-двух раз. Хозяйка она хорошая… как будто неглупа.
– Ты же знаешь, что я не про это спрашиваю. Как она тебе как женщина – привлекательная?
– Ну, это что кому нравится. На мой вкус, пожалуй, немного худощава.
– Худощава? Да что же ты за человек, Мартин, всегда всем угодить хочешь! Худощава? Да она просто худышка, кожа да кости, она… швабская крестьянка! – Синтия налила себе еще виски и, довольная своим mot juste[49], залпом выпила.
– Что-то я не пойму… – Мартина удивила эта внезапная вспышка.
– Мартин, дорогой, а ты вообще когда-нибудь что-нибудь понимаешь? Ладно, беги к своей креолочке, она заждалась «Анжелики». А тетя Синтия пока побудет тут наедине со своим бурбоном.
Вытянув вперед руки с полными бокалами, Мартин вернулся в гостиную. Какая-то добрая душа, нашедшаяся посреди всей этой толчеи, следила за граммофоном, твердо придерживаясь одного и того же репертуара: Штраус-Легар-Кальман. Обнаружив, что подушка у окна опустела, Мартин поискал глазами вокруг и увидел Мону вальсирующей с доктором Лешиным. Это его раздосадовало: следующим чувством было досада на эту досаду.
– Ну и что ты обо всем этом думаешь, Мартин? – услышал он голос Алекса.
– Я думаю, – едва не сорвалось у него с языка, – что тебе стоило бы пойти на кухню и позаботиться о том, чтобы Син перестала валять дурака, – но он сдержался – не его это дело – и просто спросил:
– Обо всем – это о чем?
– О фантазиях твоего любимого доктора Эшвина, – ответил вместо Алекса Пол.
– Я как раз рассказывал Полу, – пояснил Алекс, – об идеях, что развивал вчера вечером доктор Эшвин.
– Мне они кажутся довольно разумными, – пожал плечами Мартин.
– Разумными? – Пол с особенной силой запыхтел трубкой. – Дорогой мой Мартин, это тебе не детективный роман. Жизнь одними только логическими построениями не вычислишь. Если что-то кажется разумным, но на самом деле представляет собой фантазию, то тут и рассуждать не о чем.
– И все же мне кажется, что в его словах может заключаться правда, – спокойно возразил Алекс.
– Ну, наши мнения вряд ли так уж интересуют убийцу, – заключил Пол. – Бесплодный спор.
За весь вечер это было единственное упоминание об убийстве, и все же Мартина не покидало ощущение, что в этом кратком обмене репликами сквозил важный смысл, который ему никак не удавалось ухватить. Быть может, утешал он себя, все дело в бурбоне.
Музыка оборвалась, и он увидел направляющуюся в его сторону Мону. Доктор Лешин, галантно поцеловав даме руку, поспешил на выручку жене, которую, судя по жестикуляции, Борицын втянул в очередную дискуссию по поводу упадка русского балета.
– Спасибо, Мартин. – Мона взяла протянутый ей бокал. – Пошли присядем где-нибудь.
Подушку у окна успели занять Чак и Мэри, но они пристроились на полу подле рояля.
– Мартин, ради бога, – серьезно сказала Мэри, потягивая вино, – не оставляй меня больше с ним одну, даже если я попрошу принести мне еще бокал.
– А что, он такой зануда?
– Нет, нет, вовсе не зануда. – Мона помолчала. – Просто мне не нравится танцевать с ним. Он… он неважно танцует…
Мартин кивнул. Ему уже приходилось слышать такого же рода отзывы о докторе Лешине, и он молча выругал себя за то, что бросил Мону, пусть и по ее же просьбе.
Какое-то время они сидели, не говоря ни слова, а просто покуривая, попивая вино и слушая музыку. Незаметно ладонь Моны скользнула в ладонь Мартина, и девушка вдруг встрепенулась.
– Потанцуй со мной, Мартин, пожалуйста.
– Видишь ли, танцор из меня ужасный, так что…
– Неважно. Просто я вижу, что сюда идет этот твой русский профессор, и…
Доктор Лешин выглядел слегка растерянным. Он немного опоздал, и ему оставалось лишь наблюдать, как Мартин делает с Моной первый тур вальса. Это был удивительный вальс Кальмана «Сари», и его колеблющийся ритм наполнил Мартина чувством какой-то необычной отрешенности. Пол, заметил он, снова танцует с Таней Лешиной, а ее мужа заарканил хозяин – не иначе как на предмет выяснения некоторых вопросов славянской филологии. Доктор Лешин тоскливо оглядывал гостиную, останавливаясь на каждой привлекательной девушке и между делом тщетно пытаясь рассеять давнее заблуждение мистера Морриса, уверенного в том, что финский язык – всего лишь диалект русского. Мартин смеялся и бодро покачивался в ритм музыке. Он купался в атмосфере интернационального веселья, коего ингредиентами были американский бурбон, венгерская музыка и боливийская улыбка.
– Мартин, – прошептала Мона, мягко прикасаясь к нему щекой, – ты был прав, танцор из тебя никудышный.
Радость прошла. Мартин остановился и застыл с комически-скорбным выражением лица.
– Извини. – Мона негромко рассмеялась. – Но ведь так оно и есть, – и словно смягчая свои слова, добавила: – Может быть, выйдем, подышим свежим воздухом?
Что верно, то верно, свежего воздуху и впрямь не хватало. Как ни распахивай окна, в помещении, где, не переставая, дымит как минимум дюжина курильщиков, дышать трудно. Взяв Мону за руку, Мартин повлек ее наверх и через какую-то нежилую комнату вывел на узкий балкон. Вечер был прохладный. Луны не видно, но особенно ярким казался здесь, на вершине холма, где не было раздражающего света уличных фонарей, блеск звезд. По заливу скользили паромы, вдали угадывались огни Сан-Франциско. Снизу, из гостиной, доносились приглушенные звуки вальса.
– Красиво-то как, – вздохнула Мона. – И лишь из красоты печаль…
Мартин повернулся к ней. При свете звезд ее оливковая кожа приобрела цвет слоновой кости, а волосы – черного янтаря.
– А твоя красота, Мона… это тоже печаль?
– Давай помолчим, ладно?
Так они сидели, не говоря ни слова, глядя на дрожащее поблескивание далеких огней, и в какой-то момент Мона запела. Это были «Четыре кукурузных поля», самая, как часто думал Мартин, печальная из мексиканских народных песен. Сливаясь с тревожным медленным ритмом вальса, печаль эта, казалось, обволакивала их:
- …toditito se acab.Ау!..
Мартин взял Мону за руку. Рука была холодна и безжизненна.
- …ni hiedras, ni flores. Todito muri…
Тут голос Моны поднялся до мольбы, звучащей во второй части:
- …Me prestaras tus ojos, morena,
- en el alma los llevo que miren alv…
Ее чуть приоткрытые губы казались темными при свете звезд. Под легкой тканью платья обозначились маленькие груди.
- …los despojos de aquella casita
- tan linda y bonita…
Мартин почувствовал, что ее пальцы постепенно согреваются в его ладони.
- …lo triste que est…[50]
Он поцеловал ее. На мгновенье ее губы прижались к его губам, словно растворенное в песне сильное чувство перетекло в поцелуй. Но уже в следующий миг она отстранилась и с упреком посмотрела на него.
– Мартин… – Он сделал движение в ее сторону, но она жестом остановила его. – Ты ведь не любишь меня, Мартин…
– Нет, – честно признался он. – Но разве это имеет такое уж важное значение? Ты мне нравишься. Ты такая милая, славная, очаровательная…
– И я тебя тоже не люблю, – продолжала Мона, будто не слыша его. – А без любви целоваться нельзя.
Это показалось Мартину явным преувеличением, но возражать он не стал.
– Лучше уж то, что сделала Лупе… что она сделала по любви, чем такая малость, как у меня, но без любви. – Мона снова замолчала. – Мартин, мы друзья?
– Ну, конечно!
– Тогда идем в дом.
Она протянула ему руку.
Вернувшись в гостиную, Мона с Мартином по обоюдному согласию разделились. Она пошла танцевать с Чаком, а он поплелся в кухню.
Там он обнаружил Пола. С неизменной трубкой во рту, он слушал разглагольствовании Синтии, которая оставила всякие попытки казаться трезвой. Ее речи с приходом Мартина оборвались, но он успел понять, что сосредоточены они были по-прежнему на мальчишеской фигуре Тани Лешиной – тема, судя по всему, не давала ей покоя.
Пол встал и побрел в гостиную.
– Твоя очередь, Мартин, – бросил он напоследок. – Синтии определенно надо перед кем-то выговориться.
Не говоря ни слова, Мартин плеснул себе в бокал виски. Его раздирало детское желание набраться, чтобы доказать самому себе, будто сцена на балконе его ничуть не задела.
– В чем дело, Мартин? – в одно слово проговорила Синтия, видя, с какой убежденностью он заливает в себя спиртное.
– Ни в чем.
– Да нет, что-то случилось. Скажи Синтии, что.
– Все в порядке, отстань.
– Смотри-ка, сердится! Славный добрый Мартин сердится! Уж не в креолочке ли дело? Мне она показалась симпатичной девочкой, Мартин. А ты что же, повел себя как-то не так? Надо бы ей было предложить выпить бурбону, с «Анжеликой» ничего не добьешься.
Мартин вновь наполнил бокал.
– Хорошая мысль, Мартин. Давай-ка еще по одной. За тебя, за меня и еще за… Нет, только за нас двоих. Итак, за… за… словом, за!
Они выпили одновременно. Мартин издал нечленораздельный звук. Бурбон был отнюдь не высшего качества.
– Нечего кривиться, Мартин! Хорошее виски. Или мы не в настроении? Да нет! Нет! Тысячу раз нет! – И Синтия, безбожно фальшивя и перевирая слова, громко запела популярную песенку про Арчи и Мехитабль – таракана и кошку.
Мартину становилось получше. Бессмертный дух Мехитабль постепенно овладевал им.
– Какого дьявола, Арчи! – воскликнул он. – Toujours gai, малыш, toujours gai![51]






