Головоломка для дураков. Алый круг. Семеро с Голгофы (сборник) Квентин Патрик
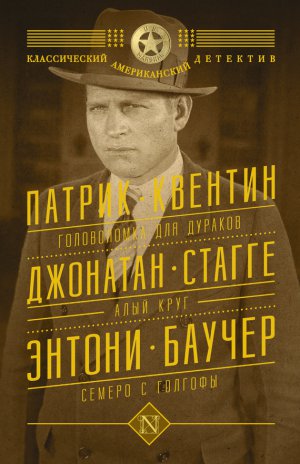
– Заходите, – бросил он спутникам, – а я найду эту штуку и присоединюсь.
Прошло несколько минут, прежде чем Мартин вошел в гостиную. Мэри Робертс тщетно пыталась остановить поток воспоминаний Уортинга о том, как он играл в Канаде в регби, так что появление Мартина оказалось весьма кстати. Это был красивый выход. Грязные следы на коленях безупречно чистых во всем остальном фланелевых брюк, в волосах застряли тонкие веточки. Но портсигар благополучно вернулся на свое место, а в другом кармане еще более благополучно покоилось нечто, болтавшееся до того, как он его увидел, на ветке, с невидимой стороны куста, то, что просмотрела полиция, увлеченная поисками стилета. Теперь Мартин знал, где Курт Росс потерял ключ – знак принадлежности обществу «Фи Бета Каппа».
– Без двадцати, – объявила Мэри Робертс, нарушая внезапно наступившее молчание. Последовала, как обычно бывает в таких случаях, сверка часов и общий гул: как странно, мол, тишина всегда наступает либо без двадцати, либо в двадцать минут чего-то. И снова все замолчали.
– Знаешь, Мартин, – заговорил после паузы Алекс, мужественно решивший подбросить дровишек в потухший костер, – я тут все думаю, что это за пьесу ты написал, что вы ставите в Малом.
– Я бы не сказал, что это моя пьеса. Я просто перевел ее. А написал пьесу испанец, Хосе Мария Фонсека. Последний из романтиков начала двадцатого века. Очень сочная, не без непристойностей. Озаглавил автор пьесу «Don Juan Redivivo». Роскошное название, но толком перевести его я так и не смог и остановился на «Возвращении Дон Жуана».
– И Пол у тебя звезда? – с некоторым скепсисом в тоне осведомилась Синтия.
– Да, но вместе с тем он ученый-историк. Сейчас занимается исследованием легенды о Дон Жуане.
– Правда? Расскажите нам про нее, Пол! – Не то чтобы Мэри была так уж интересна легенда о Дон Жуане, но из суеверия ей не хотелось, чтобы вновь установилось мертвое молчание на сей раз в двадцать минут чего-то.
Рассказ Пола оказался лаконичным и занимательным. А когда он закончил и налил себе очередную чашку чая, случилось то, чего все так ждали.
– Слушай, Пол, дружище, ты так много знаешь про всякие чудные вещи, может, поделишься, что означает этот символ? – Конечно, это был Уортинг, кто же еще? Только тут, слишком поздно, Мартин вспомнил, что не предупредил его.
– Что за символ? – небрежность, с какой Пол задал этот вопрос, показалась несколько наигранной.
– Что за символ! Какого черта, а то вы все не знаете, – эта бумаженция с рисунком, которую нашли рядом с телом доктора Шеделя.
Ну, все, подумал Мартин. Казалось, у Синтии побелели губы, настолько сильно, будто перекусить решила, она впилась в чашку. Алекс и Пол посмотрели на Уортинга с откровенной враждебностью. Наступила тишина, и никто даже не подумал, что сейчас еще не двадцать, а пять минут чего-то.
Мэри первой прервала молчание.
– О господи, – с усилием заговорила она, – дурака-то валять не надо. Всем известно, что бедняга мертв, как всем известно, каково нам с Синтией было найти его у крыльца этого дома. Так отчего бы не сказать об этом открыто?
Все почувствовали облегчение. Синтия отставила чашку и потянулась за сигаретой. Она выдавила из себя улыбку и, постукивая мундштуком по столу, ровно спросила:
– Ну так как, Пол, поделишься?
– Чем?
– Известно тебе что-нибудь про этот символ?
– Странно слышать от тебя этот вопрос. Весьма возможно, я единственный в Беркли, кому известно, что он означает.
Это спокойное заявление вызвало именно ту реакцию, о которой Пол, возможно, мог только мечтать.
– Ну, не единственный, – поправил его после секундной паузы Мартин. – Есть еще тот, кто направил это послание.
– Не уверен, Мартин. Полагаю, что и ему, вполне вероятно, неведом исчерпывающий смысл Семерых с Голгофы.
При слове «Голгофа» Мартин вдруг понял, отчего рисунок с самого начала навел его на мысль о кресте. Он представил себе геральдическую фигуру, поставленную на три ступени.
– Крест Голгофы, – пробормотал он.
– Вот именно, – подтвердил Пол. – Я молчал, потому что, как справедливо заметила Мэри, валял дурака. Но уж поскольку все мы сняли табу с этой темы, могу, если угодно, поведать историю этой символики.
Послышался общий гул согласия, за которым последовала мгновенная пауза, когда все зажигали сигареты и трубки, а Мартин машинально теребил в кармане ключ. Пол начал повествование.
– Должен предупредить, – сказал он, – что история эта длинная, рассказывать ее можно до конца дня. Так что, если кто не готов слушать так долго, пусть идет, а еще лучше, бежит к ближайшему выходу. Таковых не имеется? Тогда приступим. Впервые я столкнулся с этим делом, когда прошлым летом занимался одной исследовательской работой в Чикагском университете. Некоторые из вас знают, что меня всегда интересовали ранние, как их называют, христианские ереси, хотя должен признаться, иные из разысканий неизменно заставляют меня саму Церковь считать павликанской ересью.
– Да благословит тебя Господь, Пол Леннокс, – прервала его Синтия, лукаво подмигнув Мартину как единственному среди присутствующих церковному прихожанину. – Ты явно заслужил приглашение на ужин. Услышь это папаша, ему бы пегие котята за столом померещились.
– Спасибо, Син. Ладно, попиваю я как-то вечером в Чикаго пиво с молодым парнем по имени Жан Штауфахер. Это швейцарец, откуда-то из-под Лозанны, в Чикаго приехал по обмену. Ереси были для него, как и для меня, чем-то вроде хобби. Мы толковали о самых разных сектах, от неминианцев до мандеев, от манихеев до катаров. И вот, кажется, в связи с неминианцами он вдруг спросил, не слышал ли я чего-нибудь о виньярах.
На слух это слово прозвучало как-то необычно, и, наверное, большинство из вас решило, что речь идет о «виноградарях». Так показалось и мне в разговоре со Штауфахером. «Что за виноградарь? – спросил я. – Навуфей?[35]»
– Да нет же, – сердито ответил он. – Не виноградарь и не виноградари, а виньяры – странная швейцарская секта, названная по имени ее основателя – Антона Виньи. – И он рассказал мне о ней то немногое, что узнал от своего деда, ее члена, павшего впоследствии жертвой вероотступничества. Помимо того он отослал меня к паре имеющихся в университетской библиотеке редких книг, где я нашел несколько подтверждающих его рассказ подробностей.
– Дед погиб, говоришь? – переспросил Мартин.
– Да. Это случилось в тысяча девятьсот двадцатом году, вскоре после плебисцита по поводу образования Лиги наций. Виньяры – а они, как вам вскоре станет ясно, проявляли активность не только в религии, но и в политике – вели тайную кампанию против Лиги. Штауфахер-дед, который уже давно вышел из секты, пригрозил разоблачениями некоторых sub rosa[36] действий виньяров. Так он подписал себе смертный приговор.
– И как же приговор был приведен в исполнение? – спросил Алекс.
Пол нерешительно посмотрел на Синтию.
– Говори, – настойчиво попросила Мэри. – Надо полагать, его закололи со спины ледорубом.
– Не ледорубом, но, верно, закололи, закололи со спины. Рядом с телом обнаружили знак Семерых с Голгофы. Убийцу так и не нашли.
Уортинг молчал. Слишком долго молчал.
– Слушай, Леннокс, старик, – вклинился он в разговор, – ну и что все это нам дает? Ты тут разглагольствуешь о виньярах, Семерых с Голгофы, дедах там всяких, но на самом-то деле ничего нам не говоришь.
– Терпение, Уортинг, – остановил его Мартин. – Пол просто выстраивает драматургию – мое влияние в духе Макиавелли. Не перебивай его. Пол, ты сказал что-то о двух редких книгах из университетской библиотеки, посвященных этому предмету.
– Да. Это «Volksmythologie der Schweiz» Вернера Курбранда и «Nachgeschichte des gnostischen Glaubens» Людвига Урмайера. Обе были опубликованы в Германии в конце восьмидесятых годов и с тех пор не переиздавались.
– Прошу прощения, Пол, – проворчал Алекс. – Эти перекатывающиеся немецкие звуки хороши для тебя с Мартином, но и остальным бы хотелось понять, что они означают.
– Хорошо, – улыбнулся Пол. – Итак: Курбранд «Народная мифология Швейцарии» и Урмайер «История гностических верований». Объединив кое-какие фрагменты этих книг – всего лишь второстепенные отсылки – с тем, что поведал мне Жан Штауфахер, я как раз и получил некоторое представление о виньярах. Я сделал тогда огромное количество выписок – старая академическая привычка – и, натолкнувшись вчера в газетах на упоминание о Семерых с Голгофы, естественно, все вспомнил. Ну что за несчастье с этой трубкой, все время гаснет!
Все были настолько заинтригованы, что никто – даже Ричард Уортинг – не сказал ни слова, пока Пол тщательно, пожалуй, даже чуть дольше, чем это было необходимо, раскуривал трубку.
– Швейцарская история, знаете ли, – заговорил он, наконец, – не такая уж идиллия, как о том можно судить по нынешней безмятежной жизни этой страны. Всякие конфликты возникали, и религиозные, и политические. Тот, о котором говорим мы с вами, корнями уходит в начало четвертого века, когда в Швейцарии впервые утвердилось христианство.
Первым епископам приходилось нелегко. Они были вынуждены не только противостоять язычеству, но и яростно сражаться с гностиками в собственных рядах. Затем произошло нашествие варваров, и христианство в Швейцарии практически исчезло с лица земли – то есть оно перестало быть хоть сколько-нибудь заметно – до тех самых пор, пока в конце шестого века не начал свою миссионерскую деятельность святой Колумбан[37].
Однако же на протяжении всего этого времени безусловного с виду господства варваров христианство продолжало жить в подполье усилиями немногих священников и сохранивших преданность вере семей первых неофитов. А поскольку продолжало жить христианство, постольку кое-где сохранилась и гностика.
– Минуточку, Пол. – Это снова был Алекс, чье сознание ученого жаждало точности и ясности во всем. – Я, знаешь ли, не особенно разбираюсь в ересях и тому подобном. Что такое гностика?
– Дорогой мой Алекс, мне и на то, чтобы растолковать, что такое виньярдизм, понадобится если не весь, то большая часть остатка дня, а уж если за гностику браться, придется попросить Син оставить нас на ночь. Но, говоря коротко, гностика некогда зародилась как высокое религиозно-философское учение, основанное на трудах мистика Валентина, которое, однако, быстро выродилось в изрядный набор мифологем, наполовину христианских, наполовину языческих, а в конце концов превратилось просто в обрядовое шарлатанство.
– Спасибо. – Алекс удовлетворенно кивнул. – Продолжай.
– Первоначально доктрина Семерых с Голгофы возникла, судя по всему, в маленьком местечке Альтдорфа, кантон Ури, где сформировалась немногочисленная замкнутая община чрезвычайно сильных в духовном и физическом отношении людей, находившихся под влиянием одного из ранних гностиков. Учение его они понимали не до конца – возможно, он и сам его не вполне понимал, – и с течением столетий создали то, что в какой-то степени может быть названо их религией.
– В формальном смысле это было христианство, хотя и еретического толка – так ведь и мандеи – это формально христиане-еретики, пусть даже Иисуса они называли именем Нбу и считали его злым духом. Участники этой урианской секты (тогда они еще не называли себя виньярами) не заходили так же далеко, как их преемники, но уже переместили Христа на какое-то малозначительное место в своей седьмице.
– Седьмице? – на сей раз удивляться пришла очередь Мартина.
– Должен признать, – недовольно пожал плечами Пол, – что я сам придумал этот термин, он мне понадобился, чтобы доморощенным образом перевести немецкое слово Siebenfaltigkeit[38]. Седьмица по отношению к троице – это же самое, что семь по отношению к трем; иными словами, в их пантеоне семь богов.
– И символ это как раз означает?
– Да. Насколько я могу судить, большинство из вас уже поняли, что знак – это не прописная буква F, как объявили газеты, а семерка в европейском ее написании. Ступени же могут иметь два смысла – на этот счет Урмайер и Курбранд расходятся. Первый утверждает, что они символизирует превосходство семерки над тройкой, то есть, виньярской седьмицы над христианской троицей. Ну а Курбранд стоит на том, что это указание на Крест Голгофы, установленный на трех ступенях. С точки зрения истории секты, первое предположение кажется более вероятным, однако название – Семеро с Голгофы – подталкивает в противоположную сторону.
– Это официальное наименование секты? – спросил Мартин.
– Так называл ее Жан Штауфахер.
– И кто эти семеро божественных лиц?
– Тут надо разбираться в мистической космогонии. Кое-какими началами знаний в этой области ты, Мартин, обладаешь, так что наверняка уловишь отчетливые переклички с гностикой. В начале было Нечто – Бог всего, то, что Валентин называет Глубиной. Сектанты, люди слишком невежественные для того, чтобы вникать в суть таких понятий, как Космос, или Urmacht, называли это первоначальное Нечто просто Богом. Судя по всему, этот Бог был занят только одним – он думал. Никакого желания творить у него не было. Но однажды – если в такой связи уместно говорить о днях, – ему пришла в голову некая мысль, самому ему не понравившаяся, – мы бы могли назвать ее злой мыслью. Он отбросил ее от себя, и она зажила независимой жизнью и обрела собственную силу.
Имя ей – Несвятой Дух – нечто подобное Сатане у христиан. Лишенный разумного начала Несвятой Дух ощутил порыв к созиданию и создал Мир. Более того, в результате неких генетических преобразований у него появился ребенок. Это был Иегова, бог древних евреев, который казался этим простым людям, как, должно быть, и большинству из нас, очень злым и несвятым божеством.
– Два приглашения на ужин… – негромко проговорила Синтия.
– Бог, то есть Бог Изначальный, посмотрел на этот мир, и он ему не понравился. Тогда он выпустил на свободу еще одну мысль, на сей раз добрую, ей предстояло спасти мир. Эта вторая мысль была Святым Духом. После продолжительной борьбы с Несвятым Духом у него тоже появилось дитя – Иисус Христос. При всей своей добродетельности Святой Дух был наделен хитроумием. Он предложил Несвятому сделку – «я дам своему ребенку умереть, если ты сделаешь то же самое». Сделка была заключена и удостоверена Изначальным Богом, который пошел на это, предполагая, что его Святой Отпрыск затеял какую-то игру. Далее Святой Дух воплотил своего сына так, чтобы тот мог умереть, как человек, и в то же время остаться жить, как бог. Иегова же, так и не обретший плоти, должен был по идее умереть, как бог, хотя каким-то образом, мне, признаюсь, до сих пор неясным, остался частью седьмицы.
– Но пока у нас только пятеро, – возразила Мэри, воспользовавшись повисшей паузой.
– Теперь мы подходим к самой важной паре. Увидев, что борьба добра и зла грозит разрушить мир, Бог Изначальный пришел еще к одной мысли. Эта третья мысль была не добро и не зло, а мудрость, и звали ее София. Она-то, конечно, и стала Софией гностиков, героиней «Пистис София»[39], что и объясняет женский род, в то время как две другие эманации мысли, особенно Святой Дух, – вроде как средний.
Будучи членом семьи Бога Изначального, София, естественно, тоже имела ребенка. Имя ему было дано – Немо. Назвав его таким образом, секта значительно, на много веков, предвосхитила Родольфа[40] и его неминианцев, исходивших из тех же, что и виньяры, положений Писания (ни единый из смертных не восходил на небеса – никто из смертных не зрил Бога – и так далее), в котором, по их убеждению, Немо вовсе не обозначает Никто, это собственное имя. Таким образом, дитя Софии Немо призван примирить добро и зло и предуготовить мир к концу.
Понадобились века, чтобы идея, а быть может, в самых ранних набросках и символ обрели форму. Селяне перебрались из кантона Ури в иные районы Швейцарии и унесли с собой свою необычную веру. Люди тем временем, пытаясь умиротворить детей и Святого Духа, и Несвятого, ожидали явления ребенка Софии. Поначалу считалось, что у Несвятого есть некое имя, которое нельзя ни произнести, ни написать (точно так же подменялось тетраграмматоном[41] имя его сына Иеговы), потому и назвали его Aggramatos – Невыразимый. С годами Aggramatos превратился в Aggramax и сделался именем собственным. Последняя буква – х – отсылает, естественно, к магическим формулам гностиков.
Далее. Поскольку, судя по всему, Святой Дух и Несвятой равны силой, такого рода дуалистическая концепция дала толчок чему-то вроде поклонения дьяволу, каковому было найдено весьма сомнительное соответствие у Луки, ну, там, где евангелист говорит: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным».
– Хотел бы я послушать проповедника, который понимает эту притчу, – заметил Марк.
– Все равно вряд ли кто сумел бы перетолковать ее так красиво, как сектанты. Они восприняли ее как прямое указание поклоняться дьяволу со всем, что ему сопутствует, – некроманией, антропоманией и прочими маниями. Так секта и продолжала существовать до конца тринадцатого века, поклоняясь Агграмаксу и Немо, когда, примерно за тридцать лет до событий, связанных с Вильгельмом Теллем, и родился Антон Винья.
Период этот, пожалуй, самый темный в истории Швейцарии, то есть самый загадочный. Вряд ли мы когда точно узнаем, существовал ли в действительности Вигьгельм Телль и стрелял ли он из лука на горном лугу Рютли. Антон Винья – фигура столь же полулегендарная. Он родился недалеко от Альтдорфа, где мирно проживал до того, как ему исполнилось двадцать семь лет. А потом спокойно заявил, что он-то и есть Немо.
СЕМЕРО С ГОЛГОФЫ
(Диаграмма, составленная Мартином Лэмом на основании разысканий Пола Леннокса)
Затем последовало то, что и должно последовать, когда на землю приходит одна седьмая Бога. Начались чудеса и превращения, зазвучали проповеди, появились притчи и ученики. Винья хорошо заучил Новый Завет и тщательно выстроил свою биографию по образу и подобию Христову, включая даже сорокадневное затворничество – за неимением пустыни ее роль сыграли Альпы. Судья-австриец при поддержке нескольких монахов взбунтовал против него народ, и Винью забили до смерти камнями. Какое-то время толпа продолжала забрасывать его, умирающего, булыжниками, пока вдруг не обнаружилось, что некто неведомый обрушивается на самих палачей. В самое нужное время пошел град, разверзлись хляби небесные – так случилось первое чудо виньяров. Какая-то особенно большая градина – настоящий валун – ударила судье в лоб с такой силой, что он упал замертво. И на всех таких валунах ясно, словно выгравированная кем-то, проступала небольшая семерка.
Винья погиб, но виньяры, главным образом благодаря этому чуду, продолжали жить. В отместку за смерть своего Бога они дали клятву ненавидеть христиан так же сильно, как сами ранние христиане ненавидели евреев. Иные даже присягнули Агграмаксу, призывая его помочь им в борьбе со Святым Духом и его сыном Христом. Они отдали себя делу разрушения, и именно отсюда проистекает их политическое значение.
Виньяры сохранились на ветрах времен, маленькая группа, набиравшая к себе немногих новобранцев извне, в свои связанные общим наследием ряды, но при всей своей немногочисленности именно они поднимали на борьбу или по крайней мере поддерживали большинство поместных движений, разрывающих Швейцарию на части. Говорят, брат Антона Виньи Леопольд бывал в Рютли. Согласно тем же слухам, трое известных странным поведением бургомистров Цюриха – Брюн, Штюсси и Вальдман, – были виньярами. Майор Давель, этот герой-безумец, этот Дон Кихот, отказался присягать Агграмаксу, сделался отступником и поплатился за это жизнью.
С особенно большой охотой виньяры раздували религиозные распри. Они равно ненавидели католиков и протестантов и поддерживали самые противоположные движения, от изгнания иезуитов до Sonderbund[42], исключительно ради того, чтобы столкнуть лбами христиан, имевших хоть какие-то разногласия.
– В общем, – заключил он, – виньяров явно нельзя назвать хорошими людьми. Потому мне и не нравится появление Семерых с Голгофы в Беркли.
Снова повисло молчание. Пол Леннкос принялся спокойно набивать трубку. Остальные чего-то ждали. Да уж, глаз эта картина не радует – виньяры и их история. Положим, София и Немо и Агграмакс сами по себе фигуры довольно комические, как и градина с изображением семерки, сразившая австрийского судью. Но доктор Шедель мертв, и Штауфахер-дед тоже, и еще бог знает сколько людей лишились жизни по приговору Семерых с Голгофы. И сколько еще лишатся?
Мартин вздрогнул и потянулся за сигаретой. В кармане он снова нащупал золотой ключик. Ему все стало ясно. В Беркли никаких безумцев-сектантов быть не могло. Как сказал бы доктор Эшвин, это отдавало бы уж слишком ранним Конан Дойлем. Кто-то знал о существовании Семерых с Голгофы и подбросил ключик, дабы пустить следствие по ложному пути. А кто это мог быть? Кто-нибудь из Швейцарии…
– Знаешь, Пол, – заговорил Алекс, – тебе бы стоило поделиться этой информацией с полицией. Там были бы счастливы, если бы кто-нибудь объяснил им этот символ.
– Э, нет, Алекс, я не самоубийца. Если виньяры решат, что я слишком много знаю… нет, не пойдет. К тому же полицейские и без меня докопаются до сути. Вся эта история может быть известна швейцарскому консулу или какому-нибудь еще вроде меня, шкрабу. Хотя я лично, если бы не разговор с Жаном Штауфахером, никогда бы не смог связать воедино то, что прочитал у Курбранда и Урмайера. По-моему, они тоже чего-то опасались.
– Да ты что, старик, – решительно вмешался Уортинг, – это же твой гражданский долг.
– Да неужели? – улыбнулся Пол.
– Разве ты не хочешь, чтобы этого мерзкого гаденыша вздернули?
– Ценой собственной жизни – нет.
– Ну… не… не знаю, что и сказать. – Канадец возмущенно засопел и невнятно выдохнул: – Какого черта, старик, так нужно! – Уортинг неохотно замолчал, но Мартин заметил, что он вроде начинает о чем-то задумываться.
В тот вечер, поужинав, Мартин и Пол долго бродили по холмам. Это была славная молчаливая прогулка, но на всем ее протяжении Мартину не давала покоя одна мысль, и, когда около десяти часов они зашли в «Белую таверну» выпить по чашке кофе с гамбургером, он не выдержал.
– Слушай, Пол…
– Какого черта, – не дал ему договорить Пол, сердито разглядывая белесое содержимое своей чашки, – я заказывал черный кофе. Ой, извини, что ты хотел сказать?
– Я про то, о чем ты сегодня днем рассказывал… Понимаю, ты не хочешь широко обнародовать свои познания, но есть один человек, который бы с удовольствием тебя послушал.
– И кто же это? – дожевывая кусок гамбургера и собираясь отправить в рот следующим, осведомился Пол.
– Доктор Эшвин.
– Почему бы и нет? Полагаю, ему действительно может быть интересна эта новейшая ересь – по крайней мере от Вед отвлечется. Хорошо, согласен, расскажу ему, что знаю.
– Может быть, прямо сейчас и заскочим? Думаю, он еще не лег.
– Отлично, еще несколько минут – и пойдем.
Несколько минут, само собой, растянулись на полтора часа. Тем не менее доктор Эшвин принял гостей со всей сердечностью – с Полом он уже два-три раза встречался, – и выставил бутылку виски, которое у него всегда имелось в наличии. Слушал он с огромным интересом, время от времени вставляя в рассказ беглые замечания. При этом хозяин выкурил бессчетное количество сигарет, но, пока Пол не поставил в рассказе последнюю точку, от комментария воздерживался.
– Чрезвычайно признателен вам, мистер Леннокс, – сказал он наконец. – Поразительная история. Она на многое бросает свет. А я-то всегда считал, что неплохо знаю историю ересей! Ваш рассказ явно колеблет эту веру. Не могу объяснить, каким образом эта легенда ускользнула от моего внимания. Но история, повторяю, впечатляющая.
– Боюсь, больше, чем просто впечатляющая, доктор Эшвин, – криво улыбнулся Пол. – Не забывайте, главную роль в ней играет Смерть.
– А я и не забываю. – Доктор Эшвин закурил очередную сигарету и начал разливать виски.
– Спасибо, я пас. – Пол накрыл ладонью бокал. – Мне еще надо, пока не слишком поздно, заглянуть к Финчу.
– К Финчу? – не понял доктор Эшвин.
– У Финча Ролтона, – пояснил Мартин, – есть хороший фонограф, а еще он, по слухам, отличается самым лучшим среди мужчин в Беркли гастрономическим вкусом. Но все это еще не объясняет, Пол, с чего это тебе вдруг понадобилось делать такой крюк, только чтобы послушать его.
Пол пожал плечами:
– Я давно обещал вернуть ему проигрыватель, да совершенно забыл.
– Тогда понятно, – с облечением вздохнул Мартин. – Раз ты идешь к нему не ради мазохистского удовольствия послушать, как он перевирает Маклиша…[43] А я, пожалуй, если вы не возражаете, доктор Эвшин, еще задержусь ненадолго. Увидимся завтра на репетиции, Пол.
Пол кивнул, поблагодарил доктора Эшвина за гостеприимство и пошел к Финчу Ролтону, который – если ему доведется прочитать эти строки, – наверное, весьма удивится, узнав, что фигурировал, пусть и косвенно, в расследовании убийства Шеделя.
Эшвин слегка крутанул кресло.
– А что, у мистера Леннокса много пластинок?
– У него отличная коллекция, – подтвердил Мартин, – и к тому же он часто берет пластинки напрокат в библиотеке Сан-Франциско. Его фонограф – это для меня настоящее отдохновение.
– И какая же музыка, – кивнул Эшвин, – его интересует более всего?
– В основном симфоническая и камерная. Но, в общем, практически альбомы пластинок.
– А эстрадная?
– Нет. Боюсь, Пол несколько аскетичен в своих вкусах.
Доктор Эшвин слегка наклонился вперед и залпом осушил бокал с виски.
– Знаете, мистер Лэм, – сказал он, – с моей очки зрения, самое любопытное, что есть в рассказе мистера Леннокса, это как раз аскеза.
4. Мартин обвиняет
Мона улыбнулась.
Предчувствия Мартина оправдались в полной мере. Эта улыбка чертовски усложняет положение следователя, лишая его необходимого беспристрастия. Он начал задумываться, зачем вообще решил взять на себя роль детектива во всей этой истории, до которой ему, в общем-то, нет никакого дела.
Однако если бы он не взялся за расследование, то и Мону бы никогда не пригласил посмотреть мексиканский фильм, а засел бы, как обычно, в библиотеке и лишился разом двух удовольствий. Одно – сама картина: нагромождение нестрашных ужасов, на что способны только мексиканцы; другое, конечно, сама Мона.
Обычно такая спокойная и уравновешенная, в кинозале она совершенно преобразилась. В самые драматические моменты она принималась неудержимо дрожать, а когда черные литеры какой-то дьявольской книги превратились в извивающихся подземных червей, стиснула Мартину локоть. Все еще переваривая малопонятные заключительные слова фильма, все еще не избавившись от странного чувства ирреальности, порожденного его безумным сюжетом, Мартин вдруг осознал, что ладонь Моны покоится в его ладони. И была ее ладонь теплой и вполне реальной.
Мона улыбнулась и кивнула в ответ на предложение выпить еще один бокал шерри. Себе Мартин снова заказал пива.
Они сидели в кабинке дешевой забегаловки рядом с маленьким кинотеатром, приходя в себя после ужасов фильма и подкрепляясь перед долгой поездкой на трамвае в университетский городок.
– Не знаешь, чему и верить, – вздохнула Мона. – Странное какое-то чувство оставляет эта картина. Верно в ней муж говорит: «Либо эти мертвые монахи воскресли, либо мы трое пробыли одну ночь мертвыми. Кто знает?»
– А смерть сама по себе странна, – заметил Мартин. – Правда, странная смерть в меньшей степени – две странности взаимно уничтожают друг друга…
Принесли напитки – как раз вовремя, ибо созданный Мартином образ смерти грозил приобрести болезненно причудливые очертания. Мона молча отхлебнула шерри, потом снова заговорила:
– Я видела днем Курта Росса. Он подавлен смертью дяди.
Смерть доктора Шеделя – это не то, о чем Мартин хотел бы говорить прямо сейчас, и он свернул в сторону:
– А как там Лупе Санчес?
– Я виделась с ней в воскресенье. Собственно, за тем и поехала в Сан-Франциско с самого утра. Спасибо, Мартин, ей значительно лучше.
– А что вообще с ней, что-нибудь серьезное?
– Да нет, н-нет. – Кажется, Мона хотела что-то добавить, но передумала. Мартин выждал немного и, решив, что эта тема закрыта, предложил Моне сигарету, закурил сам и вернулся к фильму.
Однако же развивая идеи относительно эстетики фильмов ужасов, Мартин внимательно наблюдал за Моной. Ей явно не терпелось что-то сказать. Выждав еще немного и решив, что момент настал, Мартин поставил точку в своем устном трактате и осушил кружку пива.
– Слушайте, Мартин… – нерешительно начала Мона.
– Да? – Ему не хотелось ее подталкивать.
– Вы ведь дружите с Куртом?
– Ну да, конечно, – ровно проговорил Мартин, почувствовав при этом легкий укол совести.
– В таком случае будьте к нему повнимательнее.
– А я всегда внимателен. – Мартина несколько удивил такой поворот темы. – Как насчет еще одного глотка шерри?
– С удовольствием. – Мартин сделал знак официанту повторить, а Мона, запинаясь, продолжила: – Да нет… как раз не как всегда… по-настоящему… особенно. Ему плохо, и у него так мало друзей! Ремиджио, вы, ну, еще один-другой. А от Ремиджио толку мало, – добавила она с чисто сестринским скепсисом.
– Понимаю, – сочувственно кивнул Мартин. – Его дядя мертв… Лупе в больнице. – Он молча выругал себя за столь откровенное лицемерие.
Теперь Мона не улыбалась, но серьезным ее подвижное лицо казалось еще привлекательнее.
– Ему нужен хоть кто-то, Мартин! А Лупе он навестить не решается – из страха, что его заподозрят…
К неудовольствию Мартина, появление официанта с шерри и пивом не дало ей договорить.
Мона сделала большой глоток, словно собираясь с силами.
– Можно еще сигарету, Мартин? – попросила она. Шерри, а также то, что говорили они по-испански, вопреки обыкновению развязали ей язык. Мона сильно затянулась, выдохнула большой клубок дыма и заговорила:
– Наверное, лучше будет, если я все вам расскажу. Пока это знают только Курт, Лупе и я, но если узнаете и вы, то вам будет легче разговаривать с Куртом. Ничем Лупе не больна.
– Да я уж догадался, – кивнул Мартин.
– Мне так жаль ее. Я знаю, что это дурно, но они с Куртом… они так любят друг друга. Они были так счастливы… А потом она узнала. И у нее не было другого выхода. Одна из приятельниц Лупе сказала, что знает в Сан-Франциско одного доктора – имя этой приятельницы я вам не назову, но она дважды с ней разговаривала. И та заверила ее, что все будет хорошо, никто ничего не узнает. А потом… у нее не оказалось денег.
Мона замолчала и снова потянулась к бокалу. Мартин изо всех сил старался сохранять вид отца, перед которым исповедуется дочь.
– Вы сказали, Мартин, что смерть – странная вещь, – вдруг отклонилась от своей темы Мона. – А для меня не менее странна любовь, и уж точно более страшна. Я думаю про Лупе, и мне не хочется влюбляться. Никогда. Если бы что-нибудь подобное случилось со мной… Ремиджио… не знаю, что бы он сделал. А если об этом узнает генерал…
– Какой генерал?
– Отец Лупе.
Тут Мартин вспомнил. Генерал Помпилио Санчес-и-Ларреда, некогда знаменитый и отважный мексиканский бунтарь, ныне вел вынужденно покойную жизнь в Лос-Анджелесе. Гордый человек, утверждавший, что в его жилах течет кровь как конкистадоров, так и ацтеков, наделенный одновременно энергией завоевателя и благородством покоренного.
– Отчего они не поженились? – напрямик спросил Мартин.
– Лупе обручена с одним давним соратником генерала. Это за него она должна когда-нибудь выйти замуж и вернуться вместе с ним в Мехико. Любой другой брак дочери убьет ее отца.
– Но если нет денег, что делать ей в Сан-Франциско?
– Этого я не знаю. В субботу утром Лупе сказала мне, что все в порядке, она едет к доктору. Это все, что мне известно.
Все сходится, комар носу не подточит, подумал Мартин. Все, кроме того, что Курт Росс – такой добрый, славный малый.
– И ты ведь будешь внимателен к Курту, постараешься ему помочь? – Мартин вдруг с удивлением отметил про себя, что по ходу этого доверительного разговора Мона отбросила формальное usted (вы) и стала обращаться к нему на tu (ты).
– Исключительно ради тебя, – галантно ответил ей Мартин в той же грамматической форме.
– Не ради меня, Мартин, – покачала головой Мона, – ради него.
– Загляну к нему, как только в Дом вернемся, – пообещал Мартин и с грустью подумал, что хоть это-то правда.
– Хорошо. Ты мне нравишься, Мартин. – И, вставая вместе с Моной из-за стола, он был вознагражден еще одной улыбкой и еще одним мягким прикосновением ее ладони.
Серьезное настроение рассеялось, и они так весело болтали в трамвае на немыслимой смеси английского и испанского, что Мартин совершенно забыл о своих угрызениях совести. Но ключик все еще лежал у него в кармане.
– Я прямо к Курту, – вновь заверил Мону Мартин, прощаясь с нею в холле Международного дома. Но вдохновляющее воздействие ее улыбки быстро прошло, и направился он вовсе не к Курту, а прямиком к себе.
Уныло присев на кровать, он затеял продолжительный и беззвучный разговор с самим собой. Что делать? У него не было ни малейшего желания предоставлять имеющиеся у него свидетельства – ключик, появление явно взволнованного чем-то Курта в пятницу вечером, аборт Лупе – в полицию, не дав ему прежде шанса каким-то образом объясниться. Но, с другой стороны, не может же он просто зайти к молодому швейцарцу и сказать: «Слушай, я более или менее уверен, что убил своего дядю ты, и сейчас мне просто интересно, что ты можешь сказать по этому поводу».
К тому же он все-таки не до конца убежден, что убийца – именно Курт. В противном случае он мог бы бесстрастно изложить имеющиеся у него данные на бумаге, приложить к ним записку следующего содержания: «Завтра это будет достоянием полиции» и дождаться, пока Курт не доиграет, как принято, партию до конца, то есть совершит самоубийство. Но в том-то и дело, что такой убежденности у него не было.
Ко всему прочему он, черт возьми, не знал, каковы они из себя, убийцы. Когда-то Мартин, шутки ради, носился с теорией, будто всякий на протяжении своей жизни хоть с одним убийцей да столкнулся. Помнится, как-то раз за обедом он шокировал этим утверждением родителей одной своей знакомой. Разумеется, они принялись возражать, но в какой-то момент мать девушки вдруг вспомнила кое-какие странные обстоятельства, связанные с их давнишним соседом, и поведала Мартину совершенно фантастическую – ничего подобного ему раньше слышать не приходилось – историю самоубийства, которого на самом деле не было.
Но сейчас ситуация иная. Речь идет о единомышленнике и довольно близком приятеле… Как если бы убийцей объявили Пола, или Алекса, или его самого. К тому же – и это смущало Мартина более всего – не вписывалось это убийство в характер Курта! Слишком оно тонкое для такого прямодушного человека.
Мартин пожалел, что не осталось у него после недавней попойки ни капли бурбона. Трех кружек пива маловато, чтобы набраться духу и обвинить человека в убийстве.
И тут ему в голову пришла еще одна мысль. А самому-то ему ничто не угрожает? Память – память человека, начитавшегося детективов, – подсказала, что тот, кто, по расхожему выражению, знает слишком много, всегда становится жертвой следующего убийства. Если он, Мартин, даст понять Курту, что ему все известно, не убьют ли его самого еще до того, как он обратится в полицию? Ну и славная ему представилась картинка: лежит он распростертый на тротуаре, не исключено, под знаком Семерых с Голгофы – и затылком ощущает прикосновение ледоруба.
Мартин импульсивно вскочил на ноги, отбросил сигарету и стремительно зашагал по коридору. Он даже не потрудился постучать в дверь Курта, молча открыл ее, шагнул к туалетному столику и, не дав хозяину опомниться, положил перед ним золотой ключик:
– Я нашел эту штуковину и подумал, что она может тебе пригодиться. – С этими словами Мартин круто повернулся, чтобы уйти.
Он бы и самому себе не ответил, зачем сделал это. Просто ему показалось, что так будет проще всего умыть руки и забыть обо всем этом деле. На лице его уже появилось облегченное выражение, когда он почувствовал, что чья-то рука ложится ему на плечо. На мгновенье мелькнула дикая мысль: вот она, вторая жертва, – но лицо Курта выражало скорее изумление, нежели гнев.
– Не торопись так, Мартин, – заговорил долговязый швейцарец, – присядь, подожди, пока я оденусь, а потом, может, пообедаем вместе.
– «Пообедаем», – улыбнулся Мартин, – это вряд ли уместное слово, если учесть, чем здесь кормят. Скорее уж, поедим.
– Ну и прекрасно, – кивнул Курт, – присаживайся. – Мартин последовал приглашению, гадая, что за ним может последовать. – Кстати, – с показной беззаботностью поинтересовался Курт, – где ты нашел этот ключик?
– Под кустом.
– Под каким кустом? Где?
– Под тем, рядом с которым нашли знак Семерых с Голгофы.
Судя по выражению лица, это сообщение еще более изумило Курта. Название, казалось, ничего ему не сказало.
– Семеро с Голгофы? – повторил он. – А кто это такие и какое отношение они имеют к моему ключу?
Если это игра, подумал Мартин, Малый театр лишился настоящей звезды.
– Ты ничего не знаешь о Семерых с Голгофы? – спросил он, машинально чертя что-то на клочке бумаги.
– Нет. – Ответ Курта прозвучал совершенно искренне. Но тут он повернулся и увидел, что там изображает на бумаге Мартин. – Это?! – выдохнул он. – Ты об этом? – Мартин кивнул. – Ясно… Ясно… – Курт рухнул в кресло. – Вот оно как выходит. Ты тоже, Мартин… Ты думаешь…
– Что?
– Что это я убил дядю.
Неправильно все получилось, подумал Мартин. Не таков был его расчет. Обвинение прозвучало из уст самого подозреваемого, а юный блестящий детектив-любитель – лишь слушатель.
– Да, – с видимым усилием выдохнул Мартин и удивился, как необычно звучит его голос.
– Полиция меня не удивила. – Курт говорил спокойно, но с явной грустью. – Ведь я для них – некая абстракция, один из возможных вариантов, то, что надо расследовать. Но ты, Мартин… я думал, мы друзья.
Мартин старался выстроить логику рассуждений вполне праведного обвинителя. Ничего не получалось. Он испытывал только одно чувство – жалость к Курту. Высокий молодой блондин больше не напоминал юного Зигфрида. Скорее уж он походил на Зигфрида в годах, на того Зигфрида, который осознает, что Хаген поразил его копьем в самое сердце. А Мартину не хотелось быть Хагеном. Он подыскивал слова, которые могли бы утешить Курта. Вспомнились просьба Моны и ее улыбка.
– Но почему? – спрашивал Курт. – Как ты мог так обо мне подумать?
Мартин забыл все те слова и фразы, что столь скрупулезно подыскивал, и пошел напролом:
– Я не хотел, но так получилось. Я ничего не мог с собой поделать. Все указывало на тебя. Твое странное вторжение ко мне в пятницу вечером – при тебе не было ключа, и я это заметил – потом он нашелся под кустом перед домом Синтии, и символ швейцарский… Одно к одному. К тому же я знал про Лупе…
– Как это – знал? – прервал его Курт.
– Вернее, догадывался, – поспешно поправился Мартин. – По беглым замечаниям, полунамекам, которые слышал то там, то тут. – Он сразу сообразил, что Курту вряд ли понравится откровенность Моны.
– Что ж, мне трудно винить тебя. – Курт поднялся со стула. – Если ты так много знаешь. Больше, чем полиция. Но, Мартин, помимо всего прочего ты знаешь меня.
– Вот это-то меня больше всего и смущало. Не похоже это на тебя. Я не мог быть ни в чем уверен. И потому не пошел в полицию.






