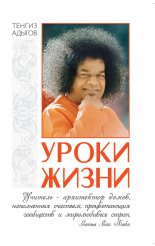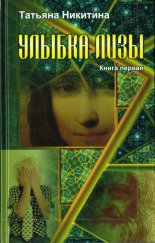Мари в вышине Ледиг Аньес

– Отсутствует? Я хотела бы поговорить непосредственно с ним. Когда он вернется?
– Не могу вам сказать, он в отпуске всю неделю, и мы не знаем, когда он вернется. Неотложные семейные обстоятельства, полагаю.
Я успокоилась: с ним ничего не случилось. Но чем объясняется это молчание? Раз семейные, значит речь о Мадлен. Или о ком-то из родителей? Вернулись? Умерли?
Я отправилась на дойку сильно озабоченная. Коровы нервничали. Поразительно, как они чувствуют мое душевное состояние. Тут никакой психоаналитик не нужен. Достаточно понаблюдать за скотиной во время дойки, и я знаю, как у меня дела. И потом, мой психоаналитик – Антуан. С ним я и проконсультировалась после ужина.
– Ага? Отплатил тебе той же монетой? Ты вон сколько заставила его ждать. Может, он решил испытать тебя.
– Ты же сам велел помариновать его!
– Да, ну и что? Моя стратегия не исключала, что и он решит помариновать тебя. В этом есть и хорошие стороны, разве не так?
– Не так!
– Конечно есть. Сейчас ты беспокоишься. Если б тебе было на него плевать, ты о нем даже не вспомнила бы.
– Ну и что?
– Ну и то: ты влюблена, и знаешь, что это означает?
– Нет.
– Что я в очередной раз прав.
– Ммм…
– Что, бесишься, а?!
– Да!
– Вот это мне никогда не надоест!
– Ну и что мне теперь делать?
– А вот это и делай.
– Что «это»?!
– Жди.
Я уложила Сюзи, которая спросила, когда Оливье придет в следующий раз. Она уже соскучилась. Больше, чем я. Хотя это еще вопрос.
Я приняла ванну, чтобы расслабиться. Почти кипяток. Она благотворно подействовала на ком, узлом завязавшийся в желудке. Даже благотворней, чем новый трактор. Такова жизнь. Потом я спустилась, чтобы отвлечься и довести себя до полного изнеможения, заполняя на кухонном столе кучу деловых бумаг. Очень утомительные анкеты, требующие полной сосредоточенности. Если я буду думать о чем-то другом, расставляя галочки в клеточках, то наверняка ошибусь, а значит, не получу дотаций в конце года. Наживка в виде барыша, способного избавить от лишних тревог и дырок в бюджете. Хотя, имея в виду, в каком положении сейчас земледельцы, не наживка заставляет их заполнять формуляры, а инстинкт выживания. Не на одних коровах свет клином сошелся. Любой крестьянин одновременно бухгалтер, секретарь, метеоролог, ветеринар, механик, ботаник, и все это – ради куска хлеба. По крайней мере, когда он зарабатывает какие-то деньги. Иногда он их теряет, да-да, теряет, несмотря на ежедневный титанический труд. Пусть сменяющиеся президенты похлопывают коров по задницам на сельскохозяйственной выставке, дабы показать, как они любят деревню, все равно они и пальцем не пошевелят, чтобы заткнуть утечки. Не хватает молодых, которые могли бы заменить тех, кто уходит на покой. Попробуйте найти кого-нибудь, кто готов прийти на смену мужику, повесившемуся в собственном сарае, потому что так и не смог свести концы с концами, или же невесту старому холостяку, который векует бобылем, потому что ни одна женщина не пожелала жить на ферме в дерьме и нищете, кроме, может, какой-нибудь румынки. Да и то поискать. Мне хоть как-то удается выкручиваться. Я занимаюсь переработкой и продаю напрямую. Никто не может навязать мне цену на молоко. Я просчитываю, сколько мне надо, чтобы прожить. И потом, люди готовы заплатить за масло чуть дороже ради милой улыбки молочницы. И я мило улыбаюсь. Но вот за других у меня душа болит. На профсоюзных собраниях меня охватывает нечто вроде яростной печали, когда я вижу здорового молодца ста кило весом, который берет слово, начинает злобную речь, а заканчивает тем, что не может выдавить двух связных слов, потому что его душат слезы, столь обильные, что все равно неизбежно выплескиваются наружу. В результате он горько рыдает, потому что не знает, как жить дальше; в любом случае, ему глубоко плевать на то, что подумают остальные, которые, к слову сказать, сами молча глотают собственные слезы, потому что реветь у всех на виду – это последняя стадия перед тем, как оставить записку на кухонном столе и пойти застрелиться в амбаре. У меня от всего этого возникает желание надеть фригийский колпак и отправиться в Париж с французским флагом наперевес, чтобы дать хороший пендель министру сельского хозяйства, который о вышеозначенном хозяйстве не знает ничего, кроме чепухи из докладов, часто составленных людьми либо ничего не смыслящими в нашей работе, либо преследующими цели, прямо противоположные задачам нашего дела. Да и что он может сказать, министр этот: встаешь спозаранок каждое утро, триста шестьдесят пять дней в году, а то и триста шестьдесят шесть, коли год високосный, вкалываешь по пятнадцать часов в сутки, зимой в такой холод, что на кончиках пальцев появляются трещинки, и ты воешь всякий раз, когда моешь руки или просто заденешь за что-то пальцем, а летом в жарищу, когда вдали погромыхивает, молишься, чтобы грозовая туча не пролилась на едва высохшее сено, и все для того, чтобы услышать от банкира, что ему очень жаль, но ничего иного не остается, кроме как прибегнуть к еженедельным вычетам, потому что твой счет в безнадежном минусе. Плюс банковские начисления, понятно?! Стервятник.
Но у меня не такие красивые грудки, как у Марианны[26]. Наверняка ее грудки сыграли свою роль в революции, верно?!
Короче, в тот вечер я пребывала в обычном сварливом расположении духа, в которое впадаю, стоит мне задуматься о перспективах нашей профессии, когда телефон зазвонил.
– Это Оливье.
Я даже облегчения не испытала. От его голоса у меня холодок по спине пробежал.
– Что-то случилось?
– Мадлен умерла.
Он проговорил это без всяких эмоций. Холодно. Защитный панцирь. Только бы не показать, как ранимо то, что внутри. Как уязвимо. Но я-то знала, что все залито океаном слез. Но лишь бы держать все в себе и ничего не выказывать. Типично для мужчин! Даже для Антуана. Наверно, все дело в Y-хромосоме.
Я подождала, давая ему возможность продолжить, но без помощи он обойтись не мог.
– Как все произошло?
– Болезнь крови, скоротечная. Я не могу много говорить, но мне нужно было вам сказать.
– Мне очень жаль. Правда. Это очень печально. Когда похороны?
– В понедельник после полудня… Простите, что не позвонил раньше.
– Ничего страшного.
И он повесил трубку.
Я так и осталась стоять, прижимая свою трубку к уху.
Как было б здорово, если б телефонная компания немедленно изобрела способ переслать меня по проводам прямо к нему и я могла бы обнять его крепко-крепко. Вместо этого пришлось довольствоваться чередой быстрых коротких гудков. Можешь повесить трубку, Мари, разговор закончен. И жизнь Мадлен тоже.
Мне было грустно. Грустно из-за Мадлен, она вроде была очень славная. И мне так хотелось с ней познакомиться…
Грустно из-за Оливье. У него только она одна и была. Я знала, какой это для него удар. Он ничего подобного не ожидал. Он не был готов потерять ее. Под своим панцирем он был раним и беззащитен. И так одинок. Так одинок.
Лисенок, выскочивший на дорогу и к тому же угодивший под грузовик.
На помощь, бабуля, с такими серьезными ранами мне не справиться. Мое дело – оглушенные птички, наткнувшиеся на оконное стекло. Котята, упавшие с чердака на солому. Ежики, застрявшие в канаве у въезда на ферму.
А тут…
32
В маленькой деревенской церквушке народу набралось немного. У Мадлен не было родных, кроме меня. Деревенский люд, какие-то соседи, которых я не помнил. В конце концов, мне было всего шесть, когда мы уехали в город. Кое-кто узнал меня. Подходили поздороваться, но как-то торопливо. Наверняка вид у меня сегодня был не слишком приветливый. И в другие-то дни…
Я не стал ничего организовывать после церемонии. Не силен я в таких вещах. Сходим на кладбище, а потом разойдемся каждый по своим делам. Душа не лежала приглашать всех на кофе с пирожными. Чтобы услышать что? Одни банальности.
Мадлен умерла. Вот и все. Одним кофе больше, одним меньше – какая им разница? Каждый продолжит жить, как раньше. Кроме меня.
Надгробную речь было тяжело слушать. Священник описал ее жизнь, упомянул о детях, о муже, обо мне, о ее мужестве, о ее великодушии. Сказал, что теперь она обрела покой рядом со своими близкими. И верно: в последний раз, когда нам удалось поговорить, за два дня до ее смерти, она была покойна, почти счастлива. Я ничего не понял. Мне казалось, что все боятся смерти, особенно когда она неминуема.
– Если когда-нибудь обзаведешься детьми, поймешь, почему я счастлива наконец-то с ними встретиться. Я буду счастлива увидеться и с тобой. Но не спеши. И заведи детей. Дети – это жизнь, да, это жизнь. Заведи детей и заботься о них. В этом и есть жизнь.
Ее последние слова. Самые последние.
Мы идем за маленьким катафалком, который неторопливо движется к кладбищу. Я возглавляю процессию. Не оборачиваясь. Не зная, один ли я шагаю, или за мной все-таки тянется небольшая вереница. Говорю себе, что если уж они выбрались в церковь, то не поленятся дойти и до кладбища. Священник читает последнюю молитву, и двое мужчин из похоронного бюро опускают на веревках гроб. Она совсем легкая, Мадлен. Священник похлопывает меня по спине перед тем, как удалиться. Все расходятся. Кое-кто пользуется случаем навестить другие могилы. Уж коль все равно оказался на кладбище.
Я присаживаюсь у разверстой дыры. И Мадлен там, в глубине. Нужно наклониться, чтобы разглядеть гроб. На меня накатывает дурнота. Там, на дне, так сумрачно и холодно. А она любила солнце и бабочек в саду. Я достаю из кармана маленький блокнот и начинаю рисовать. Меня трясет, но я должен это нарисовать. Этот момент – тоже часть моей жизни.
Я едва расслышал легкие шаги по гравию дорожки. Она присела рядом со мной.
– Ты приехала?
– Конечно. Мадлен заслужила, чтобы с ней попрощались.
Господи, как хорошо, что она здесь! Как хорошо!
Луч солнца в серой мгле. Моя бабочка в саду. Радуга во время потопа. Ветка дерева в зыбучих песках. Робинзон Крузо на моем необитаемом острове. Планета Земля во время моего большого взрыва. Та, на которой хорошо жить.
Она тихонько берет меня за руку и переплетает свои пальцы с моими. Я ищу следы занозы. У нее неухоженные руки. Трещинки в уголках коротко подстриженных ногтей и шероховатая кожа. В тот день с иголкой в руке я не обратил на это внимания.
Не важно, какие у нее руки, – само ее присутствие для меня как бальзам на душу.
Мы долго сидели так. Боль в животе отпустила.
– А Сюзи?
– У Антуана.
– А твои коровы?
– Антуан о них позаботится.
– Как ты приехала?
– Поездом. Антуан подвез меня на вокзал.
– Что бы ты делала без Антуана?
– Что-нибудь придумала бы… Я скоро поеду, у меня поезд в…
– Нет, останься, пожалуйста. Я отвезу тебя на машине. Сегодня вечером, если хочешь. Только очень прошу, останься.
Она мне улыбнулась. Она останется. Мне хотелось показать ей дом Мадлен.
Мы отправились туда пешком. Она была на редкость элегантна. Маленькие черные туфельки без каблука, прямая серая юбка ниже колен, объемный черный свитер. И маленькая шляпка с кружевами спереди, прикрывающими глаза.
– У тебя красивая шляпка.
– Это бабулина. Она надела ее на похороны дедушки, а потом отдала мне, сказав, что будет следующей. И шляпка ей больше не нужна. И оказалась права.
– Красивая.
Красивой была не шляпка.
Мы зашли в домик Мадлен. Я еще видел ее на кровати, как в тот момент, когда ее не стало.
– Она знала, что больна?
– Нет. Последние полгода чувствовала себя более усталой, но в восемьдесят два года это вроде бы нормально. А потом она стала совсем бледной. Врач решил проверить кровь. И тут увидел, что все показатели резко упали. В ее возрасте ничего нельзя было поделать. Он поговорил с ней, сказал, что осталось недолго. Она через соседку предупредила меня. Не хотела мне говорить. Не так. Это случилось в ту субботу.
– Она не мучилась?
– Нет. У нее немного побаливало все тело, но врач дал ей морфин. Вот тогда она мне и сказала, что радуется уходу, тому, что увидится со своими малышами. Вызвала нотариуса и все подписала. Дом мой. Не знаю, что с ним делать. Но продать не могу.
– Еще слишком рано об этом думать.
– Конечно. Но что я буду делать без нее?
– Что-нибудь придумаешь…
33
Дом Мадлен был совсем маленький, но обладал душой. Я заметила ностальгию в глазах Оливье, когда он оглядывал комнату и все закутки. Вот уже больше двадцати лет, как она вернулась сюда, уйдя на пенсию, и он регулярно заезжал навестить ее. Ненадолго, но регулярно. Безделушки на полке над печкой, рядом с тремя фотографиями. Муж и двое сыновей. Третьего они, наверно, не успели сфотографировать. Он умер раньше. В то время фотографии были редкостью.
Оливье не плакал. Ни во время службы, ни на кладбище. На губах у него была грустная улыбка – такая же, какую я заметила на ферме, когда он заехал на велосипеде. Только в десять раз хуже. Он не очень представлял себе, что будет делать со всеми вещами, с домом. Я посоветовала ему переждать. Дать себе время пережить траур. Оплакать Мадлен. Он вскинул на меня глаза, я увидела, как переменилось его лицо, опустились вниз уголки губ, задрожал подбородок. Я обняла его, и он заплакал. Заплакал, как ребенок. Я присела на край кровати, он встал на колени рядом, обвив руками мою талию. Он рыдал. Как налетевший шквальный дождь, когда вы можете промокнуть до костей меньше чем за полминуты. Так же неистово. Он распахнул шлюзы, и вся его печаль изливалась мне на живот. Не только из-за потери Мадлен. У меня было ощущение, что он оплакивал всю свою жизнь. Жестоких родителей, свою заброшенность, насмешки в школе, свое одиночество. Он вцепился в меня, словно крича: У меня осталась только ты!
Я плакала вместе с ним, гладя его волосы.
Мы просидели так около часа. Это напомнило мне ночь в слезах рядом с Антуаном. Но на этот раз все было куда серьезней.
Когда он немного успокоился, я предложила поехать домой. Он очень устал и наверняка мало спал в последнюю неделю. Он вернется когда захочет, но сейчас лучше уйти отсюда, немного отвлечься. Дать телу небольшую передышку.
Он сел на пассажирское место и уставился в окно, как будто стыдился показать мне свое лицо. Я села за руль. Он быстро уснул. Я слышала, как он иногда принимался плакать, а потом снова засыпал.
Мне было действительно тяжело. Рядом со мной был не тридцативосьмилетний лейтенант, а маленький покинутый мальчик, который лишился путеводной звезды и не знал, удастся ли ему отыскать дорогу.
На ферму мы приехали ближе к полуночи. Выпили травяного чая. Я принесла ему махровую варежку, намоченную в холодной воде. У него болели глаза и голова.
– Спи здесь. Так будет лучше.
Я устроила его в своей постели. Пошла переоделась и пристроилась рядом. Он обнял меня, и я прижалась к нему, чтобы заснуть. Я чувствовала, как он дышит мне в спину. Он все еще иногда всхлипывал. Но ливень вроде бы унялся. Когда прозвонил будильник, мы не шелохнулись. Он спал как младенец. Глаза у него опухли от усталости и горя.
Я встала подоить коров. Позвонила Антуану предупредить, что я дома, и попросила передать Сюзи, чтобы она после школы вернулась на автобусе.
– Как там дела?
– Тяжело. Он спал здесь. С ним все не очень. А как Сюзи?
– Спрашивает, как он. Она нарисовала ему картинку. Почему она так быстро привязалась к нему?
– Потому что он боится пауков…
Антуан не понял. Когда-нибудь я ему объясню.
34
Я проснулся в десять. Болела голова, глаза, сердце. Особенно сердце. Я еще не мог поверить, что Мадлен умерла. Вчера вечером я, наверно, выплакал все слезы, которые накопились в животе. Думаю, я перестал плакать в тот день, когда отец вздул меня из-за паука, не хотел еще раз услышать: По крайней мере, будешь знать, из-за чего плачешь. Тридцать два года без слез. Естественно, запас накопился немалый. Вчера вечером я знал, из-за чего плакал. Судьба устроила мне взбучку, которой я еще не видывал.
Только два лучика света пробиваются сквозь отверстия в форме сердечек в середине каждой ставни. Мне хорошо в этом гнездышке, в окружении мебели, натертой воском, и легких кружевных занавесок. Она повсюду развесила маленькие сердечки из ткани. Мадлен изготовила сотни таких на машинке мадам Ришар. Она продавала их на субботних рынках в нашем квартале. Чтобы свести концы с концами и купить все, что мне нужно для школы.
Этой ночью Мари была не женщиной, а любимой игрушкой, которую ребенок прижимает к себе, когда ему очень горько. Плюшевым мишкой, которым социальные работники утешают брошенных детей. И я все еще остаюсь таким ребенком. Я так по-настоящему и не вырос. По-прежнему боюсь пауков, боюсь привязаться, боюсь, что мне сделают больно, боюсь других людей, их глупости и злобы. Я прячусь в свои рисунки, как ребенок в свой вымышленный мир. Я высокий и сильный, но внутри – большой темный шкаф, в углу которого, скорчившись и обхватив голову руками, прячется маленький мальчик с грустными глазами. Мадлен заставила меня об этом забыть, но теперь неглубоко запрятанные обломки моего детства снова всплыли на поверхность. Мною владеет необъятная и бессмысленная мечта. Пережить в тридцать восемь лет то, чего мне всегда чудовищно не хватало и через что любой ребенок должен пройти, чтобы создать самого себя. Беззаботность.
Проходя мимо зеркала, висящего над комодом, я не узнал собственного лица. Никогда еще я столько не плакал, и мои веки вспухли, увеличившись раза в два. Как после приступа аллергии. Аллергия на смерть. Такое бывает?
Холодная вода ничего не изменила. Следы горя не смоешь. Я попытался улыбнуться. Результат оказался душераздирающий.
Потом я кое-как спустился по лестнице и уселся на диване. Малейшее движение усугубляло и без того чудовищную головную боль.
Мари вернулась, опередивший ее Альберт подошел ко мне, опустив голову и поджав хвост. У меня что, такой страшный вид?
– Как ты?
– Все тело болит. Особенно голова и глаза.
Она сняла у двери резиновые сапоги и в одних толстых заштопанных носках подошла, чтобы поцеловать меня в лоб.
– Ты весь горячий. Сейчас принесу тебе таблетку.
Мадлен тоже так делала, когда у меня бывала температура. У всех мам термометр на краешке губ?
Таблетка исходила пузырьками в стакане воды, который она протянула мне вместе с махровой варежкой, смоченной желтоватым молоком.
– А это что?
– Молозиво. Тебе повезло, вчера был отел, так что оно совсем свежее. Положи на глаза, увидишь, оно просто чудеса творит. Тебе что-нибудь еще нужно?
– Нет, – солгал я.
Мне пришлось дождаться, пока она снова отправится по делам, чтобы суметь внятно выговорить, вернее, тихо вышептать самую глубокую свою потребность:
– Беззаботность, мне нужна беззаботность.
Я просидел так битый час, с коровьим молозивом на глазах. Слышал, как работает трактор, лязг железок, время от времени лай Альберта. Мари тоже иногда взлаивала, чтобы ее слышало стадо.
Эффект от молозива был просто невероятный. Краснота уменьшилась, и припухлость спала, глаза больше не болели. Вид у меня все равно был никудышный, но хоть не такой отвратительный. И голове полегчало от таблетки.
Я подумывал вернуться домой. Завтра на работу. Мари предложила подождать до четырех часов, чтобы повидаться с Сюзи. Почему бы нет. В своей квартирке я только ходил бы кругами. Я взял со стола несколько листков бумаги, карандаши и поднялся на склон над фермой, чтобы немного порисовать.
Я долго наблюдал за коровами. Они мирно паслись на поле сразу за фермой. Это было забавно. Стадо жило своей жизнью, со своей внутренней динамикой. Как маленькое сообщество. Пара коров были заправилами и слегка тиранили остальных, другие были пугливыми или, наоборот, флегматичными, из тех, которым на все плевать, – они отходили подальше, чтобы их оставили в покое. В сущности, совсем как люди. Я задумался, каким бы я мог быть, если бы был коровой. Кажется, в тот день именно коровой мне и хотелось быть. Не говоря уж о том, что дважды в день меня бы ласкали руки Мари, пусть и шероховатые, привлекала сама мысль о спокойствии, отсутствии всяких забот, тревог, настроений – и всякой грусти. А с другой стороны, кто сказал, что у коров не меняется настроение? Та, которая телилась у меня на глазах, вроде бы ужасно страдала. А другая, я слышал, отчаянно мычала, когда наутро после отела у нее отняли теленка. Мари объяснила мне, что выбора нет, иначе она не могла бы доить ее и делать свой сыр. И упоминать не стоит о том, как в них сзади копается осеменитель. Они что, получают от этого удовольствие?
Итак, сегодня пополудни я размышлял над следующим философским вопросом: счастлива ли корова? По крайней мере, эти размышления не давали мне думать о Мадлен.
Через некоторое время я все-таки взялся за карандаш и стал рисовать. Коровы собрались в середине поля и улеглись все вместе. Красивая сцена.
Тут я и заметил школьный автобус, притормозивший в конце своего маршрута у поворота внизу. Сюзи была последней, кого подвозили. Я видел, как она начала взбираться в гору со своим маленьким ранцем за спиной. И не жалел, что остался. Дети – это жизнь. Она бодро шагала, иногда останавливаясь, чтобы разглядеть что-то на обочине. Наверно, цветок или зверушку. Ту, которая не ест других. Было действительно приятно наблюдать за ней в ее маленьком мире, в ее маленькой жизни. Эти мгновения принадлежали только ей. Никаких указаний ни от учительницы, ни от мамы, никаких обязательств, кроме как подняться по дороге, не забывая жить своей жизнью. Полная беззаботность. Может, она меня научит?!
Наконец я засвистел и замахал ей руками. Она ответила мне и свернула к небольшой скале, на которой я устроился.
– Как ты? – спросила она, запыхавшись, когда добралась до меня.
– Нормально!
– Ты рисуешь коров?
– Да. Меня это отвлекает.
Тогда она глянула на мой рисунок.
– Они готовят заговор.
– Думаешь?
– Да. Когда они вот так собираются, значит готовят заговор против мамы.
– А потом они что делают? Митингуют? Или бастуют?
– Нет, потому что маму не проведешь. Как учительницу. Мы тоже иногда на переменках разговариваем о том, чего нам не хотелось бы делать в классе или хотелось бы, – может, чтобы переменки были подлиннее, ну, и всякое такое. А потом никто ничего не говорит, потому что не решается, а то она будет нас ругать. И с коровами так же.
Я улыбнулся. Жизнь – это дети.
– А кто она была, Мадлен?
– Она была мне как мама и немного как бабушка тоже, потому что ей было много лет.
– Получается, это как если бы мама и бабуля умерли в один день?
– Вроде того.
– Тогда я понимаю, почему тебе так грустно. Я еще не родилась, когда бабуля умерла, поэтому я не могла грустить, но если бы мама сегодня оказалась мертвой – у-ю-юй!
То, как Сюзи говорила о смерти, с какой простотой, снова вызвало у меня слезы. Она несколько мгновений смотрела на меня, потом достала из ранца носовой платок и вытерла мне щеки. И прошептала на ухо:
– Мадлен – она как Иисус на кресте, она вернется, только ее не будет видно.
Дети – это жизнь.
35
Есть доля странности в том, что происходит между ним и мною, начиная с того дня, когда Жан-Рафаэль решил зарыться в мою солому. Когда моя подружка описывает свои любовные похождения, все обычно начинается в баре, за стаканчиком, со всяких ласковых словечек и обжиманий, а потом, в тот же вечер, продолжается под одеялом. А в отношении нас, меня и Оливье, жизнь словно колеблется, размышляет, возводит препоны и подкидывает воспоминания, творит необычные обстоятельства, которые то сближают нас, то разводят. Скоро будет два месяца, как мы тянем волынку, не решаясь на ней заиграть. Хотя вышеупомянутая подружка за тот же срок добирается до завершения очередной эпопеи. Может, вовсе неплохо, что мы не спешим, может, это добрый знак. Вопрос, что тебе больше по вкусу. Вроде разницы между фермерской курицей и курицей общепита, нашпигованной гормонами.
Он уехал. Завтра утром ему на работу. Мы долго простояли обнявшись. Я велела ему звонить когда захочет. Как обычно, мы не договорились о следующей встрече. Я дала ему с собой немного молозива, на случай, если придется сделать еще один компресс вечером. Это вещество творит чудеса. Я им все время пользуюсь, чтобы лечить коров. Трещины на вымени, нарывы, маленькие ранки.
Я использую лекарства, унаследованные от дедушки с бабушкой, у меня свой хлеб, свой огород, готовлю сама, у меня очень скромный гардероб, и был бы еще скромнее, если бы Маржори, подружка-блондинка, не вытаскивала меня дважды в год на распродажи. Да и то я чаще возвращаюсь с книгой, чем с брюками.
Я люблю называть ее подружкой-блондинкой. Вообще-то она рыжая, так что ее это смешит. Она знает, что я имею в виду: жертва моды. Она это признает и полностью соответствует. Она и меня старается обратить в свою веру, причем душой и телом, но попусту: мое тело сопротивляется. Я люблю простоту. Ее это вгоняет в неистовство: она возвела мой внешний вид в ранг великой национальной задачи[27]. Рассуждает о коучинге[28], релукинге[29] и прочих штуках на – инг, звучащих так современно. Пусть говорит, я не против. Ей это в радость. Я-то, можно сказать, в этом отношении застряла на стадии лучины. А вообще, я ее люблю. Она трогательная. Спрашивает меня, какой фирмы мои коровы, а я ее – какой породы на ней туфли. Ее массажист горло сорвал, пытаясь втемяшить ей в голову, что все ее проблемы со спиной – от головокружительной высоты каблуков. Да я назад завалюсь, если надену туфли без каблука. А главное – ей больше не понадобится массажист. Хоть один мужчина, внимательно и благосклонно взирающий на ее раздетое тело. У нее постоянно цистит, потому что она носит трусики из синтетики и слишком обтягивающие брюки, прыщи на лице, задыхающемся под толстенным слоем тонального крема, и она впадает в такое же буйство, когда ломает накладной ноготь, как я, когда у меня не заводится трактор. Я ее утешаю, когда она рассказывает об очередном типе из серии «ласковые словечки с обжиманием», которого повстречала в баре, за стаканчиком, и с которым кувыркалась недели две, пока на третью неделю он не бросил ее, как фантик от съеденной конфеты. Она изливает душу, причитая, что недостаточно красива для него, что нужно переделать груди, подкачать губы и подтянуть свисающий зад. Но все так или иначе свисает. Однажды я ей процитировала Исаака. Исаака Ньютона. «Все тела притягиваются друг к другу с центростремительной силой, обратно пропорциональной разделяющему их расстоянию, эта сила называется всемирным тяготением». Она глядела на меня некоторое время, прежде чем ответить: Ну да, я о том и толкую: меня это жуть как тяготит. Может, потому ее каблуки такие высокие. Чем больше она отдалит свои ягодицы от земли, тем слабее будет сила, оттягивающая их вниз.
В утешение я говорю: мол, ничего страшного, просто он жалкий тип, а ты достойна лучшего. Она внимательно слушает, заверяет, что впредь поостережется, а через месяц все повторяется по новой.
Она чувствует себя свободной, потому что не хочет детей. Одна мысль о них вызывает у нее отвращение. Таскаться девять месяцев с каким-то чужаком в животе, который шевелится, растет и дергается у нее под кожей, – какой ужас. А вдобавок он порвет ей промежность и отгрызет кончики сосков. Нет уж! В том, что касается выживания вида, можете на меня не рассчитывать, пусть уж он обойдется без моих яйцеклеток, этот самый вид.
Забавно, а вот мне очень нравилось быть беременной.
В результате Маржори помогает мне прекрасно себя чувствовать в моем мире. Я ей не завидую, потому что она страдает. От диктата моды, от недостойных мужиков, от одиночества. На своей горке я чувствую себя защищенной, отделенной от мира, кишащего бесполезным и недостойным.
Пусть даже Жюстен был его частью. По глупости я думала то же, что она. Может, я уродина? Что плохого я сделала? Почему он меня больше не любит? А вообще, он меня любил? Может, нет. Это было б еще хуже.
Иногда я думаю, что дичаю. Когда я в городе, у меня начинается сердцебиение, и оно утихает, едва я начинаю подниматься к себе на гору. Высота как транквилизатор. Я иду в ногу со временем только в том, что касается информатики. На сегодняшний день предприниматель никуда от этого не денется. И еще – оборудования сыроварни, это стало обязательным с их паршивыми европейскими нормативами. Нержавейка, любовь моя! У сыра уже не тот вкус.
Эх, если бы я так не скучала по вкусу сыров дедушки! Предки жили просто. Они не ели клубнику на Рождество или огурцы в феврале. Они не кидались к доктору при каждом чихе и не теряли времени, слоняясь по городу. А главное, они штопали свои носки.
Я сохранила то, что любила, из их времени и добавила прогресс, которого им не хватало. Это неплохой компромисс.
Сюзи прикрепила рисунок с коровами к холодильнику. На нем красовалось название: «Заговор». Смешно, никогда бы не подумала. А может, это правда. Кто сказал, что они не готовят бунт? Надо будет проинструктировать Альберта.
36
Я работал до вечера пятницы, машинально, без всякого увлечения, но эффективно. Надо отдать должное Фанни, которая дежурила на приеме: она хоть поинтересовалась, правда без особого интереса, все ли у меня в порядке. Я бросил, что у меня умерла мать, и тут же прошел дальше, чтобы у нее и мысли не мелькнуло что-либо сказать в ответ. Я ненавижу искренние соболезнования. Они никогда не бывают искренними. Фанни для остальных членов бригады то же, что новостная лента для журналистов: к вечеру все будут в курсе. Меня это избавит от лишних хлопот. Текущие дела и кипа поступивших жалоб позволили мне не слишком думать о Мадлен. А когда, несмотря ни на что, это вступало в голову, я вместо нее представлял лицо Мари. Верное противоядие от печали. И чем больше я думал о Мари, тем больше желал ее. Я не хотел больше ждать. Смерть Мадлен стала новым большим взрывом. В ином смысле. Я не хотел, чтобы звезды отдалялись. Наоборот. Я мечтал войти в ее солнечную систему, пересечь ее траекторию, я мечтал о столкновении. Я больше не мог довольствоваться тем, что я Луна, вращающаяся вокруг Земли. Я хотел войти в ее атмосферу. Отказаться от роли спутника, отдаленного на световые годы. Но при этом оставить себе свет – на годы. На меня словно исступление нашло, мною овладело неистовое людоедское желание вгрызться в жизнь и торопливо поглощать ее, не оставляя ни крошки. Ведь верно: в конце концов, я мог умереть завтра, на дороге, или же она – попав под трактор или пав жертвой какого-нибудь бунта скотины, на ферме, охваченной огнем и залитой кровью. Пресловутый заговор отдельной анархической коровьей группировки. Так зачем ждать? Она умеет за себя постоять. Я вполне могу попытаться!
После работы я зашел к фотографу купить рамку из навощенного дерева, как мебель в ее спальне. Вставил в нее портрет Сюзи, тот, который ей так понравился. Потом проглотил полбатона, чтобы утихомирить сидящего во мне людоеда. Мысль о встрече с ней будила во мне голод. Выжидая, когда можно будет отправиться в дорогу, чтобы приехать достаточно поздно – пусть Сюзи уже уснет, – я рисовал планеты, солнечные системы, звезды и Мари среди них. Я вел машину аккуратно: сейчас неподходящий момент, чтобы во что-то врезаться, и молился, чтобы трактор ее не переехал. Коровы наверняка уже спокойно похрапывают, так что бунта я особо не опасался.
Я припарковал машину внизу, чтобы устроить сюрприз. На кухне горел свет. И все же, крадучись пересекая двор, я заметил, как над подоконником возникла морда Альберта. Невероятная собака. Он бы расслышал, как паук ползет по полу чердака. К тому же он с успехом заменяет пылесос! Надо и мне завести такую псину.
Глядя на собаку, она, наверно, догадалась, что кто-то пришел, потому что открыла раньше, чем я успел постучать.
Я не дал ей заговорить. Положил принесенный сверток на столик у двери, взял ее лицо в ладони и поцеловал.
Она высвободилась, схватила мою ладонь. Момент истины. Пан или пропал. Пусть делает со мной что хочет. Пусть свяжет, как бычка, на плитках кухонного пола или же отправит в рай. Под взглядом Альберта, адвоката защиты, я прикрыл глаза в ожидании приговора. Когда я ощутил ее губы на своих, довольно далеко от щеки, я понял, что мои нейроны будут отплясывать самбу до конца ночи.
Господи, как же я хотел ее! Я чувствовал себя рыцарем, вернувшимся после двадцатилетнего крестового похода, когда приходилось довольствоваться безвкусной лагерной едой, которого усадили за роскошнейший стол, уставленный невообразимыми яствами. Я не знал, с чего начать. Я хотел бы сожрать ее, но знал, что ей нужно, чтобы ее дегустировали, мягко и нежно. Три звезды по «Мишлену»[30] – такое стоит смаковать! Чудо, к которому я готовился в районной библиотеке, вполне могло длиться часами, и я знал, что насыщение наступит нескоро.
Я уже не помнил, что именно рекомендуют книги в подобных ситуациях. Думаю, дышать. Но то, что я переживал, не описано ни в одной книге.
Она стянула мою куртку и бросила на диван. Я усадил ее на кухонный стол, прямо в муку, в которой она месила тесто для булочек. Муки еще хватало, чтобы вымесить ее упругую маленькую попку, которую она мне продемонстрировала на тридцатой секунде нашей первой встречи и которая с тех пор так и крутилась в моих мозговых извилинах. Я пристроился у нее между ног, чтобы чувствовать, как ее живот прижимается к моему. Но вскоре она предпочла увести меня в потаенный мирок своей спальни.
Я тоже предпочел подняться наверх. Не хотелось, чтобы Альберт присутствовал в качестве молчаливого свидетеля и размахивал своим хвостом, глядя на мой. И потом, мне очень нравилась эта маленькая комната с развешанными повсюду сердечками. Мое было готово разорваться. Если оно не выдержит, придется взять ситцевое взамен.
Она сняла с меня майку, ту самую, с коровой и бананами, и ощупала мои грудные мышцы, как сосцы у своих коров. Ее шершавые руки чуть скреблись о мою кожу. Я напряг мышцы, одну за другой. Годами я развлекался тем, что делал это перед зеркалом в ванной, вылезая из-под душа. Каждый находит себе занятие по вкусу. Ее это рассмешило.
В свою очередь я снял майку с нее. Она была без лифчика, и я наконец-то увидел ее пресловутые соски, которые столько времени бросали мне вызов. Я пососал их один за другим. Они были твердыми и выпуклыми. Она попыталась пошевелить грудью, как сделал я. Безуспешно. Тогда я немного помог. Груди были маленькими и крепкими. Это тоже ее рассмешило. Я спустил ее легкие брючки. Она не носила белья. Моя рука прошлась по ее промежности, прежде чем я поднял ее и уложил на кровать.
Ставни еще не были прикрыты, и луна мягким светом заливала спальню. Я собрал целую коллекцию романтических клише! Я не уставал любоваться игрой света и тени на ее изгибах. Как опытному рисовальщику, мне это доставляло особое удовольствие. Будет что рисовать долгие недели. Да что я говорю – годы.
Обе ее ключицы стекали от плеч к основанию шеи в почти идеальной симметрии. Одна из них чуть выступала вперед. Перелом при рождении, который неровно сросся. Впадина подмышек едва различима. Она их не брила. Мне было все равно. Это было почти незаметно. Я потянул за волоски зубами, мне хотелось все распробовать. Все понюхать.
Ну, приятели-феромоны, вылезайте из укрытия.
Ваши коллеги мужского рода в прекрасном расположении духа.
Я снова задержался на кончиках ее грудей, которые теперь устремлялись к небу, словно две пирамиды, выложенные на вершине холма, чтобы служить ориентиром и не дать заблудиться путникам. А вот мне хотелось затеряться. Ее тело – огромный остров сокровищ, который мне хотелось обойти раз за разом, прежде чем погрузиться в его недра.
В центре живота ее пупок казался совсем крошечным. Возможно, свидетельство недоразвитой пуповины. Сердце сжимается – если вспомнить ее историю. Словно слабость пуповины заранее предрекла отсутствие связи с матерью, а потом и окончательное исчезновение ее родительницы.
Я долго целовал крошечный пупок, будто пытался вдохнуть в него мою любовь – ту, которую недодала ей мать.
А вокруг – словно огромная плитка шоколада с большими дольками, которые вырисовывались под молочной кожей при малейшем движении. Наверняка сказалась работа на ферме, и мое чревоугодие взыграло еще больше. Мне хотелось ее съесть.
Чуть ниже ее заповедный сад лежал идеальным треугольником, словно указательная стрелка, направленная на вход в пещеру, которую я собирался посетить. Вот здесь я скоро и затеряюсь. Но я еще не закончил, мне нужно узнать ее всю до конца. Мои губы скользнули по ее правому бедру, пока рука спускалась по левому. Их упругость не допускала ни единой складки. Еще ниже – изгиб ноги и очень тонкие щиколотки. Мягкий пушок. Я задержался на пальцах ног, по очереди облизывая каждый. Она извивалась. Как червяк на жарком солнце, взвизгивая, что боится щекотки. Потом привстала, уселась на кровати и взяла мое лицо в свои руки, чтобы заставить меня распрямиться и прекратить эту пытку.
Что ж, охотно.
Я избавился от брюк. В них было жарко, и они жали.
Она снова легла и ждала меня. Положив обе руки ей на колени, я раздвинул ее бедра и задержался, губы на губах, сначала на больших, потом на малых, которые я раздвинул кончиком языка. Вход в пещеру был там, горячий и влажный, сладкий и молочный. Ее дыхание вело меня.
Я вновь двинулся вверх, опять пройдя по холмам и их вздымающимся вершинам. Я долго целовал ее, осторожно в нее проникая.
Мы занимались любовью более получаса, перемежая ее вздохами, улыбками, заговорщицкими взглядами. Прочтенные книжки сослужили мне службу, и я мог себя контролировать. Мне хотелось подождать ее. Дай я себе волю раньше, и мне показалось бы, что я украл у нее этот момент. Я вновь ощутил влажность ее кожи, как в первый мой визит в сыроварню.
Еще несколько секунд мы лежали сплетясь, потом забрались под одеяла и долго разговаривали, пока ее пылающее тело прижималось к моему. Эти мгновения были почти так же хороши, как предыдущие. Покой после бури.
Мне показалось, что я услышал, как зовет Сюзи. Мари успокоила меня, сказав, что с ней так часто случается во сне. Она разговаривает, не просыпаясь. В этот момент я гладил ее живот и не удержался:
– Какая была пуповина у Сюзи в момент рождения?
– Огромная. Антуан еле перерезал ее, такая она была крепкая.
Ага!
– А почему ты спрашиваешь? – заинтересовалась она.
– Просто так. Интересуюсь историей пуповин.
– А что, у пуповины есть история?
– Не знаю. Я размышляю над этим вопросом…
После чего коснулся ее грудей, напомнив ей, как они щекотали мой пах. Она удивилась: ничего подобного ей не запомнилось. И тут она призналась, какие комментарии они с Антуаном отпускали по поводу моих ягодиц и мускулов, проступающих под велосипедным трико. Мне было странно представить себе, что мужчина может разглядывать меня подобным образом. Но я же не такой, как Антуан.
К счастью.
Так мы обменивались скудными общими воспоминаниями около часа, веселясь от всей души. Я все смотрел и смотрел на нее. Это было поразительно: ее тело покрывал легкий пушок, даже там, где он обычно бывает густым. Я спросил себя, использовала ли она бритву хоть раз в жизни. Да ей и не нужно было. Это так очаровательно. Наверняка женщины очень отличаются друг от друга с этой точки зрения.