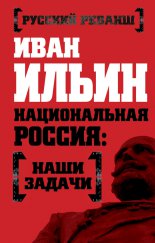Век амбиций. Богатство, истина и вера в новом Китае Ознос Эван

1. Почтительный сын.
2. Классный парень.
3. Ответственный.
4. Скуповатый семьянин.
5. Честный и прямолинейный.
6. Внимательный человек.
7. Карьерист.
8. Мудрый и дальновидный.
9. Невзрачный.
10. С чувством юмора.
и. Любитель путешествий.
12. Замкнутый.
11. Тактичный.
14. Энергичный.
15. Верный.
16. Организатор.
17. Красавчик.
18. Надежный, уверенный, спокойный.
Потом меня попросили как можно точнее описать личные предпочтения. Я вспомнил “синих муравьев” и начал читать:
1. Я скромен и вежлив.
2. Я – ковбой с Дикого Запада.
3. Я легок в общении и жизнерадостен.
4. Я красив и учтив.
5. Я зрелый и обаятельный.
6. Я высокий и мускулистый.
7. Я прост и непритязателен.
8. Я сдержан и холоден.
Гун Хайянь очень вовремя занялась этим бизнесом: китайцы все больше увлекались выбором. В 80-х годах, когда доходы стали расти, покупатели скупали то же, что их соседи. Это явление назвали “приливным потреблением”.
В деревне Сяцзя неофициальный центр переместился из штаба компартии в первый (и единственный) магазин. Молодежь с уважением заговорила о гэсин – “индивидуальности”. Молодые мужчины стали покупать гель для волос и мокасины. Они приезжали в магазин на машине, а не шли пешком, хотя до него было всего триста метров. Родовые гнезда перестраивали, чтобы супружеским парам больше не приходилось делить постель со своими родителями и детьми, и люди разных поколений теперь спали в разных комнатах. Секретарь партийной ячейки перестал называть себя “винтиком революционной машины”: “Почему я пошел на эту работу? Все просто – деньги”.
Когда государство отказалось от практики распределения, ему пришлось готовить выпускников институтов к непривычному опыту выбора места работы. Новый рынок труда (и брачный рынок) породил потребность в новой одежде, фитнес-клубах, косметике, бритвах и креме для бритья. В 2005 году на китайском телевидении появилась программа в духе American Idol[3] – “Конкурс “Супергерл монгольского сливочного йогурта’”. Успех этой передачи породил новый жанр – “шоу выбора”, где участники могли выбирать или быть выбранными другими участниками или зрителями.
Покупки (по крайней мере прогулки по магазинам) стали главным хобби. Средний китаец посвящал шопингу почти десять часов в неделю (средний американец – меньше четырех) – отчасти из-за популярности этого нового развлечения, отчасти из-за неразвитых транспортных сетей и цен. Исследования показали, что средний житель Шанхая видит в три раза больше рекламы в день, чем житель Лондона. На китайский рынок пришло множество брендов, которые прилагали отчаянные усилия, чтобы их заметили. Потребители не возражали. Рекламы стало столько, что модные журналы пухли на глазах. Редакторы китайского “Космополитен” решили выпускать номер в двух частях: журнал получался слишком толстым.
Сотовый захлебывался от спама. “Внимание начинающим наездникам!” – так зазывала меня к себе “самая большая крытая арена” в Пекине. Однажды утром мне сообщили о существовании “огромного столетнего здания, возведенного с английским мастерством” и “барочной виллы с парком площадью 54000 м2”. Большая часть сообщений касалась фальшивых бумаг, помогающих скрыть от налоговой службы свои доходы. Мне нравилось представлять китайца, просыпающегося в огромном английском здании и седлающего лошадь, чтобы поскакать по парку за поддельными документами.
Западные компании наперебой предлагали товары, которые, как они надеялись, придутся китайцам по вкусу. “Ригли” выпустила жвачку со вкусом мяты и огурца. “Хаген – Дас” начала продавать “лунное печенье” (юэбин). Однако не все идеи были успешны: “Крафт” потерпел неудачу, когда попытался изготовить крекеры со вкусом рыбы, сваренной в масле из сычуаньского перца, фирма “Маттел”, открывшая шестиэтажный магазин Барби в центре Шанхая (со спа и коктейль-баром), столкнулась с тем, что китайские родители не одобряют взгляд Барби на учебу, а компания “Хоум депо” обнаружила, что последнее, о чем мечтают сыновья и дочери рабочих и крестьян, – это товары “Сделай сам”.
Некоторые предпочтения китайских потребителей иностранцам понять нелегко. Когда в магазинах появилась марка модных оправ для очков “Хелен Келлер”, журналисты интересовались, почему для рекламы очков выбрали самого известного в мире слепого человека. Компания ответила, что в китайских школах историю Келлер подают в первую очередь как образец стойкости и, скорее всего, продажи будут отличными. Очки “Хелен Келлер” рекламировали так: “Ты видишь мир. Мир видит тебя”.
Деньги и любовь в Китае всегда были связаны откровеннее, чем на Западе, однако когда почти ни у кого не было ни гроша, считать было проще. Согласно традиции, родители невесты заботились о ее приданом, а родители жениха выплачивали родителям невесты сумму, несколько превышавшую стоимость приданого. Во времена Мао обычно менялись зерном. В 80-х годах молодожены стали рассчитывать на “три круга и звук”: велосипед, наручные часы, швейную машинку и радио. Или на “тридцать ножек”: кровать, стол и набор стульев. В большинстве провинций Китая обычай обмена сохранился (в наличных), но ставки выросли.
В 1997 году по брачным традициям был нанесен удар: Госсовет вернул людям право покупать и продавать недвижимость. При социализме работодатели селили рабочих в неразличимых бетонных коробках общежитий. Когда правительство восстановило рынок, делопроизводство не знало даже официального перевода слова “ипотека”. Вскоре началось мощнейшее в мире накопление богатства, сколоченного на недвижимости.
По обычаю, китайские молодожены селились в доме родителей жениха, однако к XXI веку менее половины пар оставалось там надолго. Экономисты Вэй Шанцзинь и Чжан Сяобо установили, что родители, имеющие сыновей, стали строить для них дома побольше и подороже, чтобы привлечь лучших невест (так называемый “синдром свекрови”). Газеты подстегивали эти устремления статьями вроде: “Дом – объект гордости мужчины”. В некоторых деревнях началась настоящая гонка: семьи пытались перещеголять друг друга, надстраивая этажи, остававшиеся пустыми до тех пор, пока не набиралось денег на их меблировку.
В 2003–2011 годах цены на недвижимость в Пекине, Шанхае и других крупных городах выросли на 800 %.
“Век амбиций” разделил людей не по их прошлому, а по будущему. При социализме учитывалась “политическая благонадежность” родителей и предков. В новом Китае мужчины и женщины оценивают потенциал друг друга, особенно в том, что касается заработка. Вскоре стало ясно, что на брачном рынке ожидания и реальность не совпадают. Лишь у io % мужчин, судя по сайту Гун, имелось собственное жилье. В то же время при опросе почти 70 % женщин заявили, что не выйдут замуж за мужчину без жилья. Точные данные о жилищных перспективах стали основным вопросом потенциального брака. На сайте мне предложили следующие варианты:
1. У меня нет жилья.
2. Я могу купить дом или квартиру, если понадобится.
3. У меня уже есть жилье.
4. Я снимаю жилье вместе с другими.
5. Я снимаю жилье в одиночку.
6. Я живу с родителями.
7. Я живу с друзьями и родственниками.
8. Я живу в рабочем общежитии.
“Если вы снимаете жилье или делите его с другими, считайте, что уже выбыли из игры”, – объяснила Гун. Мужчины с хорошими ответами не стеснялись. Для анкет они придумали выражение чэфан цзибэй, “укомплектован машиной и домом”.
Необходимость соответствовать новым требованиям привела к своеобразной “инфляции” языка. Несколькими годами ранее “тройным отсутствием” считался мигрант без жилья, работы и дохода. К тому времени, когда я начал навещать офис Гун Хайянь, “тройным отсутствием” называли уже мужчину без дома, машины и отложенных на черный день денег. Если такой человек женился, это называли “голой свадьбой”. В 2011 году под таким названием вышел мини-сериал о девушке из привилегированного слоя, которая, несмотря на возражения родителей, вышла замуж за пролетария и переехала к его семье. Он стал самым популярным в Китае. Если бы это был роман 30-х годов, его отнесли бы к жанру “о трагической любви”: к концу сериала пара развелась. Не менее популярной стала программа “Если ты тот самый”, где молодые одинокие мужчины и женщины оценивали друг друга. На экране появлялись всплывающие подсказки: является ли кандидат “укомплектованным машиной и домом”. В одном выпуске “тройное отсутствие” предложил женщине покататься на его велосипеде. Она отказалась со словами: “Я лучше буду плакать в БМВ, чем улыбаться на велосипеде”. Это не понравилось цензорам. В шоу ввели почтенную соведущую, проповедующую воздержанность.
Один-два раза в неделю компания Гун устраивала вечера встреч для одиноких. Как-то я побывал на таком в Пекине. В танцевальном зале собралось триста прихорошившихся мужчин и женщин. Им выдали мерцающие фонарики в виде губ, которые следовало прикрепить к одежде. Ведущий поднялся на сцену и начал: “Пожалуйста, положите руку на сердце и повторяйте: клянусь, что пришел сюда не с целью обмануть или причинить вред”.
На сцену с декорациями из телеигры вышли двенадцать женщин. Каждая держала в руках красную палочку с фонариком в виде сердца: включен – заинтересована, выключен – нет.
Один за другим мужчины (инженеры, аспиранты, банковские служащие двадцати-тридцати лет) поднимались на сцену и отвечали на вопросы. Но все шло не слишком гладко. Банковский клерк с широкой грудью, обтянутой хлопковым свитером, вызывал некоторый интерес лишь до тех пор, пока не сказал, что проводит на работе шесть с половиной дней в неделю. Следующим был профессор физики в твидовом пиджаке. “Никаких великих свершений, лишь бы ни о чем не жалеть”, – описал он свои жизненные устремления. Женщины остались недовольны. Последним оказался немногословный адвокат по уголовным делам, любитель пеших прогулок. Он неплохо справлялся, но испортил впечатление о себе, когда сообщил участницам, что рассчитывает на “покорность”. Фонарики погасли. Адвокат покинул сцену в одиночестве.
Новый год неумолимо приближался. Я разговорился с тридцатилетним Ван Цзинбином (лицо в форме иероглифа “нация”), которому предстояла встреча с семьей: “Они давят на меня, и поэтому я здесь”. После колледжа Ван стал работать в торговле. Он экспортировал салфетки и другую бумажную продукцию. Работа оставила отпечаток на его английском. Когда он попытался описать неудачное свидание, то сказал, что его “вернули”. Мероприятия для одиноких не нравились его сельским родственникам: “Сестра не хотела, чтобы я приходил сюда. Она сказала: “Ты никогда не найдешь здесь девушку’… Мне нужно следовать сердцу. У сестры другое образование и жизненный опыт, поэтому у нас разные взгляды”.
Сестра, окончившая лишь среднюю школу, еще жила в их деревенском доме и продавала с лотка газировку и лапшу. В двадцать лет она вышла за мужчину из соседней деревни, которого выбрали ей родственники. Ван изучал английский в Шаньдунском университете, а после уехал в Пекин. К тому времени, как мы встретились, он прожил в столице пять лет. Ван был на грани выхода из рабочего класса. Пока мы разговаривали, я в уме заполнял за него анкету: “i. Почтительный сын… 4. Скуповатый семьянин… 14. Энергичный”.
Ван пообещал себе, что станет ходить хотя бы на одну встречу в неделю, пока не найдет кого-нибудь: “Сказать по правде, вчера меня вернула девушка, потому что я оказался не таким высоким, как ей казалось”. Я спросил, согласен ли Ван с тем, что ему нужно купить дом и машину, чтобы жениться. “Да, потому что дом и машина – знак вежливости, – ответил он. – Женщина, выходя замуж за мужчину, отчасти выходит замуж за его дом и машину. А я пока арендую жилье… Но у меня есть потенциал… Думаю, чтобы купить дом и машину, мне нужно поработать еще пять лет. Еще пять лет”.
Глава 5
Уже не рабы
Когда Дэн Сяопин объявил, что пришло время “некоторым разбогатеть первыми”, он не уточнил – кому именно. Людям пришлось решать самим. Прежде главной целью партии была классовая диктатура. Мао разорил четыре миллиона частных предприятий. Разрыв в доходах в Китае стал самым незаметным в социалистическом мире. Учащимся объясняли, что буржуи и другие “классовые враги” – это “кровососы” и “паразиты”. Фанатизм достиг пика во время Культурной революции. Тогда даже в армии исчезли звания, хотя это порождало хаос на поле боя: военным пришлось отличать друг друга по количеству карманов на форме (у офицеров их было на два больше, чем у рядовых). Любая попытка улучшить свою участь была не просто бессмысленна, но и опасна. Партия запретила спортивные состязания, и тех, кто прежде завоевывал медали, обвинили в “одержимости трофеями”: честолюбивых устремлениях в ущерб общему благу. Тогда говорили: “Строя ракеты, заработаешь меньше, чем продавая яйца”.
Теперь одной из любимейших тем журналистов стали мечты о байшоу цицзя – состоянии с нуля. Мне нравилось читать за ланчем об уличных продавцах еды, которые сделались королями фастфуда, и о других нуворишах. Ничего специфически китайского в этих историях не было, но они легли в основу новой китайской мечты. Тех, кто принял слова Дэна как призыв к действию и преуспел, прозвали сяньфу цюнъти – “те, кто разбогател первым”. Несмотря на вернувшееся уважение к состояниям, заработанным с нуля, Китай потратил столько времени на борьбу с землевладельцами и “идущими капиталистическим путем”, что большинство “тех, кто разбогател первым”, предпочло не афишировать свой успех. Они говорили: “Человек, приобретающий известность, подобен свинье, накапливающей жир”. “Форбс”, в 2002 году опубликовавший список богатейших китайцев, проиллюстрировал эту секретность фотографиями мужчин и женщин с бумажными пакетами на головах. Победители лотерей тоже беспокоились, и газеты печатали их фотографии с чеками в руках и в маскировке: капюшонах и солнечных очках.
Для компартии возвращение классового разделения открыло новые возможности. Аппаратчики стали цитировать Мэн-цзы: “Отсутствие постоянного имущества служит причиной отсутствия у него [народа] постоянства в сердце”[4]. Партия пришла к выводу, что, объединившись с теми, кто владеет имуществом, она защитится от демократии. Но это привело к парадоксу: как могут наследники Маркса и Ленина, получившие власть, отрицая буржуазные ценности и неравенство, принять новый обеспеченный класс? Как сохранить идеологический фундамент власти?
То было время самоопределения и для партии. Задача легла на плечи председателя КНР и генерального секретаря КПК Цзян Цзэминя. В 2002 году он выступил с риторическим трюком. Поскольку Цзян не мог говорить о среднем классе, он заявил, что партия отныне посвятит себя помощи “новой среднезажиточной страте”. Ей пели дифирамбы партийные функционеры, о ней кричали новые лозунги. Автор из милицейской академии назвал “новую страту” “моральной силой, стоящей за культурой… Эта сила необходима, чтобы ликвидировать привилегии и избавиться от бедности. Она абсолютна”.
Тогда же партия перестала именоваться “революционной” и стала называть себя “правящей”. Те, кто десятки лет называл своих оппонентов “контрреволюционерами”, превратились в таких ярых защитников статус-кво, что слово “революция” стало неудобным. Музей истории революции у площади Тяньаньмэнь сменил вывеску на “Национальный музей Китая”. Вэнь Цзябао заявил в 2004 году: “Воистину единство и стабильность важнее всего”.
Если эти перемены и показались обычным китайцам лицемерием, у них не было особенного выбора. Партия и народ теперь смотрели в разные стороны: общество стало пестрее и свободнее, а партия – однороднее и строже.
В октябре 2007 года я присутствовал в Доме народных собраний на открытии XVII Всекитайского съезда КПК. Официально делегаты решали, кто будет править КНР. (На самом деле, конечно, решение было принято заранее.) Шестидесятипятилетний председатель КНР и генсек КПК Ху Цзиньтао, как и многие высшие партийцы, был по образованию инженером – технократом, абсолютно уверенным, что “развитие – единственная истина”. Ху был настолько немногословен и внешне бесстрастен, что его прозвали “Деревянное лицо”. В этом он сам был виноват лишь отчасти: после ужасов Культурной революции партия занялась устранением угрозы культа личности и преуспела в этом. Когда Ху был моложе, в его официальной биографии упоминалось о его любви к бальным танцам. Как только он возглавил партию, эта деталь – единственное, что свидетельствовало о его личных предпочтениях, – исчезла.
Ху взирал на две тысячи преданных ему делегатов. Зал купался в красном: покрывающий весь пол ковер, занавеси, огромная звезда на потолке. Перед трибуной в иерархическом порядке сидели чиновники, многие – в красных галстуках, как и сам Ху. Хореография была безупречной: каждые несколько минут молодые женщины с термосами проходили по рядам, разливая чай с точностью пловчих-синхронисток. Ху выступал два с половиной часа. Его речь пестрела выражениями, далекими от языка улиц. Ху, упоминавший “гармоничное социалистическое общество”, “научный взгляд на развитие” и, конечно, “марксизм-ленинизм”, пообещал лишь постепенные политические реформы. Партия, по его словам, должна сохранить “сердцевину”, которая “координирует усилия всех частей” общественного организма.
За стенами Дома народных собраний было заметно возвращение классового неравенства. В 1998 году китайский издатель издал сатирическую книгу Пола Фассела “Класс: о социальном статусе в Америке” (1982). Кроме прочего, там упоминалось, что “чем агрессивнее телесный контакт в том виде спорта, состязания в котором вы смотрите, тем ниже класс”. В переводе сатира пропала, и книгу раскупали как руководство к действию в новом мире. Переводчик объяснял во вступлении: “Одно лишь обладание деньгами не принесет вам всеобщую приязнь и уважение. Гораздо важнее то, что говорят о вас ваши расходы”.
Книга Дэвида Брукса “Бобо в раю: откуда берется новая элита?”, переведенная на китайский язык в 2002 году, стала бестселлером. Брукс описывал далекий мир – американскую буржуазную богему, мешающую контркультуру 60-х годов с “рейганомикой”, однако книга совпала с представлением китайцев, желающих преуспеть, о самих себе. Слова “бобо”[5] и “бубоцзу” в том году стали самыми популярными поисковыми запросами в китайском секторе интернета. Вскоре появились бары для бубоцзу, книжные клубы для бубоцзу и лэптопы, обещающие подарить бубоцзу “яркие романтические эмоции”. Китайская пресса, устав от бубоцзу, занялась дин кэ (DINK – Double Income, No Kids), а после – “сетянами” (netizens), “королями собственности”, “рабами ипотеки”. Анонимный автор-китаец изобразил в популярном эссе “белые воротнички” молодых мужчин и женщин,
потягивающих капучино; назначающих свидания в Сети; имеющих семью с двойным доходом, но не имеющих детей; пользующихся метро и такси; не рассуждающих об экономике; останавливающихся в хороших отелях; посещающих пабы; долго разговаривающих по телефону; слушающих блюз; работающих сверхурочно; гуляющих по ночам; празднующих Рождество; заводящих связи на одну ночь… держащих “Великого Гэтсби” и “Гордость и предубеждение” на прикроватных тумбочках. Они живут ради любви, манер, культуры, искусства и опыта.
В “век амбиций” жизнь ускорилась. При социализме у китайцев почти не было причин торопиться. Если не считать фантазий Мао о “скачках” вперед, люди работали согласно с бюрократическими и сезонными ритмами. Попытка двигаться быстрее или идти на больший риск почти ничего не дала бы. Подобно императорскому двору, социалистическое планирование определяло, когда включать центральное отопление и когда выключать его. Однако внезапно Китай охватило ощущение, что страна опаздывает. Социолог Хэ Чжаофа опубликовал манифест в пользу ускорения. Он сообщил, что в Японии пешеходы ходят со средней скоростью 1,6 м/с, осудил своих соотечественников (“Даже американка на высоких каблуках ходит быстрее молодого китайца”) и призвал ценить каждую секунду: “Нацию, транжирящую время, накажет само время”.
Некоторые жаждущие преуспеть разбогатели прежде, чем поняли, что делать со своими огромными деньгами. В 2010 году Китай охватила “лихорадка иностранного айпио”, и в мае следующего года предпринимательница Гун Хайянь, занимающаяся бизнесом знакомств, вывела свою компанию на американскую биржу (NASDAQ). К концу того же дня эти акции стоили дороже семидесяти пяти миллионов долларов. Муж Гун забросил изучение дрозофил.
Гун пригласила меня на ужин. Они купили дом в северном пригороде Пекина. Когда мы съехали с шоссе, солнце клонилось к закату. Мы миновали спа-салон для домашних животных, жилой комплекс Chateau de la Vie и свернули к роскошному коттеджному поселку, больше напоминающему Нью-Джерси, чем Хунань. Дом был светло-коричневым, в тосканском духе. Двухлетняя дочь Гун в пижаме бросилась к двери и обняла мать. Муж ждал в столовой, где уже сидели родители и бабушка Гун. Они жили здесь же.
Меня поразило это зрелище: четыре поколения женщин в одном доме. Девяносточетырехлетняя бабушка Гун сильно пострадала во время Культурной революции: ее сочли кулачкой. Она родилась вскоре после того, как в Китае перестали бинтовать женщинам ноги. За ужином я пытался представить, что ей довелось пережить за свою долгую жизнь. “Прежде женщины считали так: “Если хочешь быть одетой и сытой, выходи замуж. Если мужчина отвечает твоим минимальным запросам, выходи за него’, – сказала Гун, подцепляя рис палочками. – Теперь все иначе. Я живу счастливо и независимо. Я могу быть придирчивой. И если мне что-то не понравится в мужчине, у него нет шансов”.
Годами Гун и ее семья кочевали из одной наемной квартиры в другую, вшестером жили в двух комнатах. Теперь у них собственный дом, и живут они среди европейских дипломатов и арабских бизнесменов. Сейчас, спустя девять месяцев после переезда, стены виллы все еще пустуют. У семьи Гун пока нет картин, но это впереди. Мопед стоит в холле: дань деревенской традиции. Не думаю, что его украдут новые соседи. Кажется, семья Гун забрала пожитки из сельского дома в Хунани и распаковала их здесь, на пекинской вилле.
“Век амбиций” потребовал от людей новых знаний и умений. Чтобы помочь начинающим предпринимателям справиться с проблемой выпивки, сопровождающей бизнес в Китае, харбинская вечерняя школа под названием “Вэйлянский институт межличностных отношений” предлагала курс “алкогольной стратегии”. (Вот одна из хитростей: после тоста незаметно выплюньте алкоголь в свой чай.) То, чему нельзя научиться, можно было купить: Чжан Да-чжун – магнат, торгующий бытовой электроникой, – нанял трех человек, чтобы они читали и пересказывали заинтересовавшие его книги.
Задолго до того, как на Западе узнали о повадках напористых “матерей-тигриц”, самым популярным в Китае педагогическим пособием была “Девушка из Гарварда”. В этой книге женщина по имени Чжан Синъу описала, как она привела дочь в “Лигу плюща”. Тренировки начались еще до рождения девочки: беременная Чжан сидела на высокопитательной диете, хотя и очень страдала от этого. Когда дочери исполнилось полтора года, Чжан помогала ей заучивать стихи танских поэтов. В первых классах школы девочка делала уроки при шуме (так Чжан стремилась научить ее концентрироваться) и, следуя наставлениям матери, придерживалась графика: двадцать минут занятий – пять минут бега по лестнице. Чтобы воспитать стойкость, Чжан заставляла дочь по пятнадцать минут держать в руках кубики льда. Это можно счесть глупостью, но для людей, пытающихся выбраться из нищеты, оправданной казалась почти любая жертва.
Никто не желал элитарного образования (и преимуществ, которые оно дает) так сильно, как “те, кто разбогател первым”. Многие из них приехали из глуши и знали, что городские интеллектуалы считают их людьми неотесанными. Из-за гигантского населения поступление в колледж в Китае – это настолько жестокое соревнование, что его сравнивают с “десятью тысячами лошадей, пытающимися перейти реку по единственному бревну”. Чтобы исправить положение, правительство всего за десятилетие удвоило число колледжей и университетов, доведя его до 2409. Но и тогда смог учиться лишь один из четырех абитуриентов.
Американское образование было еще престижней, и тревога родителей из среды “тех, кто разбогател первым”, передалась детям. Осенью 2008 года я обедал с женщиной по имени Чэун Янь, более известной как Мусорная королева. Шанхайский журнал “Хужунь репорт” ежегодно публикует рейтинг богачей. В 2006 году Чэун стала первой женщиной, занявшей в рейтинге состояний первое место. Она основала корпорацию “Девять драконов” (сейчас это крупнейший китайский производитель бумаги). Прозвищем “Мусорная королева” Чэун обязана найденной ею рыночной нише: Чэун дешево покупала в США макулатуру, переправляла ее в Китай, перерабатывала в картонные коробки для товаров, сделанных в Китае, и продавала обратно в Америку. В 2006 году “Хужунь репорт” оценил ее состояние в 3,4 миллиарда долларов, в 2007 году оно превышало io миллиардов. Чэун обошла Опру Уинфри и Дж. К. Роулинг. Журналисты назвали ее богатейшей из женщин, самостоятельно заработавших состояние.
Чэун Янь и ее муж Люмин Чун (бывший дантист, ныне генеральный директор корпорации) встретились со мной в столовой для администрации одного из предприятий Чэун – крупнейшего в мире целлюлозно-бумажного комбината в городе Дунгуань на юге страны. В пятидесятидвухлетней Чэун нельзя было угадать владелицу фабрики. Она не владела английским, а по-китайски говорила с сильным маньчжурским акцентом. Ее рост едва ли превышал полтора метра, и тараторила она так, будто была напрямую подключена к промышленному подсознательному: “Рынок не ждет! Если я не стану расширяться сейчас, если подожду год, два или три, я ничего не сделаю, я упущу возможности. И мы ничего не будем собой представлять, мы будем как любая другая фабрика”.
Пока мы ели, Чэун не хотела говорить о бизнесе. Она и ее муж жаждали рассказать о двух своих сыновьях. Старший учился в магистратуре инженерного факультета Колумбийского университета, а младший – в частной школе в Калифорнии. Во время обеда ассистентка передала Чэун копию рекомендации для колледжа, составленной преподавателем. Чэун просмотрела ее и вернула. “Средняя оценка – от 4 до 4,3”, – сообщила она мне. И с гордостью самоучки прибавила: “Его голова теперь устроена на американский лад. Ему стоит получить и китайское образование. Иначе он не найдет баланса”.
В 2005 году, когда я приехал в Китай, в американских частных школах (по данным Министерства внутренней безопасности США) обучалось всего 65 китайцев. Пять лет спустя их насчитывалось около 7 тысяч. Я уже не удивляюсь, когда крупные партийные функционеры говорят, что их дети учатся в Андовере или в Уотертауне. А недавно группа влиятельных китайцев пошла напрямик: организовала для своих детей роскошную частную школу в Пекине. Управлять ею пригласили бывших директоров школ “Чоут” и “Гочкисс”.
Из всех путей саморазвития теперь ничто не вызывало такого ажиотажа, как овладение английским. “Лихорадка английского языка” поражала официантов, гендиректоров, университетских профессоров. Она сделала язык главным показателем потенциала – силой, способной полностью изменить резюме, привлечь спутника жизни или покинуть наконец деревню. Мужчины и женщины на сайте знакомств Гун включали знание английского в свои анкеты наряду с упоминанием о машинах и домах. Каждый поступающий в колледж должен был владеть английским хотя бы на базовом уровне, и это был единственный иностранный язык, знание которого проверяли. В романе Ван Гана “Английский” сельский учитель говорит: “Если бы я осознал место каждого слова в [английском] словаре, передо мной открылся бы целый мир”.
В XIX веке в Китае презирали английский – язык посредников, имеющих дело с иностранными купцами. “Эти люди, как правило, мелкие плуты и бездельники из городов, презираемые в собственных деревнях и общинах”, – писал в 1861 году ученый-реформатор Фэн Гуйфэнь. При этом Фэн прекрасно понимал, что дипломатам необходим английский язык, и призывал учредить языковые школы: “В Китае множество талантливых людей; должны найтись те, кто может научиться у варваров и превзойти их”. Мао навязывал своей стране русский язык и репрессировал стольких учителей английского, что к 60-м годам во всем Китае насчитывалось менее тысячи школьных учителей. После того как Дэн открыл Китай миру, началась “лихорадка английского языка”. В 2008 году 80 % опрошенных китайцев считали, что им жизненно необходим английский. (Сочли, что важно выучить китайский, лишь 11 % американцев.) К 2008 году насчитывалось 200–350 миллионов китайцев, изучающих английский язык. Акции крупнейшей системы языковых школ “Нью ориентал” были выставлены на торги на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Мне хотелось встретиться с Ли Яном – самым известным в Китае учителем английского и, возможно, единственным на планете преподавателем иностранного языка, который славен тем, что ученики на его занятиях плачут от восторга. Ли был главным преподавателем и главным редактором собственной компании “Крейзи инглиш” (Li Yang Crazy English). Его студенты твердили его биографию как заклинание: родился в семье партийных пропагандистов, чьи представления о дисциплине сделали Ли настолько забитым, что он не решался ответить на телефонный звонок; чуть не вылетел из колледжа, но начал готовиться к экзамену по английскому языку, читая вслух, – и обнаружил, что чем громче он читает, тем увереннее себя чувствует; стал знаменитостью в колледже и построил собственную империю. За двадцать лет преподавания Ли самолично появился перед миллионами китайцев.
Весной 2008 года я встретился с ним, когда он посетил (с фотографом и личным помощником) интенсивный суточный семинар в небольшом колледже на окраине Пекина. Ли вошел в класс и прокричал: Hello, everyone! Студенты зааплодировали. Тридцатиоднолетний Ли был одет в сизую водолазку и угольного цвета полупальто. В черных волосах уже появилась проседь.
Ли оглядел студентов и попросил их встать. Это были пекинские врачи тридцати-сорока лет, отобранные для работы летом на Олимпийских играх. Как и миллионы китайцев, изучающих английский по книгам, врачи едва могли заставить себя говорить на этом языке. Ли прославился благодаря своей методике ESL (“английский как второй язык”), который гонконгская газета назвала English as a Shouted Language (“английский как язык крика”). Крик, утверждал Ли, помогает развить “международную мышцу”. Ли стоял перед студентами, подняв правую руку, как проповедник.
– I! – прогремел он.
– I! – послышалось в ответ.
– Would!
– Would!
– Like!
– Like!
– To!
– То!
– Take!
– Take!
– Your!
– Your!
– Tem! Per! Ture!
– Tem! Per! Ture!
Следом врачи попробовали свои силы поодиночке. Женщина в модных темных очках произнесла: I would like to take your temperature [“Я бы хотела измерить вашу температуру”]. Ли театрально покачал головой. Женщина покраснела и прокричала: I would like to take your temperature! Коренастому мужчине в военном мундире ободрение не понадобилось. За ним крошечная женщина выжала из себя трескучий вопль. Мы шли по классу, и каждый голос звучал увереннее предыдущего. Я подумал о реакции вероятных пациентов, но задать вопрос не успел: Ли направился в соседний класс.
Ли с легкостью преподавал на стадионах для десяти и более тысяч человек. Самые увлеченные платили за “бриллиантовый” курс, включавший дополнительные занятия в малых группах с великим человеком. Стоимость такого курса составляла двести пятьдесят долларов в день – больше среднего месячного заработка. Ученики просили у Ли автограф. Иногда они присылали ему любовные письма с нижним бельем.
Существует и другой взгляд на методику Ли. “Еще не ясно, действительно ли он помогает освоить английский”, – сказал мне Боб Адамсон, специалист из Гонконгского института образования. Фирменный крик Ли, по-моему, не дотягивал до вопля, которым вы пытаетесь предупредить кого-либо о стремительно приближающемся грузовике, но был явно громче призыва к столу.
Ли нравились громкие патриотические лозунги вроде “Овладей английским и сделай Китай сильнее”. На своем сайте Ли объяснял:
Америка, Англия, Япония – никто не хочет, чтобы Китай был большим и сильным! Чего они по-настоящему хотят, так это того, чтобы китайская молодежь носила длинные патлы, странную одежду, пила газировку, слушала западную музыку, не имела боевого духа и стремилась к удовольствиям и комфорту! Чем сильнее деградирует китайская молодежь, тем они счастливее!
Ван Шуо, один из крупнейших современных китайских романистов, отнесся к националистической риторике Ли с отвращением:
Я уже видел подобное. Это старое колдовство: собери большую толпу, заведи ее, вызови у людей ощущение силы, убеди их, что они могут свернуть горы и осушить моря… Я думаю, Ли Ян любит нашу страну. Но если продолжать в том же духе, боюсь, патриотизм обернется какой-нибудь дрянью вроде расизма.
Общаясь со студентами Ли, я обнаружил, что они считают его не столько преподавателем, сколько живым свидетельством самосовершенствования. Ли выступал в Запретном городе и на Великой стене. Его имя появилось на обложках более сотни книг, видео- и аудиодисков, компьютерных программ. Большая часть продуктов Ли выпускались с его портретом: очки без оправы, победная улыбка – типичный китаец-горожанин XXI века. Ли был высокомерен. Он сравнил себя с Опрой Уинфри и заявил, что продал “миллиард” своих книг. (Можно было и не приукрашивать действительность: один из издателей подтвердил, что книги Ли продаются миллионными тиражами.) Обозреватель официальной “Чайна дейли” назвал Ли “демагогом”. “Саут Чайна морнинг пост” задавалась вопросом, не превращается ли “Крейзи инглиш” в “одну из тех сект, лидеры которых требуют почитать себя как богов”. (“Секта” – опасное слово. “Фалуньгун” получил этот ярлык в 1999 году, и его сторонников преследуют до сих пор.)
Когда я спросил Ли об обвинениях в “сектантстве”, он сказал: “Я был взбешен, услышав это”. Он заявил, что поклонение его не интересует: “Секрет успеха – заставлять их платить снова, снова и снова”.
Космология Ли увязывала способность говорить по-английски с личным влиянием, а личное влияние – с могуществом нации. Это порождало сильное, иногда отчаянное, обожание. Ученик по имени Фэн Тао рассказал мне, что однажды у него хватило денег на лекцию Ли, но не хватило на поезд: “И тогда я пошел и сдал кровь”. Находиться в такой толпе может быть небезопасно. Ким, американская жена Ли, рассказала мне: “Бывало, я просила какого-нибудь крепкого мужчину вытащить дочь из толпы. Люди толкались так, что становилось страшно”.
Ким воспринимала меня как островок нормальности среди бурного океана “Крейзи инглиш”. “Я просто мама, которая случайно угодила в это безумие”, – сказала она со смехом. Ким преподавала во Флориде английский и встретилась с Ли в 1999 году во время своей поездки в Китай с группой Учительского союза Майами. Они поженились спустя четыре года, и Ким начала выступать вместе с Ли. Ее сдержанное остроумие и стопроцентно американский внешний вид прекрасно дополнили стиль мужа. Сначала Ким озадачивало фиглярство Ли и его националистические эскапады, но умение этого человека находить общий язык с учениками в конце концов покорили ее: “Ли искренне увлечен. Разве мне, учителю, может такое не понравиться?”
Пару недель спустя после семинара в Пекине я попал на главное мероприятие Ли в году – в “Интенсивный зимний лагерь “Крейзи инглиш’”. Погода в те выходные выдалась худшей за последние полвека. Буран пришелся на выходные – наступил Новый год по лунному календарю, самый важный семейный праздник. Вокруг царил хаос. В Гуанчжоу сотни тысяч путешественников не могли покинуть здание вокзала. Но каким-то образом семьсот взрослых и детей все же добрались до лагеря в южном городе Цунхуа. Десятилетний мальчик сказал мне, что ехал на машине, которую вел его старший брат, четыре дня.
Супервизоры носили камуфляж и были вооружены мегафонами. Ученики передвигались колоннами. Отовсюду с плакатов с английскими фразами смотрел Ли. Плакат на лестнице в столовую гласил: “А заслужили ли вы обед?” С плаката на площади, где ученики строились перед занятиями, Ли советовал: “Не подводите свою страну”, а на двери, ведущей на арену, значилось: “Хотя бы раз в жизни вы должны поддаться безумию”.
В девять утра в день открытия студенты заняли арену. Там было холодно, как и в общежитиях. (Я спал полностью одетым и в шапке.) Ли усматривал в способности говорить по-английски связь с физической выносливостью: разрыв между англоговорящим и не-англоговорящим мирами настолько велик, что для преодоления этой пропасти уместны и тяжелая работа, и унижение. Он приказывал своим ученикам “полюбить терять свое лицо”. На видео, записанном для школьников средних и старших классов, он говорил: “Вы должны делать много ошибок. Над вами должны смеяться. Но это неважно, потому что ваше будущее отличается от будущего других”.
Подиум с красной ковровой дорожкой делил толпу надвое. После взрыва фейерверков Ли вышел на сцену с беспроводным микрофоном. Он пружинисто вышагивал взад-вперед. “Шестая часть населения планеты говорит на китайском языке. Почему мы учим английский? – спросил Ли и показал на преподавателей-иностранцев, угрюмо сидящих у него за спиной. – Потому что мы жалеем их, неспособных говорить по-китайски!” Толпа взревела.
Следующие четыре часа, которые мы провели на холоде, Ли переходил от оскорблений к поощрениям и обратно, всячески выделываясь перед камерой. Аудитория млела от восторга… По утрам ученики вместе бегали, выкрикивая английские слова и фразы. В последнюю ночь они ходили по углям. Между занятиями все бормотали что-то, уткнувшись в книги Ли.
Выйдя однажды подышать, я встретил Чжан Чжимина – мужчину тридцати трех лет с чубчиком как у Тинтина. Он попросил, чтобы я называл его Майклом, и рассказал, что пять лет проучился в “Крейзи инглиш”. Чжан был сыном шахтера-пенсионера и не мог позволить себе билет в лагерь, поэтому весь предыдущий год он работал здесь охранником и старался все услышать. Теперь его назначили помощником преподавателя и даже положили небольшую стипендию.
“Обычно, когда я вижу Ли Яна, я немного нервничаю, – сказал Майкл, когда мы грелись на солнце. – Это сверхчеловек”.
Энтузиазм Майкла был заразителен. “Пока я не знал о “Крейзи инглиш’, я был просто очень застенчивым китайцем, – говорил он. – Ян слова не мог вымолвить. Был очень зажат. А теперь я уверен в себе. Я могу говорить с кем угодно на людях, и я могу убедить людей говорить вместе”.
Старший брат Майкла работал ассистентом Ли. Майкл стал по восемь часов в день изучать английский, снова и снова слушая записи Ли, голос которого звучал, “как музыка”.
Любимой книгой Майкла была “Библия стандартного американского произношения” Ли Яна, которая помогла ему подтянуть гласные и одолеть согласные. В конце концов он получил работу преподавателя в школе английского и надеялся со временем открыть собственную. Я расспрашивал учеников Ли Яна, какую роль играет в их жизни английский язык. Крестьянин, выращивавший свиней, желал достойно встретить американских покупателей. Финансист, приехавший сюда в свой отпуск, подумывал о повышении. Майкл не сомневался, что английский может многое ему дать. Несколько лет назад брат Майкла занялся сетевым маркетингом (он продавал спортивное питание). Подобная торговля (китайцы называли компании прямых продаж “крысиными обществами”) процветала в эпоху быстрого экономического роста, когда люди мечтали о быстрых деньгах.
“Он всегда хотел втянуть меня в это”, – начал свой рассказ Майкл, и я попытался представить его расхваливающим некий белковый коктейль с той же страстью, с какой он теперь отдавался английскому языку. “Я потратил полгода и ничего не получил”, – посетовал Майкл. Его брату пришлось отправиться в США, чтобы заработать деньги и расплатиться с кредиторами. Он работал официантом в Нью-Йорке, и до его возвращения Майкл должен был содержать родителей.
С течением нашей беседы решительность Майкла таяла. Брат хотел, чтобы и Майкл переехал в Америку: “У него грандиозные мечты… Но я не очень хочу туда ехать, потому что хочу иметь собственное дело. Работая на другого человека, не станешь богатым. Не сможешь купить дом, машину, содержать семью”. Майкл опустил глаза: “У меня нет выбора. Это жизнь. Я должен улыбаться. Но я чувствую ужасное давление. Иногда хочется плакать. Но я же мужчина”. Он замолчал. Воздух был неподвижен, если не считать голоса Ли, выступавшего на арене.
Несколько недель спустя Майкл пригласил меня на ланч в свою квартиру в Гуанчжоу, где он жил с родителями. Это был район многоэтажек. Майкл был в хорошем настроении: “Меня повысили до супервизора, я получил прибавку”. Жилище состояло из гостиной, двух маленьких спален и кухни. Его родители готовили, пахло имбирем. Майкл и его отец делили двухъярусную кровать в одной комнате, а его мать и ее старшая сестра жили в другой. Комнату Майкла занимали в основном учебники английского. Английский казался материальным, третьим – и притом неряшливым – соседом по комнате. Майкл порылся в ящике и вынул самодельные словарные карточки. На карточке “Занятия” значилось: “Астроном; булочник; бармен; биолог; босс; ботаник…”
Когда Майкл был ребенком, семья жила в шахтерском городке под названием Шахта № 5. Его родители, пережившие тяжелые годы бедности и политических неурядиц, имели одну цель в жизни – “провести остаток своих дней в покое”. Но Майкл отчаянно желал выбраться из Шахты № 5. В отрывке, который он использовал для языковой практики, он написал:
Я не могу ежедневно есть паровой хлеб, лежалую зелень и бататы. Я не могу год за годом носить одну и ту же заштопанную одежду, служа посмешищем для одноклассников. Я не могу идти час пешком до старой занюханной школы.
На деньги, занятые у босса шахты и других людей, Майкл поступил в колледж, где влюбился в английский. В дневнике он записал: “Иногда я даже не могу уснуть – так сильно хочу изучать английский”. Он смотрел американские фильмы и копировал гулкий голос Муфасы из “Короля-льва”. Муфасу озвучил Джеймс Эрл Джонс. Молодой китаец, говорящий как Дарт Вейдер, не остался в лагере незамеченным. “Он был словно обкуренный”, – сказал мне Гобсон, приятель Майкла.
Студентом Майкл работал на местной радиостанции и мыл посуду в Кей-эф-си, и все же, даже с учетом ссуды, полученной от босса угольной шахты, обучение было для него слишком дорогим. Майкл отчислился после двух лет и посвятил все свое время “Крейзи инглиш”. Он поглощен задачей управления собственной судьбой сильнее, чем все, кого я знаю, и называет себя “заново родившимся англоговорящим”. В своем дневнике Майкл больше не описывает неудачи: “Рост дерева зависит от климата, но я сам управляю погодой, управляю собственной судьбой. Нельзя изменить начальную точку своей жизни, но с помощью обучения и упорной работы можно изменить конечную!” Его книжные полки ломятся от самоучителей. Майкл перенял у продавцов привычку прибавлять ко всем фразам заискивающее “верите ли”.
Когда мы сидели в его комнате, Майкл решил прослушать записи, которые он подготовил для своих учеников, оттачивающих произношение. Он открыл файл “Что такое английский язык?” На фоне из звука волн и крика чаек зазвучали фразы, надиктованные девушкой по имени Изабель: “Английский язык – это легко. Я могу овладеть английским. Я буду пользоваться английским. Я выучу английский. Я буду жить в английском. Я больше не раб английского. Я – его хозяин. Я верю, что английский станет моим преданным слугой и другом на всю жизнь”.
Это продолжалось несколько минут. Майкл внимательно слушал. Я осматривал комнату, и мой взгляд наткнулся на небольшой листок в ногах кровати. Надпись на китайском гласила: “Прошлое не предопределяет будущее. Верь в себя. Твори чудеса”.
Глава 6
Борьба насмерть
Ветры “века амбиций” пронеслись от побережья вглубь материка, вспять по маршрутам миграции: из крупных городов в небольшие, а оттуда – в деревни. Люди, ждавшие шанса дольше других, пустились во все тяжкие. Обитатели далеких деревень взялись изобретать. Некоторые идеи “крестьянских да Винчи” были исключительно прагматичны (так, мужчина с больными почками построил из кухонной техники и медицинских деталей прибор для диализа), но чаще всего изобретателей вдохновляло внезапное ощущение, что возможно все. Они собирали гоночные машины и роботов. Старик У Шуцзай построил деревянный вертолет. Соседи говорили, что тот похож на клетку для кур, но У продолжал им заниматься в надежде на то, что сможет “улететь с этой горы и повидать мир”.
И все же, несмотря на разговоры о “крестьянских да Винчи” и заработанных с нуля состояниях, стало ясно: за “теми, кто разбогател первым”, было не угнаться. В 2006 году 10 % самых обеспеченных китайцев-горожан зарабатывало в 8,9 раза больше, чем беднейшие 10 %, а в 2007 году – в 9,2 раза больше. Число манифестаций, в том числе организованных рабочими из-за невыплаченной зарплаты, и крестьян, чья земля была изъята под застройку, дошло в 2005 году до 87 тысяч (десятилетие назад было 11 тысяч). Чем больше людей замечало растущую пропасть, тем отчаяннее они стремились оказаться среди победителей. Учитель английского Майкл счел, что ему нужно работать больше, и ограничил сон четырьмя часами: “Деньги я могу заработать. Время я заработать не могу”.
Погоня за богатством стимулировала изобретательность, но иногда приводила к чудовищным последствиям. Ван Гуйпин, портной из дельты Янцзы, привлек соседей к занятиям химией, убеждая односельчан, что это “даст место моему сыну в хорошей школе, а всех нас сделает горожанами”. По ночам, пока семья спала, портной с девятью классами образования возился с книгой по химии. Он обнаружил, что может замаскировать слабительное под более дорогую разновидность и забирать себе разницу в цене. “Прежде чем продавать его, я выпил немного, – вспоминал он позднее. – Слегка обожгло желудок, но ничего страшного”. Потом он нашел и другие дешевые заменители, а его доход вырос. Но зелья все-таки оказались ядовитыми, и из-за сиропа от кашля в 2006 году в провинции Гуандун умерло 14 человек. Портной отправился в тюрьму, а в Китае закрыли более 400 мелких медицинских фирм-производителей. От подделок погибли сотни людей – иногда далеко от Китая, даже в Панаме.
Как и предыдущие “лихорадки”, гонка за богатством повлияла на каждого по-своему. Когда она настигла пятидесятилетнего Сиу Юньпхина, бывшего парикмахера, то подстегнула его страсть к риску Летом 2007 года он начал регулярно ездить из окрестностей Гонконга, где он жил, в Макао – единственное в Китае место, где можно легально играть. Макао, расположенный на полуострове и нескольких островах, находится в месте впадения реки Чжуцзян в Южно-Китайское море и занимает территорию, равную трем Манхэттенам. Мао давно запретил в КНР азартные игры, однако Макао почти пятьсот лет был португальской колонией, и в 1999 году, когда его вернули Китаю, отчасти сохранил вольную атмосферу, из-за которой У. X. Оден назвал город “сорняком, завезенным из католической Европы”. К 2007 году, когда Сиу начал ездить в Макао, доходы местных казино стали превышать выручку в Лас-Вегасе – до тех пор богатейшего игрового города. Еще через несколько лет оборот Макао шестикратно превысил лас-вегасский.
Сначала Сиу не везло. Он вырос в хижине с жестяной крышей в поселке в окрестностях Гонконга. В год его рождения случилось наводнение, после пришла засуха, а следом тайфуны. “Как будто боги хотели уничтожить нас, сведя с ума”, – заметил местный чиновник в мемуарах. У Сиу было пять братьев и сестер. Его образование ограничилось начальной школой. Прежде чем стать парикмахером, он работал портным и строителем. В Гонконге азартные игры были под запретом, но, как и во многих китайских общинах, здесь в игре видели надежду улучшить жизнь, и в девять лет Сиу наблюдал из толпы, как играют в карты. В тринадцать он сам играл по маленькой, и подпольный игорный дом нанял его следить за игроками: “Когда я видел, что кто-то мухлюет, я говорил боссу”.
Выросши, Сиу продолжал играть, но не особенно успешно. Аккуратный и жилистый, с пухлыми щеками, густыми волосами и взглядом человека, привыкшего самостоятельно заботиться о себе, Сиу женился в девятнадцать лет. Он завел троих детей, развелся и вновь женился. В родной деревне Фукхинь, “Приветствующей удачу”, Сиу знали как Закоренелого Игрока Пхина. Его это не слишком волновало.
Работая парикмахером, Сиу подружился с худым подростком по имени Вон Кхаммин. Вон вырос в том же районе, одном из беднейших в Гонконге, и тоже бросил школу, чтобы работать. Они иногда встречались в кафе, где Вон трудился вместе с матерью. Сиу хотел стать застройщиком, строить и продавать дома среди рисовых полей рядом с деревней, а Вон – открыть ресторан. Они сблизились еще теснее, когда Вон начал подрабатывать в Макао как “агент по развлечениям”: он отыскивал игроков, предоставлял им кредит и получал долю от их ставок. Вон пригласил Сиу в игру.
Раз или два в неделю тот садился на паром, идущий через Чжуцзян в Макао. Семьдесят тысяч человек ежедневно приезжали сюда, чтобы попытать счастья – более половины из них были с континента. Сиу не питал иллюзий: “Из десяти выиграют, может быть, трое. А если эти трое продолжат играть, заработает один”. Он играл в баккару, любимую игру китайцев. Она дает больше шансов выиграть, и ее легче освоить. Пунто-банко – вариант баккары, предпочитаемый в Макао – не требует навыков; результат определяется сразу, как только сданы карты.
Спустя несколько недель, в августе 2007 года, Сиу стало крупно везти. Иногда он выигрывал тысячи долларов, иногда – сотни тысяч. Сиу пригласили по рекомендации Вона в ВИП-залы, открывавшие двери только тем, кто готов ставить серьезные деньги, и он стал регулярно летать через залив на вертолете. Чем больше Сиу играл, тем больше Вон зарабатывал на комиссионных и чаевых.
Игровые города – святилища самокопания. Лас-Вегас был аванпостом в пустыне, истязаемым песчаными бурями и наводнениями (забытой Богом землей, по мнению мормонских миссионеров XIX века), пока не вырос в огромный город. Ежегодно туда приезжает больше людей, чем в Мекку. Хэл Ротман, современный исследователь истории американского Запада, заметил, что Лас-Вегас ставит перед посетителем вопрос: “Кем ты хочешь быть, что ты готов за это отдать?”
В Макао паром встречала толпа зазывал. Молодая женщина вручила мне проспект “Ю-эс-эй дайрект”: здесь был указан бесплатный номер, по которому владеющие китайским языком люди могли дешево найти и купить недвижимость в Америке. Мой телефон завибрировал. Это было сообщение от казино:
“Город мечты” поздравляет счастливого победителя викторины “Один доллар, чтобы стать богатым, богатым, богатым” с главным призом в 11562812 гонконгских долларов! Оседлайте “Экспресс Фортуны”. Следующим миллионером можете стать вы!
Город с полумиллионным населением казался Китаем в миниатюре. Здесь правили бал амбиции и риск, но количество денег и людей, текущих через город, превращало этот раствор в такой сильный экстракт, что он был и силой Макао, и его слабостью. Прежде Макао производил фейерверки, игрушки и искусственные цветы, но с приходом казино фабрики исчезли. Средний горожанин зарабатывал больше, чем средний европеец; разрыв между богатыми и бедными был огромен и постоянно увеличивался, как и на континенте. Строительство не останавливается ни на минуту. Вид из окна отеля напомнил мне о первых месяцах в Китае – с круглосуточно сверкающими в окнах огнями сварки.
Скорость развития Макао даже по китайским меркам была невероятной. В 2010 году крупные игроки в Макао поставили на кон около шестисот миллиардов долларов: примерно столько наличных снимают в банкоматах Америки за год. Но гора наличных на столах Макао – лишь часть картины. Согласно годовому отчету Совместной комиссии Конгресса и федерального правительства США по Китаю, “рост азартных игр в Макао, подпитываемый деньгами игроков из континентального Китая и открытием принадлежащих американцам казино, сопровождается всепроникающей коррупцией, подъемом организованной преступности и отмыванием денег”. В 2009 году американские дипломаты во внутренней переписке назвали Макао “прачечной”. По словам Дэвида Эшера (главного советника Департамента США по делам Восточной Азии и Океании при администрации Буша), Макао “из декораций к фильму о Джеймсе Бонде превратился в декорации к ‘Идентификации Борна’”.
В 2005 году агенты ФБР под видом представителей колумбийских партизан из ФАРК внедрились в банду контрабандистов, в которую входил житель Макао. Когда агент Джек Гарсиа спросил об оружии, тот прислал каталог. Гарсиа заказал противотанковые ракеты, гранатометы, автоматы. Чтобы выманить продавца и его сообщников из Макао, ФБР устроило в США фальшивую свадьбу двух участвовавших в операции агентов. Гости получили элегантные приглашения на торжество на борту яхты, отходящей из Кейп-Мей, штат Нью-Джерси. “Я был ‘шафером’, – рассказал Гарсиа. – Мы должны были отвезти их на мальчишник, а доставили в офис ФБР”. Арестовали пятьдесят девять человек. Министерство финансов США включило “Банко дельта Азия” (Макао) в черный список за участие в отмывании денег, к чему имел касательство и северокорейский режим. Банк все отрицал.
Азартные игры стали частью китайской культуры еще во времена династии Ся (1000–1500 гг. до и. э.) “Государство стремилось запретить азартные игры, – объяснял мне Дезмонд Лим, профессор маркетинга из Университета Макао, – однако чиновники оказывались среди самых заядлых игроков… Их лишали титулов, пороли, сажали в тюрьму, ссылали, но все без толку – привычка сохранялась”. Вместе с Лимом (он изучал пристрастие китайцев к риску) я отправился в “Город мечты” – комплекс казино, реклама которого гласила: “Приходи, играй, меняй свою жизнь”.
Макао притягивал интриги всякого рода со времени основания города. В 1564 году, гласит легенда, китайские рыбаки попросили у португальцев помощи в борьбе с пиратами. Португальцы спрятали пушки на джонках и победили. Благодарные китайцы позволили португальцам остаться на полуострове. Макао стал важным перевалочным пунктом между Индией и Японией, но близлежащий порт Гонконга оказался удобнее, и Макао пришлось искать альтернативу: опиум, проституцию и азартные игры. Когда сочинявший книгу “Города порока” писатель Хендрик де Леу посетил город в 30-х годах XX века, он назвал Макао пристанищем “всех отбросов мира, пьяных моряков, бродяг, отверженных, самых бесстыдных, красивых и диких женщин”.
Большую часть своей истории Макао выглядел скорее средиземноморским, нежели китайским городом, со своими барочными церквями и кафе под пальмами, где старые эмигранты за завтраком листают “Трибуна де Макау”. Ко времени моего приезда город стал напоминать Персидский залив: роскошные отели с кондиционерами, многоэтажки с припаркованными спортивными машинами. Нередко налоговые поступления в Макао почти вдвое превышали расходы бюджета, и, как и в Кувейте, местные жители получали чеки в рамках программы по распределению богатства (Wealth Partaking Scheme). Уровень безработицы не поднимался выше 3 %. “Мы добьемся за пятнадцать лет того, чего Лас-Вегас достиг за семьдесят пять”, – похвастался мне за выпивкой Паулу Азеведу, издатель “Макау бизнес” и других местных журналов. Невероятно быстрое развитие привело к тому, что горожане нуждаются в необходимом: такси, дорогах, жилье, медицинском обслуживании. “Лечить зубы я езжу в Таиланд”, – сказал Азеведу. Однажды в Макао почти кончились деньги. Казино изменили ритм жизни и работы города, и это не всем по душе. Ау Кхамсань, член Законодательной ассамблеи Макао, работавший учителем старших классов, слышал от учеников: “Я уже сейчас могу получить работу в казино и зарабатывать больше учителя”.
Недалеко от паромной пристани находится комплекс с двумя отелями, принадлежащий Стиву Уинну, магнату из Лас-Вегаса. В здешнем бутике “Луи Виттон”, говорят, объем продаж в пересчете на квадратный метр площади больше, чем где бы то ни было. Миновав аквариум со светящимися медузами (чтобы спать ночью, им требуется специальный занавес), пиар-менеджер казино объяснил, что китайская клиентура требует роскоши: “Все они президенты или председатели”. Мы остановились у нового ресторана (мишленовская “звезда”), в штате которого состоит поэт, сочиняющий стихи для важных гостей. Я спросил у официантки, для чего у каждого стола стоит маленький табурет, обтянутый белой кожей. Она ответила: “Это для вашей сумки”.
Еще поколение назад китайцы закапывали драгоценности на заднем дворе на случай репрессий. К 2012 году Китай обошел США, став крупнейшим потребителем предметов роскоши. Хотя китайцы не скучали по бедности, они не могли не задумываться о том, как их меняет стяжательство. Ходила шутка о мужчине, которого на пекинском перекрестке задел спортивный автомобиль и оторвал руку. Мужчина пришел в ужас: “Мои часы!”
Ничто в Китае так не напоминало “позолоченный век” Америки, как Макао. Мэтью Джозефсон, автор “Баронов-разбойников”, описывал, как американцы в 70-х годах XIX века привыкали к богатству. Некто “велел просверлить себе отверстия в зубах и вставить два ряда бриллиантов. Когда он гулял, его улыбка сверкала на солнце”. Претензии к американской политической системе того времени напоминают нынешние претензии к китайской: коррупция, неуважение к закону, слабость перед лицом трестов. В 7080-х годах XIX века, когда Америку сотрясали забастовки и демонстрации, их подавляли. Томас Скотт, президент Пенсильванской железной дороги, советовал “выдать забастовщикам пайку свинца на пару дней, и посмотрим, как им понравится такой хлеб”. Европейцы не без удовольствия отмечали, что Америка от варварства перешла к упадку, минуя стадию цивилизации.
Но если где-нибудь люди и были невосприимчивы к угрызениям совести по поводу богатства, так это в Макао. Продумывая дизайн казино, Стив Уинн учел китайские суеверия. Когда проектировщики поняли, что число кабинетов в спа-салоне – четыре – может отпугнуть клиентов (по-китайски “четыре” звучит почти так, как “смерть”), они устроили ряд фальшивых дверей, чтобы тех стало восемь: по-китайски звучит почти как “богатство”. В Лас-Вегасе Уинн добился успеха, сделав ставку на роскошь вместо кэмпа (то есть на Пикассо, а не Уэйна Ньютона), однако в его отеле в Макао нашлось место “вау-эффекту”. Ежечасно туристы собираются в холле, чтобы посмотреть, как из пола появляется гигантский аниматронный дракон, вьется в воздухе, сверкает красными глазами и извергает из ноздрей дым.
В “Городе мечты” пахнет парфюмом, сигаретами и шампунем для ковров. Игроки-китайцы редко пьют, когда на кону деньги. Низкий веселый гул прерывался, когда кто-то колотил по столу от радости либо отчаяния или заклинал карты. Однажды ночью я наблюдал игру в баккару. Худой мужчина с густыми бровями и красным, блестящим от пота лицом медленно поднимал краешек своей карты, а сосед кричал: “Продул! Продул!”, чтобы сглазить карту большого достоинства. Когда худой поднял карту достаточно, чтобы ее увидеть, его лицо исказилось от отвращения. Он бросил карту на стол.
“Американцы считают, что судьба в их руках, а китайцы воспринимают ее как внешнюю силу, – сказал Лим. – Чтобы изменить судьбу, по мнению китайцев, нужно совершать действия, приносящие удачу”. Китайцы-игроки рассуждают о ставках как об инвестициях и об инвестициях – как о ставках. Фондовая биржа и рынок недвижимости, по мнению китайцев, мало чем отличаются от казино. Исследователи поведения Элке Вебер и Кристофер Се сравнили китайский и американский подходы к финансовому риску. Они выяснили, что китайские инвесторы, как правило, считают себя более осторожными, нежели американцы. Однако когда дошло до дела (ученые предложили участникам эксперимента ряд гипотетических финансовых задач), оказалось, что китайцы рискуют гораздо сильнее, чем американцы примерно того же достатка.
Пожив в Китае, я привык к тому, что здешние мои друзья принимают финансовые решения, которые я нахожу рискованными, например, начинают бизнес на сбережения или переезжают на другой конец страны, не получив прежде гарантий трудоустройства. Одно из объяснений (Вебер и Се назвали его “гипотезой подушки”) гласит: традиционные широкие семейные связи помогают китайцам быть уверенными, что они получат помощь, если их риск не оправдается. Другая теория связана с китайским бумом. ‘‘Экономические реформы Дэн Сяопина сами по себе были азартной игрой, – объяснил мне Рикарду Сяо, профессор бизнеса Университета Макао. – Так что люди пришли к мысли, что идти на риск не просто нормально, а – обязательно”. Для тех, кто выбрался из нищеты и пробился в средний класс, ход мыслей мог быть таким: “Если я потеряю половину денег, ничего страшного – я уже пережил это. Я не буду бедняком и через несколько лет снова заработаю. А если выиграю? Я стану миллионером!”
Китайский подход к риску напомнил мне судьбу Линь Ифу, который сделал ставку на новый Китай. Он рисковал всем, покинув дом, и, хотя его путь драматичнее, чем у большинства, это решение было похоже на решение любого мигранта, ищущего лучшей жизни: Гун Хайянь, или последователей “Крейзи инглиш”, или, раз уж на то пошло, европейцев, приехавших в Америку в ее “позолоченный век”. Кем ты хочешь быть, что ты готов за это отдать?
Закоренелый Игрок Пхни привлек к себе внимание. Четыре месяца спустя после его успеха в колонке сплетен и светской хроники гонконгской газеты “Пинго жибао” упомянули “загадочного” человека, наведывающегося в Макао и, по слухам, заработавшего 150 миллионов долларов. “Он невероятно удачлив или он настолько хороший игрок?” – вопрошала газета в январе 2008 года. На следующий день член Законодательного совета Гонконга Чхим Пхуйчхун (сам заядлый игрок) рассказал газетчикам, что люди славят “Бога игроков”, позаимствовав этот титул из фильма с Чоу Уньфатом. Профессиональные игроки называли таких людей “метеорами”: они появлялись ниоткуда и, как правило, исчезали в никуда.
Такая удача вызывала подозрение. В казино знали, что их преимущество в баккаре – около 1,15 % – гарантирует, что после тридцати тысяч партий шансы игрока становятся призрачными. Игрок может сыграть за выходные тысячу раз и не остаться внакладе, но почти никто не уходил победителем целых семь месяцев. Вскоре после выхода статьи, автор которой назвал Сиу “Богом игроков”, двадцатилетнему сыну счастливчика стали поступать анонимные звонки с угрозами. Потом однажды ночью кто-то попытался поджечь семейный дом Сиу в деревне. Наконец, от Вон Кхаммина, пригласившего Сиу Юньпхина в ВИП-зал, потребовали встречи, чтобы обсудить, мухлюет ли Закоренелый Игрок Пхни.
Годами воплощением Макао выступал Стэнли Хо – магнат, встречающийся с актрисами и танцовщицами, в свои восемьдесят лет превосходно танцующий танго и разъезжающий по Гонконгу в “Роллс-ройсе” с номером HK-11 После того как отец потерял на бирже состояние, Хо во время Второй мировой войны начал в Макао свой бизнес: “К концу войны я заработал миллион долларов, начав всего-то с десятки”. Хо занялся авиа- и морскими перевозками, недвижимостью, а в 1962 году вместе с партнерами прибрал к рукам казино Макао. Сорокалетняя монополия превратила Хо в одного из богатейших людей Азии. Иностранные правительства подозревали Хо в слишком теплых отношениях с организованной преступностью. Он все отрицал, но регулирующие органы препятствовали попыткам его семьи управлять казино в США и Австралии. Хо был не слишком разборчив в выборе партнеров. Он устраивал гонки для шаха Ирана, регаты для Фердинанда Маркоса и островное казино для Ким Чен Ира. Разведки отчаянно пытались добыть сведения о связях Хо, но, как рассказал мне Дэн Гроув, агент ФБР в отставке, служивший в Гонконге, “никто не прошел дальше первой базы”.
В 2002 году монополия Стэнли Хо закончилась, и за лицензиями в Макао потянулись зарубежные бизнесмены. Первым открыл казино – “Сэндс Макао” – Шелдон Адельсон из Лас-Вегаса, номер девять (по мнению “Форбс”) в списке богатейших людей США. Адельсон был антиподом Стэнли Хо: маленьким и полным, с ярко-рыжими волосами. Сын таксиста из Литвы, Адельсон вырос в Дорчестере, пригороде Бостона, и чем только ни занимался: упаковывал туалетные принадлежности для отелей, продавал спрей для очистки ветрового стекла ото льда. В 1979 году он открыл Comdex, компьютерную торговую выставку, и так достиг настоящего успеха. Потом он купил в Лас-Вегасе старый отель “Сэндс”, создал самый большой в Америке частный комплекс для конференций и сделал состояние, совмещая казино с выставочными центрами. Адельсон, желая заполучить Макао для доступа к кошелькам 1,3 миллиарда китайцев, обворожил пекинское руководство, используя свое влияние в Республиканской партии США. (Он был самым крупным частным спонсором во время кампании 2012 года.) Адельсон открыл первое казино в мае 2004 года, а потом решился воплотить идею, которая, по его словам, пришла к нему во сне: воспроизвести в Макао Лас-Вегас-Стрип. Его компания построила между двумя островами насыпь из 3 млн. м3 песка и открыла “Венишен Макао” (стоимостью 2,4 миллиарда долларов) – увеличенную копию “Лас-Вегас Венишен”, с самым большим в мире игровым залом. Адельсон сообщил, что надеется за счет Макао когда-нибудь превзойти Билла Гейтса и Уоррена Баффета.
В отличие от Лас-Вегаса, где основной доход казино зависел от продажи жетонов для игровых автоматов, три четверти прибыли в Макао давали огромные ставки в ВИП-залах, где крупные игроки проводили круглые сутки. Казино в Макао опиралось на “агентства по развлечениям”: закон запрещал взимать долги на остальной территории КНР, а такие агентства могли легально искать богатых клиентов по всему Китаю, предоставлять им кредит, а после улаживать непростые вопросы возвращения долгов. Эта система пользуется особенной популярностью у клиентов, желающих вывести за рубеж крупные суммы наличными. Если коррумпированный чиновник или нечистый на руку бизнесмен желает скрыть свои доходы, агентство может взять наличные в Китае и вручить ему по другую сторону границы игровые фишки, которые можно обналичить или пустить в игру. (Еще один вариант – “смур-финг”: наличные вывозятся контрабандой через плохо охраняемую границу Макао.)
Хотя среди “агентств по развлечениям” есть и законопослушные, десятилетиями этот бизнес был связан с организованной преступностью. Триады, выросшие из тайных обществ, занимались гангстерским ростовщичеством и контролировали проституцию. Их присутствие ощущалось и в казино Макао. В последние годы триады оставили дрязги ради блестящих возможностей, предоставляемых отмыванием денег, финансовыми махинациями и азартными играми. Уличные бандиты превратились в теневых дельцов, и стало сложнее отличить триады, пришедшие в бизнес, от бизнеса, действующего как триады.
Макао оказался особенно привлекательным для коррумпированных чиновников. Партийцы часто направлялись в Макао с общественными деньгами и возвращались с пустыми карманами. Чжан и Чжан, чиновники из Чунцина, в 2004 году проиграли в казино более 12 миллионов долларов. Бывший партийный босс из Цзянсу проиграл 18 миллионов. Еще один бюрократ из Чунцина умудрился потратить четверть миллиона долларов всего за двое суток. В Макао за расхищение бюджетных средств арестовали множество чиновников. В 2009 году ученые определили, сколько средний бюрократ теряет за игровым столом до своей поимки: 3,3 миллиона долларов.
Чтобы найти миллионеров, “агенты по развлечениям” изучали деловую прессу. Тридцатидевятилетний агент рассказал мне: “Сегодня в Макао, если человек не играет хотя бы на несколько сотен тысяч долларов, он не считается настоящим клиентом”. А если клиент не оплачивает долг? “Мы едем в его город и звоним. Потом, если необходимо, ждем пару дней. Просто чтобы надавить”, – объяснил агент.
Через несколько недель после поджога деревенского дома Сиу Юньпхина Сэ Валунь, средний чин одной из самых известных триад, Вохопто, созвал на окраине Гонконга “бойцов”. Сэ, коренастый человек лет тридцати, изложил своим людям план. Один из них потом пересказывал его в суде: “Босс хочет, чтобы человек вернул немного денег”. “Должником” был Сиу, а “боссом” – хорошо известный гонконгской полиции и властям США Чхен Чхитхай. По мнению судьи Верины Бокхари из Гонконга, Чхен мог “иметь голос” в ВИП-зале казино “Сэндс Макао” – одном из мест, где Сиу играл в баккару.
План был таков. Сиу пошлют “сообщение”, заманив в засаду его друга Вона. Последнего похитят в дороге и отвезут в ближайшую деревню, где в заброшенном здании будут готовы перчатки, капюшоны, ножи и телескопические дубинки. Сначала предполагалось просто сломать Вону руки и ноги. Позднее план изменился, и Вона решили убить, чтобы Сиу увидел серьезность их намерений.
Когда Сэ объяснил задание, его люди несколько растерялись. Один из рекрутов поинтересовался: “Что, все настолько серьезно?” Сэ удивился: “Босс так велит”. Второй вспомнил, что он в тот вечер приглашен на свадьбу. Третий, Лау Минъе, не хотел делать “работу” бесплатно: “Если не собираешься платить человеку, как он может тебе помочь?”
К тому же Лау был знаком с предполагаемой жертвой. Двадцатилетний Лау был крестьянским сыном и прежде работал разносчиком в чайном домике, мотаясь по окрестностям на золотистой “Тойоте”. Он иногда привозил еду в деревню Вона: “Все были в шоке от идеи убить кого-либо, тем более человека, которого знал один из нас”.
Лау явно колебался. Сэ пришел в ярость: “Какого хрена ты еще думаешь?!” Лау пришлось сдаться. Он присоединился к триаде еще подростком и служил “бойцом” под началом Сэ. Денег это приносило немного. Он подрабатывал в газетном ларьке и в интернет-кафе. У него была подруга, и она ждала ребенка. К тому же ему и так хватало неприятностей с выплатой пятисот с лишним долларов за ремонт грузовика, в который он въехал на своей “Тойоте”.
Труд наемного убийцы показался Лау отвратительным, и в день убийства перед рассветом он позвонил знакомому полицейскому и предложил сделку. Они встретились, и Лау выложил все: про убийство, “Бога игроков”, дом с капюшонами и ножами. В суде Лау объяснил: “Я отец и хочу быть ответственным человеком”. Сделка могла привести его в тюрьму, но он высчитал, что выйдет “прежде, чем ребенок все поймет”.
За несколько часов полиция арестовала пять человек. Их судили осенью за сговор с целью причинения тяжких телесных повреждений и участие в триадах. Сэ, кроме того, обвинили в сговоре с целью убийства и найме людей для его исполнения. Пять человек отправились в тюрьму на четырнадцать лет. (Лау за помощь следствию отпустили.) Во время расследования полиция ненадолго задержала и лидера триады Чхен Чхитхая. По словам Джона Хейнса, защитника Сэ, Чхен “позвонил своему адвокату и отказался отвечать на вопросы – и в результате избежал обвинений”. Хейнс сокрушался: “мелкие сошки” отправляются в тюрьму, а “главарь… сидит спокойно в Макао”.
На процессе Сиу и Вона попросили сообщить, сколько Сиу выиграл за пять месяцев. Это был трудный вопрос: иногда игроки в Макао делали побочные ставки куда более крупные, чем стоили фишки на столе. (При побочной ставке игрок и “агент по развлечениям” договариваются, что фишка в сто долларов стоит тысячу или, например, сто тысяч.) Сиу выиграл эквивалент 13 миллионов долларов США. Вон назвал куда большую сумму: 77 миллионов.
Упоминание о том, что бывший парикмахер выиграл 77 миллионов долларов и избежал общения с гангстерами, привлекло внимание гонконгских журналистов. Некоторое время они преследовали “Бога игроков”, но он не давал интервью. Через год после процесса гонконгский журнал “Некст” опубликовал статью, утверждающую, что Сиу жульничал. Он якобы платил сотруднику казино, записывающему проигрыши и выигрыши, чтобы тот увеличил его прибыль и уменьшил убыток; казино ничего не заметило, потому что многие ставки Сиу были “побочными”, без записи, и, кроме того, “агенты по развлечениям” даже подумать не могли, что неизвестный игрок пойдет на подкуп сотрудника. Сиу ничего не ответил. Он куда-то пропал.
О “Боге игроков” почти забыли. Дело исчезло со страниц криминальной хроники. Но осенью 2010 года бывший администратор казино “Сэндс Макао” Стив Джекобе подал иск о своем незаконном увольнении и выдвинул ряд обвинений против Шелдона Адельсона. Джекобе утверждал, что он и Адельсон обсуждали дело “Бога игроков”, а также что триады имеют влияние на “Сэндс”. Адельсон якобы настаивал на “агрессивном расширении бизнеса ‘агентств по развлечениям’”. Джекобе также обвинил “Сэндс” в подкупе законодателя из Макао, что было нарушением американского закона о коррупции за рубежом. Владелец “Сэндс”, в свою очередь, заявил, что Джекобе не смог удержать триады подальше от компании.
В дело вмешалось правительство США. Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам начали расследование против владельца “Сэндс” по обвинению в возможном нарушении закона о коррупции за рубежом. Адельсон все отрицал: “Когда дым рассеется, я абсолютно – не на сто, а на тысячу процентов – уверен, что за ним не окажется огня. Они хотят получить мои электронные письма. А у меня нет компьютера. Я не пользуюсь электронной почтой. Я не такой”.
Адельсон и его коллеги убедились, что вести дела в новом Китае не просто опасно. Они поняли, насколько их успех зависит от других: от компартии, триад, от мечтающего сорвать куш парикмахера. Сиу повезло за игровым столом, Вону повезло, что для его убийства наняли совестливых бандитов, а Адельсону не повезло в том, что репортеры распространили информацию о плане убийства, связанном с его казино. С другой стороны, эта история зависит от случая так же мало, как и казино. Это скорее столкновение личных интересов, повесть о “позолоченном веке” Китая.
Макао с его богатством, заговорами, моральной амбивалентностью открыл окно в новую беспокойную эпоху. В Китае в дни почти всеобщей бедности было практически нечего красть и, что логично, мало поводов отвергать мораль ради обогащения. Но сочетание стремительного экономического роста и непрозрачности действий правительства оказались почти идеальной средой для злоупотреблений. В 2007 году, когда Сиу Юньпхин сорвал куш, ученый Пэй Миньсинь подсчитал: почти в половине китайских провинции руководителей транспортом отправили в тюрьму, а коррупция стоила Китаю 3 % огромного ВВП, что превышает государственные расходы на образование.
Перед правительством успех Макао ставил сложный вопрос: как долго позволять этому продолжаться? Китай мог остановить бум с помощью декрета (гражданам нужно специальное разрешение на поездку в Макао; правительство по своему желанию сокращало и увеличивало поток посетителей), но закрытие Макао вызвало бы политические проблемы. Здесь победители – представители “новой среднезажиточной страты” – пожинали плоды успеха, наслаждались сделкой с властью: не лезьте в дела государства, а государство не слишком будут заботить ваши. Во время перелета из Макао в Пекин я сидел рядом с бывшим военным, теперь владевшим недвижимостью и несколькими фабриками. Он сказал, что посещает Макао раз в месяц, “чтобы выпустить пар”, и потратил большую часть полета на изучение последнего приобретения: телефона “Верту” за двенадцать тысяч долларов, обтянутого крокодиловой кожей и снабженного кнопкой, соединяющей с круглосуточно работающим ассистентом.
Власти в Макао, как и в Пекине, не видели причин что-либо менять. Мануэль Жоаким Невеш, главный инспектор казино Макао, заявил мне, что “Макао – не Лас-Вегас”, и я не сразу понял, что Лас-Вегас он считает моральным эталоном: “Макао привлекает более 20 миллиардов долларов зарубежных инвестиций только в индустрию казино. Если коротко, мы прекрасно соответствуем запросам общества”. Эта точка зрения опиралась на слова партии о своем успехе. “Развитие – единственная истина”, – считал Дэн Сяопин, и многие с ним соглашались.
Четыре года спустя мой гонконгский друг сообщил, что Сиу, похоже, вернулся в район, где он вырос. Говорили, он добился покровительства другой триады – Вошинво. Я отправился туда на поезде – в плодородную дельту реки, окруженную зелеными холмами. Летняя жара ослабевала. Повсюду шло строительство. Деревни превращались в районы вилл и поселки с названиями вроде “Престиж”, “Небесно-голубой” или “Серебряный сад”.
Я нашел Сиу на стройке рядом с заваленной металлоломом площадкой, которую окружали болотистые луга с водяными орехами и лилиями. Сиу, как всегда и хотел, занялся операциями с недвижимостью. Теперь он строил жилой комплекс “Пинакль”: четырнадцать домов с преобладанием нержавеющей стали и черного гранита, вполне уместных в Сакраменто или Атланте. Сиу (растянутая желтая рубашка-поло, джинсы, грязные кроссовки) выглядел подавленным. Его с трудом можно было отличить от рабочих – загорелых костлявых мужчин средних лет из сельской местности. Я приехал к перерыву, и один из них мылся, поливая себя из ведра мыльной водой. Я представился Сиу. Он был не очень-то рад меня видеть. Я объяснил, что уже долгое время интересуюсь его судьбой. Он смягчился. Мы устроились на раскладных стульях за веревкой для сушки белья, с видом на стройку.
Я спросил Сиу, куда он исчезал. Сиу улыбнулся:
Я объездил весь Китай. Сам вел машину. Иногда останавливался в пятизвездочных отелях, а иногда в крошечных гостиницах. Больше всего мне понравилась Внутренняя Монголия. Потом я поднялся в горы в Цзянси и остался там на восемь месяцев. Когда начались снегопады, я замерз почти до смерти. Я спустился с гор и вернулся домой.
Я спросил, плутовал ли он, играя в баккару “Журналисты разнесли слухи, рассказы людей, которые хотели вернуть свои деньги, – ответил Сиу – Все говорили, что я жульничаю. Это неправда. Я не шулер. Когда я играл, за мной все время следили, должно быть, человек десять. Как я мог мухлевать?”
Но это не отменяло манипулирования ходом игры. Адвокат одного из ответчиков предположил, что Сиу, приглашенный в качестве участника крупной махинации, понял, что может воспользоваться своим положением. Я подумал, что если это правда, значит, Сиу позволял удовлетворять чужие амбиции за свой счет – до тех пор, пока его собственная жажда денег не взяла верх. “Но, – прибавил адвокат, – сейчас так много жульничества. Как узнать правду?”
Я спросил у Сиу, преследуют ли его до сих пор триады, и он ответил: “Мне пятьдесят с лишним лет. Я проживу, скажем, до семидесяти. Так что у меня есть лет десять или около того. Что мне терять?” Он замолчал на мгновение, потом странно улыбнулся: “Кроме того, если они придут, я смогу им ответить”.
Он перестал ездить в Макао. Это решение Сиу принял ради детей. “Я не хочу, чтобы они играли. Двое из них имеют степень бакалавра, один – магистра. Они не ругаются. Хорошие дети… Чтобы хорошо играть, нужно быть очень восприимчивым. Никому этого не пожелаю. Меня называли ‘Закоренелым Игроком Пхином’. Но мне никогда это не нравилось, потому что у меня не было зависимости. Я играл потому, что знал: я могу выиграть”.
Приближалась ночь, и Сиу предложил подбросить меня до вокзала на своем черном Lexus SUV, припаркованном неподалеку в грязи. Машина была отполирована до такого блеска, что сверкала от уличных огней: единственный признак богатства Сиу “Вертолет возил меня в ‘Венишен’, когда я пожелаю, – сказал Сиу – Теперь я пачкаю ноги. Недвижимость прибыльнее! Она приносит больше денег, чем игра, наркотики или что-либо еще”. Он мотнул головой в сторону стройплощадки: “Чтобы построить один такой дом, нужна пара миллионов, но зато я смогу продать его за десять миллионов”.
Глава 7
Привитый вкус
Когда “те, кто разбогател первым”, отправили ребенка в “Лигу плюща” и наняли команду чтецов для пересказа книжных новинок, они захотели интеллектуального развития. Мужчины и женщины, вознесенные китайской промышленной революцией на вершину, жаждали большего выбора в вопросах искусства, хорошего вкуса и роскоши. Они хотели знать, что они упустили.
В мае 1942 года Мао Цзэдун сказал: “Искусства для искусства, искусства надклассового, искусства, развивающегося в стороне от политики или независимо от нее, в действительности не существует”. Мао видел в литературе и искусстве “составную часть общего механизма революции”, “могучее средство сплочения и воспитания народа”, “мощное оружие, которым мы будем разить врага вплоть до его уничтожения”, “средство помощи народу в его единодушной борьбе с врагом”. Партия добивалась того, чтобы искусство, литература и вообще все, что касалось личных предпочтений, соответствовало “лейтмотиву” (чжусюаньлу) китайского общества.
Об искусстве КНР судят по картинам с румяными крестьянами, фильмам о целеустремленных солдатах и стихам о невероятном героизме. Этот стиль – “революционный реализм вкупе с революционным романтизмом” – появился под влиянием той идеи, что (как выразился “главный по культуре” Чжоу Ян) “сегодняшний идеал – это реальность завтрашнего дня”. Иногда художников, обращавших слишком много внимания на проблемы своих современников, обвиняли в том, что они увлекаются “изображением реальности”, и наказывали.
В 1976 году, после смерти Мао, появилась первая группа художников-авангардистов, назвавших себя “Звезды” (как объяснил основатель группы Ма Дэшэн, чтобы “подчеркнуть свою индивидуальность”). Когда их первую выставку в Национальном музее закрыли в 1979 году, они развесили работы снаружи на ограде и провели марш под девизом “Мы требуем демократии в политике и свободы в творчестве”. В 90-х годах партия наказывала перформансистов за появление на публике нагишом, отменяла экспериментальные спектакли и сносила поселения художников.
Но деньги изменили расстановку сил. К 2006 году работы Чжан Сяогана и других современных китайских художников стоили уже до миллиона долларов. Художники, принадлежавшие к поколению экономического подъема, дали понять, что устали от политики. Они стали поднимать темы консюмеризма, культуры и секса и встретились с новым поколением перекупщиков и коллекционеров.
Ли Суцяо, коллекционер и куратор, объяснил: “Я говорил друзьям: ‘Вместо того чтобы потратить четыре тысячи долларов на ставку в гольфе, вы можете купить предмет искусства’”. Мы встретились в галерее “Новое тысячелетие”. На плечи сорокачетырехлетнего Ли был наброшен желтый свитер. Он заработал состояние на нефти, а коллекционированием занялся пять лет назад. Ли подсчитал, что ежегодно тратит около двухсот тысяч долларов на работы молодых художников. “У меня есть друзья, – рассказал он, – которые живут в виллах на севере Пекина, и, когда дело доходит до декора, они тратят сто тысяч юаней на диван и сто юаней на висящую над ним картину. Иногда они не думают о цене, а только о размере”. На взгляд Ли, авангард “никак не связан с политикой”: ‘‘Китайских коллекционеров больше интересует повседневность, а не память или трагедия”.
Партия сочла, что лучшим способом лишить китайское искусство духа борьбы будет одобрить его. В 2006 году, после нескольких лет угроз уничтожить “Фабрику-798” – завод военной электроники, отданный под галереи и художественные мастерские, власти Пекина назвали ее “креативным кластером”, и туда потянулись туристы.
Рынок искусства пошел в гору. Открылись сотни музеев современного искусства. Прежде нищие художники теперь продавали свои работы по всему миру и строили дачи у Великой стены. Ай Вэйвэй (один из “Звезд”) открыл собственный ресторан. Стремление китайцев к богатству было интересно Аю само по себе, и он изготовил несколько огромных хрустальных люстр – пародию на новую китайскую эстетику. Одну Ай повесил внутри проржавевших строительных лесов: получилась карикатура на социальное неравенство.
В первые два десятилетия практики Ай работал нерегулярно: между азартными играми и продажей антиквариата он создавал инсталляции, писал картины, фотографировал, изготавливал мебель, сочинял книги и снимал фильмы. Он помог организовать коммуны художников на окраинах столицы. Несмотря на отсутствие архитектурного образования, Ай стал одним из самых востребованных архитекторов, прежде чем его увлекли другие занятия.