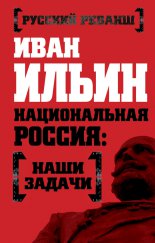Век амбиций. Богатство, истина и вера в новом Китае Ознос Эван

Последствия не заставили себя ждать. Раз за разом выяснялось, что катастрофы, потрясавшие общество, происходили из-за подкупа, мошенничества, хищений или покровительства. При строительстве школ, разрушившихся во время Сычуаньского землетрясения, не обошлось без откатов. Поезд, потерпевший крушение в Вэньчжоу, находился под управлением одного из самых коррумпированных учреждений в стране. В случае с отравленной молочной смесью, погубившей детей в 2008 году, производители и торговцы молоком сначала подкупили инспекторов, чтобы те не обращали внимания на присутствие химикатов. Потом, когда дети стали болеть, молочная компания подкупила журналистов.
Взяткой может стать все, что угодно. Бизнесмены устраивают игры в покер, в которых чиновники непременно выигрывают. Спиртное стало настолько популярным подношением, что государственные СМИ объявили уровень продаж водки “Квейчоу маотай”, самой известной и дорогой, ‘‘индексом китайской коррупции”. В 2011 году водкой торговали так бойко, что возник ее дефицит, а компания-производитель выплатила самые большие дивиденды за всю историю китайской фондовой биржи.
Однажды я заглянул домой к Мао Юши, экономисту, жившему неподалеку от центрального офиса самого могущественного планового органа КНР – Национальной комиссии по развитию и реформам. Мао показал мне магазины подарков, торгующие спиртными напитками и фарфором: просители не забывают заглянуть туда перед визитом к чиновникам. “Приезжие входят в здание с большими и маленькими пакетами, а выходят с пустыми руками, – поделился Мао наблюдениями. – А когда рабочий день заканчивается, служащие уносят все эти пакеты. Но сами чиновники не могут употребить все это, поэтому они сдают приношения обратно в магазины и их снова покупают люди, приезжающие по делам в Пекин. Вот во что превратилась наша улица”.
Государственные служащие, годовое жалованье которых составляет 20–30 тысяч долларов, стали настолько частыми клиентами “Гуччи” и “Луи Виттон”, что во время сессий Всекитайского собрания народных представителей в бутиках заканчивается товар. В некоторых случаях бизнесмен сопровождает чиновника, но если это слишком подозрительно, он может оставить ему кредитную карточку и пополнять по мере надобности счет. Чаще всего неясно, кто кому платит, однако иногда в суде становятся известны интересные подробности. Когда в Макао арестовали Лун Аоманя, главу местного Министерства транспорта и общественных работ, у него нашли коллекцию “записных книжек дружбы”, документирующих “откаты” на сто миллионов долларов США.
Вторая заповедь Ху Гана гласила: по меньшей мере полгода вы ничего не получите взамен. “Главное – это дружба, – объяснил он. – Такая крепкая, чтобы между вами не было секретов”. Пока мы разговаривали, он возводил в пиале горку из свинины. “И лишь после того, как вы докажете преданность, покажете, что можете сделать то, о чем говорите, ваши усилия будут вознаграждены”. Он закрыл глаза и молча жевал, что-то обдумывая. “Таким образом, – подытожил Ху, – можно уговорить кого угодно”.
Стратегия оказалась недешевой. В первый год Ху потратил четверть миллиона юаней на подарки, девочек и еду. Но пять лет спустя его расходы окупились сполна. У Ху был один из самых крупных в городе аукционных домов и кое-какие сбережения – полтора миллиона долларов. Он был в ударе: “Я спал до полудня, а потом начинал обход. Кроме прочего, было нужно позаботиться о любовницах всех этих людей”.
Но и тогда Ху чего-то недоставало: “Если я получал за год три или пять миллионов, я думал, как в следующем году получить больше. Если я № 3 в городе, как стать № 1?
Это как бег. Раз побежав, уже не можешь остановиться. Просто бежишь, и все. Не философствуешь. Ты сам по себе”.
Иностранцам трудно осознать масштаб политической коррупции в Китае отчасти потому, что большинство их с ней не сталкиваются. У гостей страны, в отличие от других развивающихся стран, не требовали взятки таможенники или милиционеры. Если у иностранцев не было нужды в услугах китайских государственных школ или больниц, они не чувствовали проникновения взяточничества почти во все уголки общества. На бумаге китайское государственное образование было бесплатным и общедоступным, однако родители знали, что должны заплатить “спонсорский взнос”, чтобы отправить ребенка в хорошую школу. В Пекине такой взнос достигал шестнадцати тысяч долларов – это более чем вдвое превышало средний годовой заработок. Сильные “социальные связи” или “взносы” – вот единственный, по мнению 46 % китайских родителей, способ дать ребенку хорошее образование. К 2011 году, согласно докладу Академии общественных наук Китая, дела о коррупции среди чиновников уездного уровня открывались по одному в день.
Платить за власть стало настолько обыденным, что в 2012 году редакторы авторитетного “Словаря современного китайского языка” сочли необходимым включить в издание выражение майгуань – “купить должность”. Иногда варианты выглядели как меню в ресторане. В маленьком городке во Внутренней Монголии пост начальника планового отдела был продан за 103 тысячи долларов. Стать секретарем местного парткома можно за 101 тысячу долларов. В этом была своя логика: при слабой демократии путь к должности оплачивают путем подкупа избирателей, а в государстве, где голоса покупать бессмысленно, ты платишь тем, от кого зависит назначение. Даже армия охвачена коррупцией: командиры получают взятки от нижестоящих офицеров. Генерал-майор, судя по данным, может рассчитывать на десять миллионов долларов в подарках и контрактах, а генерал – по меньшей мере на пятьдесят миллионов.
Коррупция есть в любой стране, но в Китае она достигла такого уровня, с которым никто и никогда не сталкивался на Западе. Не всегда можно с уверенностью сказать, какие именно из состояний, заработанных с нуля, получены законно, но политическая должность издавна была надежным путем к богатству. В 2012 году семьдесят богатейших депутатов китайского парламента совокупно “весили” почти девяносто миллиардов долларов – вдесятеро больше, чем весь Конгресс США.
Очень большие деньги вкупе с непрозрачностью мешали самой партии. В 2012 году отработанное политическое шоу – передача власти от одного поколения аппаратчиков другому – сорвалось. План был выверен: осенним днем представители новой касты появятся на сцене Дома народных собраний, вежливо аплодируя друг другу перед восемнадцатиметровым изображением Великой стены. Но всего за один месяц до спектакля планы начали рушиться.
Ван Лицзюнь был бывшим начальником милиции города Чунцин на западе Китая. Партийная пресса хвалила его за стойкость и изобретательность, например за отладку механизма трансплантации органов казненных преступников. Шестого февраля он на автомобиле добрался до генерального консульства США в Чэнду и попросил убежища. Он объяснил американцам, что раскрыл убийство и винит в нем семью Во Силая – секретаря Чунцинского горкома партии и главного кандидата на восхождение на сцену в Доме народных собраний. Жертвой стал сорокаоднолетний британский бизнесмен Нил Хейвуд, носивший светлые льняные костюмы, сдержанный, по словам друга Хейвуда, – настоящий персонаж “романа Грэма Грина – всегда безупречный, очень благородный, очень образованный”. Хейвуд работал на полставки в компании корпоративной разведки, организованной бывшими агентами МИ-6, и ездил по Пекину на “Ягуаре” с номером 007. (Друзья считали его скорее Уолтером Митти, чем Джеймсом Бондом.) Когда его тело нашли зимой в номере захудалой горной гостиницы “Лаки холидей”, следствие приписало смерть алкоголю, но начальник милиции рассказал американцам, что Хейвуд “решал проблемы” семьи Бо Силая, и когда жене Бо не понравился англичанин, она его отравила.
Бо был самой яркой фигурой в китайской политической элите, популистом и подхалимом. Я встретился с ним – высоким фотогеничным сыном партийного босса с мягкими руками наследного принца, – когда он возглавлял Министерство коммерции, дожидаясь своего места в Политбюро. Его жена Гу Кайлай, юрист (“китайская Джеки Кеннеди”, как называл ее американский коллега), опубликовала книгу о своих успехах в суде. Бо, сделавшись парт-секретарем в Чунцине, почувствовал возможность обойти более либеральных конкурентов и взялся создавать себе имидж настолько близкий к Хьюи Лонгу, насколько это возможно в Китае. Он встал под знамя маоизма и призывал сограждан петь “красные песни” вроде “Единство – это сила” и “Революционеры вечно молоды”. Бо и подчиненная ему милиция расправились с тысячами магнатов, политических противников и предполагаемых преступников в ходе кампании арестов и пыток, которую он назвал “Уничтожение черного”.
Я встретил Бо, когда сопровождал мэра Чикаго Ричарда М. Дэйли (я хотел взглянуть, как американский политик столкнется с китайской системой). Мы ждали за дверями кабинета Бо, когда он вышел, смеясь и раскланиваясь с предыдущими посетителями: делегацией высоких худых африканцев, которые казались обрадованными теплой встречей. Я спросил одну из женщин, подающих чай, кто они.
– Суданцы.
Бо помахал на прощание суданцам, повернулся и протянул руку Дэйли. Бо сдобрил приветствие английским, что было для китайского чиновника редкостью. Рядом с Дэйли, напоминавшим пожарный гидрант в чикагском Саутсайде, Бо выглядел как кинозвезда.
Если бы Ван Лицзюнь не попытался сбежать, мир мог бы никогда не узнать о делах Бо Силая. Но признания Вана вызвали шок. Американцы не дали ему убежища: он мрачно вышел из консульства и сдался. Его осудили за предательство и взяточничество, прояснив ситуацию специально для тех, кто мог решиться на побег. Однако рассказанное им нельзя было замолчать.
Слухи о том, что рассказал Ван, стремительно распространялись по интернету и другим каналам. Цензоры пытались справиться с ситуацией, но ущерб имиджу Бо Силая был причинен катастрофический. В течение двух месяцев его отстранили от должности, и правительство приготовилось обвинить его в получении взяток, злоупотреблении властью и других преступлениях. Партия отчаянно пыталась удержать баланс между попыткой показать, что она вершит справедливость, и нежеланием освещать детали. На однодневном показательном процессе Гу Кайлай, жену Бо, осудили за убийство англичанина, но людей это не успокоило. Когда Гу появилась в суде, она оказалась полнее, чем на фотографиях, и зрители предположили, что это ее двойник. (Несмотря на старания правительства опровергнуть этот миф, он стал очень популярен.) Падение Бо развеяло образ бескорыстного и скромного слуги народа. В то время, когда его официальная зарплата составляла эквивалент девятнадцати тысяч долларов в год, его большая семья приобрела активы стоимостью более ста миллионов долларов.
Иностранных бизнесменов обеспокоила история с англичанином. Она напомнила им о гангстерских традициях в мире китайских финансов и политики. Анил Шривастав, британский торговец металлоломом, однажды рассказал мне о неприятных переговорах, которые он вел о грузе металла: “Они ворвались и выволокли меня наружу. Я кричал: ‘Помогите’, но никто даже не обернулся. Эти люди бросили меня в фургон и увезли… Я такое видел только в кино”. Позднее бизнесмена отпустили.
Для китайцев падение Бо означало, что слухи, которыми они обменивались в Сети, которые опровергали и запрещали цензоры, вдруг превратились в факты. Пользователь “Вэйбо” Цзиигунцзян написал: “Атаки ‘международных реакционных сил’ оказались правдой. Ну и каким еще ‘истинам’ в иностранных СМИ мы должны поверить?”
Скандал с участием Бо ударил в спину китайскому успеху. Никогда прежде граждане КНР не узнавали столько о правящих ими гордецах. За два года Хань Фэн, глава Управления табачной монополии из южного города Лайбинь, сделал в личном дневнике более пяти тысяч записей. Когда дневник попал в интернет (Хань так и не узнал, как именно), публике открылась жизнь, состоящая из банкетов, интрижек и расслабленных командировок, перемежаемых партийными церемониями. Однажды чиновник записал:
6 ноября, вторник. Солнечно. Я переписал речь о “хороших манерах”. За обедом ко мне присоединились Ли Де-хуэй и другие из [города] Сямынь, мы выпили. Потом я вздремнул… За ужином много выпил… В 10 вечера госпожа Тань Шаньфан заехала и утащила меня к себе домой. Мы занимались любовью три раза, и еще раз на рассвете.
В марте 2010 года Ханя арестовали. Его судили и приговорили к тринадцати годам тюрьмы за получение взяток деньгами и недвижимостью на сумму более ста тысяч долларов. Хань был мальком в партийной пищевой цепочке, и партия с радостью избавилась от него. Когда я читал дневник, меня поразила обыденность описанного. Хань выглядел не бандитом и не политиком – просто человеком, не упускающим возможностей, которые дает система. (Незаконные расходы чиновников на путешествия, банкеты и машины, согласно подсчетам Министерства финансов, обошлись в четырнадцать миллиардов юаней – более половины оборонного бюджета страны.) В последний день года Хань подвел итог:
Работа в этом году шла лучше, чем в любом из предыдущих… Мой авторитет у сотрудников вырос… Сын хорошо учится. Он получил направление в аспирантуру даже без экзаменов. Через два года без проблем найдет работу. Я достиг нового уровня в фотографии, и я постараюсь учиться дальше. С женщинами все прекрасно. Встречался с маленькой госпожой Пань. Хорошо проводил время с госпожой Тань Шаньфан и насладился госпожой Мо Яодай. Это был хороший год, богатый на женщин, но с таким количеством партнерш нужно следить за здоровьем.
Со временем китайские блогеры научились увеличивать официальные фотографии, чтобы находить доказательства, что они не соответствуют официальным заявлениям. Они выкладывали в интернете фотографии отделов милиции с выкрашенными в бело-синий “Мазерати” и “Порше”, а также обратили внимание на то, что чиновник по недвижимости Чжоу Цзюгэн на фотографиях курит сигареты по 24 доллара за пачку. После расследования его посадили в тюрьму на одиннадцать лет за взяточничество. Другой блогер создал себе репутацию на выявлении партийцев с особенно дорогими часами, и за это его прозвали “Часовой сторожевой пес”.
Цензоры старались убрать из Сети столько, сколько могли, но каждый новый случай становился пятном на имидже партии, заявлявшей, что она “первой испытывает горечь, последней процветает”. Каждый новый случай казался скорее правилом, нежели исключением, и все указывало на несоответствие священного образа действительности. Некая женщина описала в Сети интрижку со своим боссом И Цзюньцином, главой Центрального бюро переводов ЦК – в сущности, первосвященником марксистского культа. Любовница описала, как заплатила наличными за свою должность, и опубликовала текстовые сообщения за три года и долгий рассказ о суси, саке и болтовне за обедом.
В другом случае в интернете появился ряд снимков (из компьютера, отданного в ремонт), где были запечатлены пятеро мужчин и женщин во время оргии в гостинице. Были быстро опознаны несколько чиновников. Проблема заключалась не в неловкости, а в лицемерии. Незадолго до этого осудили профессора информатики, жившего с матерью и в свободное время организовывавшего групповой секс через сообщество, где его знали под ником “Ревущее мужское пламя”. Его арестовали и осудили на три с половиной года за “блуд” – наследие тех времен, когда правительство осуждало людей за секс вне брака. Этот случай сплотил защитников неприкосновенности частной жизни, так что распространение новости об оргии партийцев стало чем-то вроде вызова. Одна уездная администрация объявила, что на снимках не члены КПК, а “Жэньминь жибао” обобщила эту мысль под заголовком: “Голый парень – не наш партийный лидер”. (Позднее выяснилось – все-таки он.)
Мне стало трудно уследить за событиями. Обнаружилось, что у чиновника из Шаньси в стране, где проводится политика “одна семья – один ребенок”, – четыре жены и десять детей. А потом появилась съемка партсекретаря Лэй Чжэнфу, упражнявшегося с женщиной втрое моложе себя. Ее, кстати, нанял местный застройщик ради шантажа Лэя. (Чиновник был тучен, и интернет-пользователи помещали его фотографию рядом с изображением злодея Джаббы Хатта из “Звездных войн”.)
Последним случаем, прежде чем я оставил попытки за всем уследить, стала история начальника милиции из уезда Усу. Когда обнаружилось, что он состоит в связи с двумя женщинами, которых он продвигал по карьерной лестнице в милиции, а также содержит оплачиваемые налогоплательщиками роскошные апартаменты, начальство выпустило опровержение, которое, по-видимому, должно было стать хорошей новостью: любовницы не были близнецами. Они были просто сестрами. Прочитав об этом за обедом, я чуть не подавился.
Тысячи лет китайские императоры опирались на концепцию ‘‘добродетельного правления”. “Когда ведешь себя правильно, – говорил Конфуций, – то за тобой пойдут и без приказа; когда же ведешь себя неправильно, то не послушают, хоть и прикажешь”[9]. Авторитет партии опирался на сентенцию, что даже если один бюрократ и поддастся коррупции, то высшие чины все равно останутся мудрыми и справедливыми, а следовательно, манифестации и прямые выборы стране не нужны. Ху Цзиньтао сказал: “Моральная чистота – вот главное качество чиновника”. Когда китайцы замечают, что правительство отступает от принципа “добродетельного правления”, реакция может быть очень бурной: манифестации на Тяньаньмэнь были во многом спровоцированы разгулом коррупции.
Недавно телерепортер опросил шестилетних детей, кем те хотят стать, дети прошлись по обычному списку – пожарные, летчики, художники. А один мальчик сказал:
– Я хочу быть чиновником.
– Каким чиновником?
– Продажным! У них много вещей.
Новости о богатстве привлекали все больше внимания. В июне юн года агентство “Блумберг ньюс” на основании корпоративных документов и данных интервью подсчитало, что большая семья будущего председателя КНР Си Цзиньпина располагает имуществом стоимостью сто миллионов долларов. Партии было трудно объяснить это обстоятельство, поэтому она не стала и пытаться: через сутки цензоры заблокировали сайт “Блумберг”, а китайским банкам и корпорациям предписали не заключать контракты через терминалы “Блумберг”. Это стоило компании миллионов, потерянных на сделках и рекламе.
С ростом давления на китайских лидеров некоторые из их сторонников стали яростно выступать против разоблачений, и эта ярость странным образом просочилась в нашу жизнь. Однажды днем моей жене Сарабет, работавшей в некоммерческой образовательной организации, позвонила женщина, которую та знала по работе – жена китайского профессора с тесными связями в партии. Оба супруга были практичными людьми – с ребенком в “Лиге плюща” и знакомствами с высокопоставленными людьми в Пекине. Она попросила Сарабет о встрече. В “Старбакс” эта женщина спрашивала о моей работе и о том, дружу ли я с Майклом Форсайтом, репортером “Блумберг”, рассказавшим о богатстве семьи Си Цзиньпина. У нее было сообщение, которое Сарабет должна была передать мне, а я – Майку: “Он с семьей не должен оставаться в Китае. Это небезопасно. Что-нибудь может случиться. Выглядеть все будет как несчастный случай. Никто не знает, что произойдет. Его просто найдут мертвым”.
Сарабет, у которой был ограниченный опыт в таких вопросах, была озадачена. Почему женщина говорит об этом ей? Сарабет спросила, кто стоит за угрозой. “Не егосемья, – ответила женщина, имея в виду Вэня. – Это люди вокруг него, которые хотят доказать свою лояльность”.
Я позвонил Майку и застал его в Европе, где он был в отпуске с женой и сыновьями. Он сказал, что уже получил угрозу от другого посредника, и встретился с женой профессора. Она работала консультантом по связям с общественностью семьи Си. Майк не знал, что и думать. Помогала ли ему жена профессора? Или пыталась запугать? Публикация данных о богатстве председателя КНР стала имиджевой катастрофой.
Эксперты по безопасности, работающие на “Блумберг”, оценили угрозы и в конце концов решили, что Майк может спокойно вернуться в Пекин. Но этот случай было тяжело забыть. Через год Майк с семьей переехал в Гонконг, а в 2013 году ушел из агентства “Блумберг”.
Угрозы не достигли успеха. В октябре “Нью-Йорк таймс” подсчитала, что за годы, которые Вэнь Цзябао был премьером Госсовета, его семья нажила 2,7 миллиарда долларов. Прежде семья не была богата. Отец Вэня был свиноводом, мать – учительницей. Теперь его семья попала в список журнала “Форбс”.
Эти новости выставили партию на посмешище: до прихода коммунистов, как было принято говорить, Китаем правили четыре знатных семейства, а партия вернула народу присвоенные ими богатства. Теперь стало ясно, что Китай по истечении века после низвержения последней императорской династии вернулся к правлению своеобразной аристократии. Масштаб растрат и злоупотреблений властью нанес особенно сильный урон репутации Вэня, так как он пытался представить себя одним из главных партийных либералов. “Дедушка Вэнь” часто обращался к бедным: “Мы должны не только дать людям свободу слова. Мы… должны создать условия, чтобы они критиковали работу правительства”. И все же в шесть часов утра, когда обнаружилась информация об его семье, правительство отключило сайт “Таймс” (он, как и сайт “Блумберг”, недоступен).
Блокирование сайтов ряда самых влиятельных мировых СМИ стало демонстрацией того, насколько партия готова изолировать народ, чтобы защитить себя: теперь она запрещала людям пользоваться “Фейсбуком”, “Твиттером”, читать “Нью-Йорк таймс”, “Блумберг” и многие другие сайты. Цензоры запрещали новые поисковые запросы: “премьер Госсовета + семья” и “Вэнь + 100 миллионов”.
Речь шла не только о деньгах. Люди публиковали доказательства того, насколько жизнь чиновников удобнее их собственной. Однажды производитель воздухоочистителей в рекламе похвалился тем, что чиновники пользуются двумястами видами высококлассных освежителей в столичных офисах: “Чистый здоровый воздух для наших национальных лидеров есть благословение для народа”. Пока китайцы пытались осознать этот факт, им рассказали о фермах, которые поставляли партийным лидерам безопасные продукты. (Согласно отчету Азиатского банка развития за 2007 год, триста миллионов человек в Китае ежегодно заболевают из-за некачественной еды.) После того как журналисты из газеты “Наньфан чжоумо” написали об этих фермах, редакторы КНР получили приказ о них не упоминать.
Последнее, чему Ху Ган научил меня, – это что подкуп судьи того стоит. После пяти лет деятельности его поймали во время плановой операции по борьбе с коррупцией в судах. Тогда арестовали сто сорок судей, в том числе одного председателя народного суда провинции. Ху приговорили к году тюрьмы.
Когда он вышел на свободу, то опубликовал (под псевдонимом Фу Ши) роман, потом еще одну книгу… когда я встретил его в 2012 году, он работал над телесценарием. “Хотя у нас есть правовая система, законы… исполняются избирательно, – объяснил он, откинувшись в кресле после сытного обеда. – Когда правила подходят тем, кто их создает, то их исполняют; когда не подходят, их игнорируют. Тот, кто создает правила, говорит: ‘Я – единственное и самое могущественное правило’. Все это знают. Китай живет по неписаным законам… Так было всегда; просто теперь об этом все чаще говорят”.
В большинстве стран долгосрочные эффекты клептократии легко предсказать: экономисты подсчитали, что с каждым пунктом роста коррупции по шкале от одного до десяти национальная экономика теряет 1 %. (Вспомните Гаити при Дювалье или Заир при Мобуту.) Но важны различия. В Японии и Корее коррупция сопутствовала развитию. И нет более удивительного примера, нежели США. Когда обнаружилась афера при строительстве первой трансконтинентальной железной дороги (скандал с “Креди мобилье оф Америка”, 1872), пресса сочла ее “наиболее вредоносным проявлением государственной и корпоративной коррупции… которое когда-либо видел мир”. В 18661873 годах страна проложила более пятидесяти шести тысяч километров железнодорожных путей, создала огромные капиталы – и показала при этом, по словам Марка Твена, “позорную продажность”. Железнодорожный бум привел к биржевому краху 1873 года и финансовому кризису, длившемуся до тех пор, пока в Прогрессивную эру общество не потребовало прекратить злоупотребления.
На влияние, которое оказывает коррупция на будущее Китая, есть два взгляда. Согласно оптимистическому сценарию, это неизбежная ступень на пути от социализма к свободному рынку, и, несмотря ни на что, она способствовала строительству сети шоссе и железных дорог, внушающей зависть даже развитым странам. “Китайцы успешнее, – объяснял журналистам министр транспорта США Рэй Лахуд, – потому что в их стране решения принимают всего три человека. А в нашей стране этим занимаются три тысячи человек”. Пэй Миньсинь менее оптимистичен. Он говорил мне, что под суд идет 3–6 % членов партии, уличенных в преступлениях, и лишь треть из них отправляется за решетку. Когда Эндрю Уидман, политолог из Университета штата Джорджия, брался за оценку практики взяточничества и приговоров за него, он рассчитывал обнаружить, что механика китайской коррупции напоминает систему иерархического патронажа в Японии и Корее. Но нашел нечто иное: “Коррупция в современном Китае, в сущности, анархична… Она больше похожа на заирскую, нежели на японскую”. Впрочем, в отличие от Заира, в Китае наказывают охотнее: за пять лет 668 тысяч членов партии осудили за подкуп, взяточничество и растрату, а также казнили 350 человек, обвиненных в коррупции. По мнению Уидмана, “на базовом уровне это не давало коррупции выйти из-под контроля”.
Более мрачный сценарий предполагает, что угроза, исходящая от коррупции, имеет не экономический, а политический характер. Согласно этому взгляду, связь между народом и лидерами слабеет, правящий класс в последние годы лихорадочного роста пытается взять все, что можно, и КПК способна к реформированию не более, чем в свое время КПСС. После скандала с участием Бо Силая рядовые партийцы стали задумываться о происходящем. Четыре чиновника в отставке подписали открытое письмо: “В каком же состоянии партия, если даже ее верхушка оказывается втянутой в историю более жуткую, чем из сказок ‘Тысячи и одной ночи’?” Новые лидеры “должны открыть… личное и семейное состояние”. Китайские власти верили, что политические реформы приведут к нестабильности, но неужели им казалось, что бездействие улучшит ситуацию? Когда экономика процветает, граждане могут терпеть даже ужасающую коррупцию. Но когда рост замедляется, коррупция может стать невыносимой.
Я однажды спросил Ху Гана, сможет ли Китай выйти из коррупционного бума, подобно Америке и Корее. Он помолчал и сказал:
Я воспринимаю наше общество как огромный пруд. Годами люди использовали его как туалет, просто потому что могли. И мы наслаждались свободой это делать, несмотря на то, что пруд становился все грязнее. Теперь нужен тот, кто встанет и скажет, что пруд загажен, что если мы продолжим его загрязнять, никто не выживет.
Единственная истина
Ли Ян, гуру английского, слетел с катушек. Несколько лет после нашей первой встречи я наблюдал, как под знамена “Крейзи инглиш” встают целые легионы учеников, а их лидер делается все более буйным. В 2011 году цунами погубило в Японии десятки тысяч человек, Ли назвал эту катастрофу “карой господней” за вторжение Японии в Китай во время Второй мировой войны. Шанхайский блогер обозвал его “шизиком-суперзвездой”.
Годами самым убедительным доказательством адекватности Ли Яна служила поддержка со стороны жены, Ким Ли, однако в сентябре 2011 года она обвинила его в рукоприкладстве и подала на развод. В стране, где жертвы домашнего насилия редко обращались в милицию, это стало общенациональной новостью. Ли Ян объяснил репортеру: “Ну да, я поколачивал ее иногда, но не думал, что она расскажет об этом. Выносить сор из избы – это не в китайских традициях”. В следующие месяцы Ким Ли превратилась в фантастический символ, в “героиню избитых жен”.
Бизнес Ли Яна устоял, однако скандал стал серьезным испытанием для молодых мужчин и женщин, возлагавших надежды на Ли. Однажды мне позвонил Майкл (Чжан): “Он [Ли] сильно бил жену. Он не был хорошим отцом, не был хорошим наставником. Я ненавижу… Нет-нет, я не должен говорить, что ненавижу его”. Спустя пару недель я оказался в Южном Китае и сел в автобус, чтобы встретиться с Майклом и его родными. Они оставили свою квартиру в Гуанчжоу и переехали в соседний Цинъюань, город поменьше. Он был всего в часе езды, но выглядел менее опрятно, напоминая деревню. Отсюда не ходил сверхскоростной поезд в столицу. Пока я ждал Майкла на остановке, я рассматривал мужчину, багаж которого был привязан к лежащей на плечах ветке дерева. Явившийся Майкл в наушниках и модной ветровке плохо вписывался в пейзаж. Он осмотрелся: “Через три года это будет международный город. Ненавижу Гуанчжоу. Там полно воров. Меня грабили трижды”.
Мы взяли такси и отправились на другой конец города. Майкл с родителями жил в “кафельном” районе с множеством магазинов, торгующих раковинами, унитазами и плиткой. Дорога была усыпана осколками плитки всех цветов радуги, похожими на конфетти. Квартира находилась на восьмом этаже серого дома без лифта. Поднимаясь, я слышал в отдалении гул стройки. Родители Майкла готовили ланч. Здесь все было не таким глянцевым, как в Гуанчжоу, но эта квартира оказалась немного просторнее, и у Майкла была своя комната. Лозунги на стенах показывали, что к его обычному оптимизму стало примешиваться раздражение. “Я должен усилием воли изменить течение моей жизни”, – гласил один. “Я не могу это терпеть”, – сообщал другой.
На шкафу стояла большая картонная коробка, подписанная “Крейзи инглиш”. Я спросил, что там, и Майкл вздохнул: там лежали несколько десятков книг “Крейзи инглиш”, которые он надеялся когда-нибудь продать. “Ли Ян был очень убедителен, – сказал Майкл. – Он заставил меня влюбиться в “Крейзи инглиш’ на девять лет. Он глубоко проник в мою душу. Я стал по-настоящему странным”. Он рассмеялся. “Методы “Крейзи инглиш’ не работают, – продолжил Майкл. – Многие ученики приходят ко мне и говорят: ‘Я потратил девять тысяч юаней, а произношение все еще плохое’”.
Языковой бизнес был нелегким делом. После того как Майкл одолжил деньги, чтобы открыть фирму, она просуществовала два года. Майкл отвечал за продажи и пытался найти учеников. К январю 2011 года бизнес прогорел. Майкл остался без гроша и в долгах. Тогда он усвоил урок: полагаться следует лишь на себя.
Его семья уехала из Гуанчжоу, чтобы сэкономить, и теперь, на восьмом этаже дома без лифта, он в одиночку составлял учебник английского языка. “Я мечтаю изменить китайскую систему преподавания английского”, – сказал Майкл. Он был уверен, что может написать успешную книгу, если получит шанс: “У меня есть способности. Я незаменим… Вы можете в это поверить?”
Когда обед был готов, мы собрались в гостиной. На двери Майкла все еще висел постер с Ли Яном, а на противоположной стене его мать, принявшая христианство, поместила плакат: “Христос есть столп, укрепляющий семью”. (Когда речь заходила о христианстве, Майкл говорил: “Я просто беру лучшее от всех религий”.)
Майкл с удовольствием поделился своим замыслом. Он собирался заняться решением проблемы “экзаменационного английского” – того неестественного языка, который китайские школьники изучали для вступительных экзаменов. Вместо этого он хотел заставить их заучивать повседневные выражения. Он выпалил:
Get it. Get up. Knock up. Cheer up. Gimme a break, man. I don't get it, man. I have no idea, man. Shut your mouth, man. [Понял. Вставай. Подъем. Взбодрись. Дай мне передохнуть, приятель. Я не понял, приятель. Понятия не имею, приятель. Закрой рот, парень.]
Майкл выделил восемьсот слов, которые ученики должны были повторять снова и снова для оттачивания произношения. Когда он продемонстрировал свою технику, это прозвучало как история современного Китая в одном предложении:
I can, I can, I can, I can. Suffered, suffered, suffered, suffered. Have, have, have, have. [Я могу, я могу, я могу, я могу. Страдал, страдал, страдал, страдал. Владеть, владеть, владеть, владеть.]
Родители к этому привыкли. Он превратил дом в подобие класса English as a Second Language (ESL),хотя сами они, как и многие их ровесники, по-английски не говорили. У них просто не было выбора, кроме как поверить в то, что сын делает нечто стоящее. В тот же день Майкл, его родители и я отправились посмотреть на новое приобретение: строящуюся для Майкла и его будущей жены квартиру. Мы шли по “кафельному” району; отец Майкла был в армейских ботинках, перемалывающих осколки. Мы дошли до современной многоэтажки с блестящим холлом, и ботинки сразу стали выглядеть неуместно. В холле стояла модель жилого комплекса с лампочками и пластиковыми фигурками под пальмами. Холл служил также торговым центром, но покупателей сейчас не было. Экономический рост замедлился, и городской рынок недвижимости был уже не тот, что раньше. Мы собирались взглянуть на новую квартиру, но башня была еще не достроена, и панель лифта угрожающе висела на проводах. Майкл нажал на кнопку, подумал и предложил зайти в рекламную квартиру.
Стены были из голого бетона, что могло символизировать как многообещающее будущее проекта, так и неприятности. Мы вышли на балкон посмотреть на озеро. С восемнадцатого этажа люди казались фигурками на архитектурном макете. Квартира, которую Майкл и его родители смогли себе позволить, находилась на другой стороне. Вид из ее окон открывался на магазины кафеля, а не на озеро. Мы вернулись в лифт, Майкл выглядел неуверенно. На английском, чтобы родители не поняли, он объяснил: “Я не буду здесь жить. Поселю родителей. Мне нужно вернуться в большой город – Шэньчжэнь, Пекин, Шанхай. Цинъюань – деревня. Второй сорт. Они учат только ‘экзаменационный английский’ и не мечтают о большем”.
Шли годы, и я видел, как молодые амбициозные люди вроде Майкла начинают терять терпение. У “синих воротничков” не было проблем, их оклады росли, однако не каждому из тех шести миллионов, кто ежегодно оканчивает вуз, хватает офисных должностей. В 2003–2009 годах средний начальный заработок рабочих-мигрантов вырос почти на 80 %, но у людей с высшим образованием зарплата осталась прежней. С учетом инфляции их доход падал. Молодым китайцам, отчаянно желавшим найти жену и протолкаться в “новую среднезажиточную страту”, стало очевидно: богатства страны распространены очень неравномерно. К юн году средняя квартира в крупном городе продавалась за цену, в 8-ю раз превышающую средний годовой доход. (В Америке даже при наличии “ипотечного пузыря” – в 5 раз.) Молодежь придумала себе самоуничижительное прозвище: человек без связей, позволяющих разбогатеть, и без денег, позволяющих жениться, стал называться дяо-си – “шелковый пенис”. Эти молодые люди росли в эпоху самостоятельности, когда школьные песни убеждали, что они – чудо природы, а реклама телефонов кричала: “Моя жизнь, мои решения”. У них были причины для разочарования. Когда пришло время выбрать один иероглиф, чтобы описать 2009 год? интернет-аудитория выбрала бэй (
): он означает пассивный залог, как в выражениях “быть уволенным”, “быть использованным”.
Общественные настроения стали меняться. Бум позволил почти всем китайцам в некоторой степени улучшить свое положение: средний доход в последние десять лет увеличился более чем втрое, при этом пропасть между богатыми и бедными оказалась шире, чем ожидала партия. В 2001 году Чжу Жунцзи, прямолинейного премьера Госсовета, спросили, не беспокоится ли он, что растущие противоречия могут привести к нестабильности. “Еще нет”, – ответил Чжу. Он напомнил о показателе расслоения общества, известном как коэффициент Джини (от 0 до 1, где 1 – полное неравенство). Китайские чиновники предсказывали, что китайское общество останется стабильным до тех пор, пока эта оценка будет оставаться ниже “опасных” 0,4. Через одиннадцать лет правительство перестало публиковать расчеты, объяснив: богачи скрывают свои доходы.
Разрыв в доходах не был абстракцией: ребенок, родившийся на далеком Тибетском нагорье, имел в семь раз больше шансов умереть до пяти лет, чем родившийся в столице. От правительства требовали действий. Оно вполне могло реформировать систему налогообложения (в Китае все еще не было налога на наследство и на прирост капитала), но вместо этого в апреле 2011 года запретило использовать слово “роскошь” в названиях компаний и рекламе. “Роскошную пекарню Черного лебедя”, продававшую свадебные торты за 314 тысяч долларов, пришлось переименовать в “Художественную пекарню Черного лебедя”. (Запрет продержался недолго.)
Несколько лет спустя, в январе 2013 года, правительство все же опубликовало расчеты коэффициента Джини: 0,47. Многие специалисты подвергли его сомнению: так, экономист Сюй Сяонянь назвал этот показатель “сказкой”. (Независимые подсчеты показывали значение 0,61 – хуже Зимбабве.) Но, несмотря на разговоры о доходах, людей сильнее волнует разрыв в возможностях. Гарвардский социолог Мартин Уайт в 2009 году обнаружил, что китайцы удивительно легко относятся к плутократии. Они возмущались тем, что мешает им самим стать ее частью: слабыми судами, злоупотреблением властью, нехваткой инстанций. Чжан Иньцян и Тор Эриксон, следившие в 1986–2006 годах за судьбой китайских семей, указывали на “высокую степень неравенства возможностей”: “Суть рыночных реформ заключалась в том, что если дать некоторым разбогатеть, это поможет разбогатеть остальным… Однако до сих пор почти нет следов того, что реформы сделали правила игры равными для всех”. Исследователи обнаружили, что в развивающихся странах главным фактором, определяющим, сколько ребенок будет зарабатывать, является образование его родителей. В Китае таким фактором оказались родительские связи. Раздельное наблюдение за родителями и детьми в городах выявило “поразительно низкий уровень межпоколенной мобильности”. В 2010 году авторы поместили Китай среди стран с самой низкой в мире социальной мобильностью.
Еще прежде статистиков люди описали проявившиеся социальные различия. Границы пролегали уже не между бобо, дин кэ и представителями “новой среднезажиточной страты”, а между “белыми воротничками” и “черными воротничками”. Анонимный автор описал последних так: “Они носят темную одежду. Они ездят в черных машинах. Их доходы скрыты. Их занятия неочевидны… Как будто в темноте прячется человек в черном”.
Люди, заработавшие состояние с нуля, стали терять былой блеск. Электронный магнат Хуан Гуанъюй, которого считали самым богатым человеком Китая, получил четырнадцать лет тюрьмы за незаконные биржевые операции и другие преступления. В течение восьми лет по меньшей мере четырнадцать юаневых миллиардеров были осуждены за всевозможные преступления: от организации “финансовых пирамид” до заказных убийств. (Юань Баоцзина, бывшего биржевого брокера, еще до своего сорокалетия заработавшего более трех миллиардов юаней, осудили за организацию убийства человека, пытавшегося его шантажировать.) Ежегодные рейтинги богачей прозвали “списками смертников”.
Чэун Янь, Мусорная королева, столкнулась с трудностями иного рода. Меньше чем через год после того, как Чэун признали богатейшей в мире женщиной, добившейся всего самой, ее репутация понесла урон. Группа по защите трудовых прав “Студенты и ученые против корпоративных злоупотреблений” опубликовала “Доклад о потогонном производстве”, в котором обвинила корпорацию “Девять драконов” в нарушениях трудового законодательства: допущении несчастных случаев на производстве, эксплуатации небезопасного оборудования, дискриминации сотрудников, больных гепатитом Б, и так далее. Группа опубликовала выдержки из “Руководства для сотрудников ‘Девяти драконов’”: “Уважайте начальство. Остановитесь, если увидели высокопоставленного начальника, и поприветствуйте его. Если идете вместе с высокопоставленным начальником, пропустите его вперед”. Работников могли оштрафовать, например, на триста юаней за плевание из окна корпоративного автобуса или за нарушение очереди в кафетерии, на пятьсот – за сон на рабочем месте, за разрешение постороннему посмотреть фабрику или за игру в мацзян; тысячный штраф и увольнение грозили за организацию забастовки или “распространение порочащих компанию сведений”. Кроме того, в правилах отмечалось, что размер заработка является конфиденциальной информацией и рассказы или расспросы о зарплате являются поводом для увольнения.
Китайская газета сравнила ситуацию с “позолоченным веком” Америки и обвинила Чэун в “превращении крови в золото”. Ей припомнили ее собственные слова: “Если в стране нет и бедных и богатых, она не станет сильной и процветающей”. Влиятельный журнал “Саньлянь шэнхуо” предположил, что если Чэун “в своем уме”, то она откажется от участия в Народной политической консультативной конференции: “Каждый лист бумаги, произведенный ‘Девятью драконами’… пропитан кровью рабочих”. Даже некоторые из самых энергичных защитников свободного рынка почувствовали смену эпохи. Журнал “Чжунгуо циецзя” в материале о Чэун отметил: “Пять лет назад, возможно, компанию, достигшую успеха в бизнесе, но не идеальную в других отношениях, терпели бы и даже ставили в пример. Но сейчас – уже нет”.
Чэун отреагировала на доклад с яростью: “Мы разбогатели потому, что нашли правильную бизнес-модель и превращали макулатуру в сокровище, а не потому, что дурно обращались с работниками”. По ее словам, компания выдала больше поощрений, чем выписала штрафов. Чэун усомнилась в мотивах группы “Студенты и ученые… ” и туманно намекнула, что та “получает деньги из Европы”.
Чэун объяснила мне, что компания прекратила практику штрафов. Осторожный человек здесь умолк бы, но Чэун придвинулась поближе и сказала, что считает штрафы в былых обстоятельствах оправданными: “Рабочие, если их не штрафовать, теряют осторожность, калечатся и потом требуют компенсации”. После разбирательства профсоюз провинции осудил практику штрафов и некоторые другие методы “Девяти драконов”, однако назвал компанию “довольно хорошей”. Это не слишком помогло: реакция Чэун и доклад завершили трансформацию ее образа. Чэун стала антигероем эпохи “дикого капитализма”.
Чем дольше я жил в Китае, тем сильнее мне казалось, что люди воспринимают экономический бум как поезд с ограниченным количеством мест. Для тех, кто вовремя занял кресло (потому что явился первым, или происходит из подходящей семьи, или дал взятку), прогресс оказался невообразимым. Все остальные были вправе гнаться за поездом так далеко и так быстро, как их несли ноги, но тем не менее видеть вдалеке лишь его хвост.
Разумеется, недовольство прорывалось наружу В 2005–2010 годах число забастовок и других ‘‘массовых происшествий”, согласно официальной статистике, удвоилось и достигло 180 тысяч в год (почти пятьсот случаев ежедневно). Двадцать четвертого июля 2009 года работники сталелитейного завода в провинции Цзилинь, опасаясь приостановки производства, напали на главного менеджера Чэнь Гуоцзюня, молодого выпускника вуза, и, не давая проехать врачам и милиции, забили его до смерти. Партия в подобных случаях нередко объявляет, что виноваты представители “масс, не знающих правды”. Но все чаще казалось, что проблема в самой “правде”. В некоторой степени гонка, старт которой дал Дэн Сяопин, была нечестна. Неравными были не только начальные условия: люди играли по разным правилам.
В январе 2010 года девятнадцатилетний Ма Сянцянь спрыгнул с крыши общежития завода “Фоксконн” – производителя “айфонов” и другой электроники. Он работал на конвейере семь ночей в неделю, одиннадцать часов подряд, пока его не понизили до чистильщика туалетов. В течение нескольких месяцев после смерти Ма самоубийство совершили еще тринадцать сотрудников “Фоксконн”.
Администрация “Фоксконн” установила сетки на крышах, увеличила зарплату, и самоубийства прекратились. Людям со стороны было легко винить в этом изматывающие условия труда, но это объяснение было не совсем верным. Когда к рабочим “Фоксконн” пригласили психологов, подтвердились предположения социологов, касающиеся нового среднего класса: первое поколение работников конвейера было благодарно уже за то, что им удалось вырваться с полей, однако нынешнее поколение имело перед глазами и более завидные примеры. Го Юйхуа, социолог из Университета Цинхуа, писал в 2012 году:
Какое ощущение царит сейчас в Китае? Думаю, многие скажут, что они разочарованы. Это чувство происходит от недостаточного улучшения жизни при быстром росте экономики. Разочарование также проистекает из несоответствия достижимого индивидом социального статуса идее “великой и могущественной нации”.
Я заметил, что китайцы еще видят в “Великом Гэтсби” аналогию с собственным положением, но теперь эта отсылка приобрела зловещий смысл. Исследование Майлза Корака “Кривая ‘Великого Гэтсби’” подтверждает, что показатель социальной мобильности в Китае – один из самых низких в мире. Китайский блогер, прочитав работу Корака, написал: “Сыновья крыс будут рыть ходы, не более… Рождение определяет класс”. “Гэтсби” уже не считали историей человека, всего добившегося самостоятельно. Блогер писал: “Банды делают что хотят, крестьяне бросают землю, устремляясь в большие города на побережье, село вымирает. Деньги заменяют мораль… Вот с чем сталкивается современный Китай”.
В апреле 2012 года мой телефон зажужжал: “Веб-сайтам не следует упоминать о подготовленном ООН ‘Докладе о счастье в мире’, где Китай оказался на 112-м месте”.
Я вернулся от Майкла в Пекин ясным зимним днем и решил прокатиться на велосипеде. Я проехал по проспекту Чанъань. Повернул направо, а после снова направился на север и миновал Отдел.
За годы, прошедшие с тех пор, как я впервые заметил это здание под нелепой крышей, поиск истины усилился, так что Отделу пришлось приноравливаться к обстоятельствам. Отдел помог партии выстоять во время финансового кризиса и заглушить голоса в поддержку “Арабской весны”. Партия упрятала за решетку Лю Сяобо и Ай Вэйвэя, осадила Хань Ханя, пожелавшего издавать собственный журнал. Даже правдоискательница Ху Шули – тот “дятел”, который хотел “помочь дереву расти прямо”, – перешла границы дозволенного. Главного цензора Лю Биньцзе той весной попросили оценить свою работу в предыдущие шесть лет. “Если говорить объективно, – ответил Лю, – она была выдающейся”.
Его уверенность меня удивила. В Китае государственные дела всегда держали в тайне от общества и раскрывали только задним числом. Теперь сделки, распри, грехи оказались на виду. Люди смогли сравнить, действительно ли ценности системы соответствуют их собственным. К 2012 году в Китае число пользователей интернета росло каждые две секунды – и все же вне Сети жила едва ли не половина населения страны. Прежде чем отправиться в тюрьму, Лю Сяобо напомнил: “Хартия-77” была составлена более чем за десятилетие до того, как политическая система изменилась в направлении, предсказанном диссидентами. По мнению Вацлава Гавела, ключевым в жизни под властью компартии было двоемыслие, диктуемое страхом, выгодой или тем и другим одновременно. Но в какой-то момент вести двойную жизнь становится невозможно.
Осознание китайцами неравенства было неизбежным. Неравенство присутствует, разумеется, во многих странах, включая нашу собственную, но в Китае оно ощущалось особенно сильно. Нация лишь на одно поколение отошла от жертв во имя эгалитаризма. Кроме того, становился ясным зазор между мифом об обществе, управляемом лучшими его представителями, и олигархической реальностью. В 2012 году политологи Виктор Ши, Кристофер Адольф и Минсин Лю бросили вызов одному из главных предрассудков: партия утверждала, что ее приверженность прогрессу – “единственной правде” по Дэну – поощряла меритократию. Но исследователи не обнаружили доказательств этого: чиновников с заслугами перед национальной экономикой вознаграждали не чаще прочих. Значение имели связи.
По мере того как партийный контроль над информацией ослабевал, та же судьба ждала ее моральный авторитет. Людей вроде Тан Цзе поиск истины не мог избавить от скепсиса. Напротив, он вел к более сложным вопросам о том, кем они хотят быть и кому хотят верить. Летом 2012 года люди обнаружили, что цензурой заблокировано еще одно слово. Только что прошла годовщина событий на площади Тяньаньмэнь, и люди обсуждали их, называя словом “правда” (чжэнъсян). Когда об этом узнали цензоры, поисковик “Вэйбо” стал выдавать предупреждение:
Результаты поиска по запросу “правда” не могут быть показаны, поскольку они могут нарушать соответствующее законодательство.
Вера
Духовная пустота
“Лихорадка значков с Мао” поразила Китай летом 1966 года. Шанхайская фабрика выпустила алюминиевый значок полтора сантиметра в диаметре, с лицом Председателя. Начиналась Кульурная революция, и значки получили оглушительный успех. Через несколько недель их делали повсюду. Мужчины, женщины и дети носили их слева, чтобы доказать свою преданность. И чем больше было значков, тем лучше.
Председателя изображали смотрящим прямо или влево, но никогда вправо – это направление ассоциировалось с контрреволюцией. Были значки, светящиеся в темноте, и значки, сделанные из обшивки самолетов США, сбитых во Вьетнаме. Надписи прославляли “Мессию рабочих”, “Великого спасителя” и “Красное солнце”.
Культурная революция была последним шагом Мао к власти. После катастрофы Большого скачка оппоненты оттеснили его от власти, и Мао призвал молодежь “открыть огонь по штабам”. Это придало его образу новые черты. “Пусть мысль Мао Цзэдуна контролирует все”, провозгласили СМИ. Люди каялись в грехах у подножия его статуй. “Маленькую красную книжицу” цитат Мао наделили мистической силой: пресса сообщила, что книга помогла хирургам удалить пятидесятикилограммовую опухоль, а рабочим – поднять на сантиметр тонущий Шанхай.
Прикосновение Мао обрело сверхъестественный смысл. В 1968 году, когда пакистанская делегация привезла Мао корзину манго, он раздал фрукты рабочим. Те рыдали и помещали фрукты на алтари. Огромные очереди выстраивались, чтобы поклониться фрукту. Один плод привезли в Шанхай на самолете, чтобы его смогли увидеть здешние рабочие. Ван Сяопин вспоминала: “Никто не знал, что такое манго. Знающие люди говорили, что это очень редкий фрукт, вроде гриба бессмертия”. Когда плоды испортились, их стали консервировать в формальдегиде и копировать в гипсе. Одного деревенского дантиста, сравнившего манго с бататом, судили за клевету и казнили.
В этот момент Мао начал превращаться в бога, а его последователи взялись разрушать фундамент старых китайских верований. Карл Маркс называл религию “иллюзорным счастьем”, несовместимым с борьбой за социализм, и “Жэньминь жибао” призывала молодежь “покончить с четырьмя пережитками”: обычаями, культурой, привычками и идеями. Хунвэйбины жгли храмы и ломали храмовую утварь. Винсент Госсарт и Дэвид Палмер назвали эту кампанию “самым полным в китайской, а, возможно, и в человеческой истории уничтожением всех форм религиозной жизни”. Культ Мао отчасти заместил уничтожаемую религию. Его “Маленькую красную книжицу” считали “зеркалом, позволяющим видеть демонов” и распознавать скрытого “классового врага”. В двух провинциях дошло даже до каннибализма: тела “классовых врагов” расчленили, а их органы сообща съели.
К 1969 году культ Мао вышел из-под контроля. Число жертв росло, храмы лежали в руинах, а значков изготовили так много (от двух до пяти миллиардов), что алюминия перестало хватать даже промышленности. Мао прекратил это безумие, заявив, что металл нужен, “чтобы строить самолеты для защиты нации”.
После смерти Председателя в 1976 году коллекционеры и спекулянты увидели возможность заработать и принялись скупать значки. Торговля была столь прибыльной, что рынок наводнили подделки. Талисманы превратились в обыденные вещи: значки с Мао попадались мне на пекинских блошиных рынках. В интернете фабрики продают их оптом по семь центов штука.
Культурная революция Мао покончила со старыми верованиями, и экономическая революция Дэна не смогла их возродить. Стремление к богатству освободило людей от лишений, однако не могло указать предназначение нации и личности. Теперь компартия руководила страной дикого капитализма, взяточничества и невообразимого неравенства. Стремясь вперед, Китай преодолел барьеры, которые сдерживали коррупцию и моральное падение. Возникла “духовная пустота” (цзиншэнь кунсю), и ее что-то должно было заполнить.
Зимой 2010 года мы переехали в небольшой кирпичный дом в хутуне Гуосюэ – Аллее изучения нации. Это было очень громкое название для тупика настолько узкого и извилистого, что две машины не могли там разъехаться. Весной, когда люди начинали играть в карты на тенистой стороне улицы, проезд еще более сужался.
Окруженная шумными улицами, находящаяся к северу от Запретного города Аллея изучения нации являла собой осколок старого Пекина. Уцелела она потому, что была защищена двумя сокровищами: комплексом Юнхэгун (это самый большой в Пекине тибетский монастырь) и семисотлетним Храмом Конфуция. Здесь наблюдается самая высокая в городе концентрация предсказателей будущего. Вместе с монастырем и храмом прорицатели делают этот район самым духовно богатым в столице местом. Это рынок – но рынок не провианта, а верований.
Своим названием наш хутун был обязан местоположению: “изучение нации” означало смесь философии, истории и политики в сердце китайской культуры. Уточнять, какую именно историю и какие идеи следует изучать, было рискованно, однако поколения китайских мыслителей мечтали найти надежный рецепт защиты Китая от вестернизации. Лян Цичао, ведущий интеллектуал начала XX века, призывал уделить особое внимание “квинтэссенции страны”, и в последние годы китайские лидеры, следуя его заветам, пытались связать пережитки социализма с древней культурой. Их беспокоило распространение западных политических ценностей, и, подобно Тан Цзе, они обратились к классическому наследию. Появился баннер, объявляющий наш район “Святой землей изучения нации”.
Здесь не было магазинов, баров и ресторанов. Наша улица находилась всего в ста метрах от проспекта Юнхэгун Дацзе, но тупик и старые дома создавали ощущение деревни, окруженной девятнадцатимиллионным городом. Один сосед держал петуха, чтобы тот будил его на рассвете. Другой делал зарядку в утренней прохладе. Мы жили очень близко друг к другу. Сидя за своим рабочим столом, я слышал, как моя соседка, вдова Цзинь Баочжу, ежевечерне, в 18.00, разжигала печь. В 18.05 начинало шипеть масло, а в 18.15 ужин был готов.
Жизнь на нашей улице обладала прелестью непредсказуемости. На китайский Новый год сосед пригласил нас на фейерверк, который, честно говоря, не был законным. Ракета опрокинулась и выстрелила в толпу. Через два месяца госпожа Цзинь решила перестроить дом, чтобы получить несколько дополнительных квадратных метров. Я не возражал, потому что дом у нее был крошечным, а вот мой домовладелец запротестовал. Он обвинил ее в “похищении солнечного света” и подал иск. Они не могли прийти к согласию по поводу того, кто чем владеет, отчасти и потому, что во время Культурной революции люди зачастую отбирали друг у друга имущество.
Неподалеку от моей входной двери помещался стенд “антикультистских предупреждений и просвещения”. Большие иероглифы сверху гласили: ‘‘Остерегайтесь культов! Поддерживайте гармонию”. При такой духовной активности в районе власти, опасаясь конкуренции, приглядывали за ним. В 90-х годах, когда движение “Фалуньгун” потребовало себе больше прав, компартия объявила его “культом” и устроила на его приверженцев охоту, которая продолжается до сих пор. Одна из листовок на стенде называлась: “Крушение планов ‘Фалуньгун’ посеять смуту и вызвать разрушения”. В тексте говорилось, что “культы” “пользуются компьютерными сетями для распространения слухов, которые обращают порядок в хаос”. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из моих соседей собирался присоединиться к “культу”, но если бы услышал, листовка советовала: “Не слушайте, не читайте, не распространяйте и не вступайте”.
Иностранцы нередко воспринимают китайцев как прожженных прагматиков, однако тысячи лет страна держалась на верованиях и ритуалах. Когда-то в Пекине было больше храмов, чем в любом другом городе Азии. Процветали даосизм и буддизм, а также местные культы: ученые поклонялись богу литературы, больные – богу ревматизма, а артиллеристы – богу пушек. Преодолевая тысячи километров, в Пекин шли паломники, и некоторые из них простирались на земле после каждого шага, подобно гусеницам.
После Культурной революции ученым постепенно разрешили переосмыслить взгляд Маркса на религию как на “опиум народа”, и они стали утверждать, что это относилось лишь к Германии того времени, а не к религии вообще. Китай искал счастья в материальном, однако люди обнаружили, что достаток способен удовлетворить лишь базовые потребности. На экзистенциальные вопросы (о саморазвитии, смысле жизни и тому подобном) деньги ответов не давали. Патриотизм – также. Харуки Мураками писал, что национализм подобен дешевому алкоголю:
От него пьянеешь уже после нескольких рюмок и впадаешь в истерику, но после этого пьяного буйства не остается ничего, кроме ужасной головной боли на следующее утро.
К тому времени, как мы поселились в хутуне, “духовная пустота” стала наполняться, как говорилось в одном исследовании, “религиозной вселенной, расширяющейся во всех направлениях”. Люди не доверяли привычным институтам: партия лицемерила, пресса была поражена коррупцией и испорчена цензурой, а в крупных компаниях процветали патронаж и непотизм. Люди искали веру в других местах. В бедных провинциях открывались храмы, окормляющие смесью даосизма, буддизма и народных верований. В Китае появилось шестьдесят-восемьдесят миллионов христиан – почти столько же, сколько коммунистов. Я встречал судей-пятидесятников и магнатов-бахаистов.
Растерявшись от такого широкого выбора, люди ударились в религиозный загул: каждую весну перед школьными экзаменами родители устремлялись в Юнхэгун, чтобы помолиться о хороших оценках. Потом они переходили через дорогу, в Храм Конфуция. Некоторые – на всякий случай – заглядывали еще и в католический костел.
Некоторые из быстро растущих ассоциаций смешивали религию, бизнес и саморазвитие. Однажды я побывал на встрече организации “Лучший человек”. Она объединяла деятельных мужчин и женщин, продававших “вдохновляющие” товары, которые “помогают познать свою психологию”. Местные газеты задавались вопросом, что именно изобрела ассоциация – собственную программу “духовного маркетинга” или собственную “религию”. В конце концов власти закрыли “Лучшего человека”, а основатели ассоциации отправились за решетку, как сообщалось, за неуплату налогов.
Годами я следил за судьбой тех, кто выбрался из нищеты и устремился к преуспеванию. Я ездил по стране, чтобы встретиться с борцами за правду того или иного толка. Но чем дольше я оставался в Китае, тем больше занимала меня самая трудноуловимая из проблем – проблема поиска смысла. В последние сто лет китайской истории попытка ответить на вопрос, во что верить, всегда могла обернуться конфликтом. Я хотел знать, как живут те, кто пытается понять, что в жизни главное. Искать долго мне не пришлось. В книжных магазинчиках по соседству нашлись “Путеводитель для души” и “Для чего мы живем?” Оказалось, что путей много, а ответов на поставленный в заголовке книги вопрос – еще больше.
На западе Аллеи изучения нации стоит храм Юнхэгун – впечатляющий комплекс ярких павильонов из дерева и камня, окутанных дымом благовоний. Это был один из главных тибетских монастырей в мире и, по мнению китайских властей, одно из самых подозрительных мест в городе. В прежние времена Пекину не был чужд тибетский буддизм. Императоры держали в столице тысячи монахов, молящихся о защите империи. Но далай-лама покинул Китай в 1959 году, после того как отказался признать притязания КПК на свою родину, и ушел через горы в Индию. В изгнании он получил Нобелевскую премию мира и помог сделать тибетцев, по словам его друга Роберта Турмана, профессора Колумбийского университета и бывшего монаха, “бельками для правозащитного движения”. Если Иоанн Павел II был символом противостояния советской империи, то далай-лама олицетворяет собой сопротивление Китаю. После восстания в Тибете весной 2008 года китайские лидеры обвинили далай-ламу в подстрекательстве и назвали “волком в монашеских одеждах”, желающим “разделить родину”.
В храме всегда находились милиционеры в форме и в штатском. Это было занятно, поскольку большинство его посетителей составляли вовсе не тибетцы: это были процветающие молодые китайские пары, приходившие помолиться о рождении здорового ребенка. Для многих Тибет, обладающий очарованием китайского Дикого Запада, стал модным местом, ассоциирующимся с духовностью и резким индивидуализмом. “В Тибете, – объяснил мне молодой китайский рок-музыкант, – я могу быть свободен”.
Я знал некоторое количество ханьцев – приверженцев тибетского буддизма, включая инвестора по имени Линь, который носил буддийские четки на одном запястье и швейцарские часы – на другом. Он старался примирить свою веру с официальными предостережениями насчет далай-ламы: “Когда я учился у своих тибетских наставников, я спрашивал: “Вы китайцы или тибетцы? Вы собираетесь купить на мои деньги оружие?’” Линь увлекался психологией и духовными практиками, а тибетский вариант буддизма выбрал потому, что тот показался ему чище китайского, много перенявшего у даосизма и других традиций. О далай-ламе Линь говорил: “Он написал около шестидесяти книг, и я прочитал штук тридцать из них”.
Мы сидели в уличном кафе в Пекине, и присоединившийся к нам друг Линя – ресторатор, который оказался членом компартии, – издал театральный вздох: “Ты смелый человек, если говоришь такое”. Линь закатил глаза. Мне показалось, что он наслаждается собственной дерзостью. “Я думаю, что далай-лама на самом деле не сепаратист, – сказал Линь. – Если бы он был сепаратистом, Тибет был бы уже свободен”.
Во все стороны от храма Юнхэгун расходились ряды лавок, занятых консультантами по фэншуй, слепыми предсказателями и “дарителями имен”, которые могли, за сходную цену, выбрать благоприятное имя для ребенка или фирмы. После десятилетий подпольного существования предсказатели судьбы работали в открытую – и процветали. Успех в Китае настолько зависел от загадочных сил, неявных связей и тайных сделок, что люди были рады искать божественной поддержки.
Предсказатели рекламировали свои услуги: “Предсказываю политическое и финансовое будущее. Оцениваю шансы на брак. Улучшаю результаты вступительных экзаменов”. Наиболее сложные процедуры следовало заказывать специально, к примеру, “снятие заговоров”. Лавка предсказателя Шан Дегана напомнила мне кабинет акушера, только вместо фотографий детей она была увешана снимками довольных клиентов. “Вот эта молодая женщина, Пэн Юань, была никем, когда приехала в Пекин, – рассказал мне как-то Шан, ткнув в снимок румяной улыбающейся женщины. – Теперь она косметолог и дружит со многими известными людьми”. На фотографии она держала плоский зеленый предмет: “Я сделал ей нефритовую табличку, и это принесло удачу”.
В кабинете мастера Шана стояли не очень старые книги, вроде “Фэншуй для Уолл-стрита”, а манипуляции основывались на даосизме, буддизме и отчасти мошенничестве. Но процветал Шан главным образом благодаря истории: он считал себя потомком древнего полководца Шан Кэси и держал на столе толстый, сантиметров в десять, альбом с генеалогическим древом Шанов. Это вдохновляло посетителей: многие такие книги погибли во время Культурной революции. Клиенты, не знавшие историю собственной семьи, находили некоторое утешение в информации о семье Шана. Его вывеска обещала “сверхъестественные услуги, некогда доступные лишь высшему классу”.
Несмотря на все усилия Мао, народные верования влияли на все сферы жизни. В первую осень после переезда я услышал скрежет когтей: на чердаке над моей головой копошилось какое-то существо. Поначалу я не придал этому значения, но несколько недель спустя в моем кабинете стало явственно попахивать зоопарком. Однажды ночью я увидел в окно зверька со светлым мехом, прыгнувшего с дерева и исчезнувшего в дыре на моей крыше. Я рассказал об этом соседу Хуан Вэнъюю. Тот улыбнулся.
“Это ласка, – сказал он. – Вас ожидает счастье”. Появление ласки – знак неизбежного богатства (как и ежа, змеи, лисицы и крысы). Так как этих животных часто видят рядом с могилами, их считают носителями духов предков. “Не ссорьтесь с ней”, – посоветовал Хуан. Я рассказал о ласке домовладелице, тетушке Ма, и она строго сказала: “Не бейте ее. Никогда не бейте ласку”.
Когда запах над столом стал мешать работе, я пригласил дератизатора по имени Хань Чандун. Он ободряюще покивал:
– Это ласка. Вы очень счастливый человек!
– Но ведь вы убиваете животных!
Хань пожал плечами:
– Если ласка селится в доме, китайцы считают это хорошим знаком.
По мере того, как Пекин одевается в бетон, дикие животные уходят в хутуны в поисках дерева и соломы. Хань порылся в сумке: “В моем родном городе можно было бы просто совершить подношение богу богатства. Но здесь другая ситуация. Разберемся”. Он вынул коробку с крысиным ядом.
– Постойте, – сказал я. – Разве это хорошая идея – с точки зрения духовности?
Хань подумал и сказал:
– У вас-то все будет хорошо. Вы же иностранец, вы не верите во все это.
Я уже не был уверен. Но было поздно: Хань сыпал розовый яд в дыры на крыше. Он сказал, что на работу распространяется гарантия в один год с возвратом денег: “Если ласка вернется, позвоните”.
На потолке все затихло. Через две недели шебуршание, однако, возобновилось – громче, чем прежде. Запах был очень сильным (так пахнет месть, подумалось мне), но Ханю я звонить не стал. Я купил электрический вентилятор и научился жить с лаской над головой.
Никто из соседей не жил ближе к Храму Конфуция, чем я: он находился сразу за стеной нашей кухни. Святилище 1302 года постройки было одним из самых спокойных мест в городе. Комплекс с древними деревьями и высоким деревянным павильоном высился над нашим домом как совесть. По утрам я покупал чашку кофе и слушал звуки пробуждения: шуршание метлы по плитам двора, стрекот сорок над головой.
Маленьким чудом было уже то, что этот храм вообще выжил. Когда-то по всей стране действовали тысячи святилищ Конфуция. Философ и политик, родившийся в VI в. до н. э., занял в китайской истории место, сходное с местом Платона на Западе, отчасти потому, что его мировоззрение поощряло порядок и верность. “Да будет, – говорил Конфуций, – государем государь, слуга – слугой, отцом – отец и сыном – сын”[10]. Конфуций связывал мораль с мощью государства: “Правитель, положившийся на добродетель, подобен северной Полярной звезде, которая замерла на своем месте средь сонма обращающихся вкруг нее созвездий”. Мао, веровавший в перманентную революцию, в 1966 году предложил хунвэйбинам покончить с “четырьмя (старыми) пережитками”: обычаями, культурой, привычками и идеями. Хунвэйбины осквернили могилу мыслителя, на чьи идеи опирались “правые уклонисты”, “вредные элементы”, “чудовища” и так далее. Сотни святилищ были разрушены. К 80-м годам об учении Конфуция прозвучало столько клеветы, что историк Ю Инши назвал мудреца “неупокоенным призраком”.
Однажды утром (это было в сентябре 2010 года) я услышал, как в храме с хрипом включился динамик. За этим последовал гул большого колокола, потом раздался барабанный бой, звук флейты и голос чтеца, декламировавшего классику. Это представление длилось двадцать минут и повторилось час спустя, и еще через час, и на следующий день тоже. “Неупокоенный призрак” снова вытащили на свет. В 80-х годах, когда стало понятно, что надо чем-то заполнить “духовную пустоту”, партия занялась этим вопросом. Пролетарские ценности – революция, классовое сознание – теперь были бесполезны. “Правящей партии” требовалось связать славу древней цивилизации с растущей мощью КНР, ей нужна была мораль для “новой среднезажиточной страты”. В Сингапуре и на Тайване конфуцианство переживало возрождение, и в Пекине нашлись причины реабилитировать Конфуция. Он стал моральной иконой, связанной с “изучением нации”.
Правительство открыло по всему миру более четырехсот “Институтов Конфуция” для изучения китайского языка и истории. (Иностранные ученые жаловались, что “Институты Конфуция” отстаивают лишь взгляд китайского правительства на такие спорные вопросы, как положение Тибета или Тайваня.) Сторонники конфуцианского возрождения утверждали, что оно защитит Китай от западной “эгоистичной философии”, и сравнивали Цуфу, родной город Конфуция, с Иерусалимом. Неподалеку от пещеры, где, по преданию, родился мудрец, заложили музейно-парковый комплекс стоимостью полмиллиарда долларов и пообещали возвести статую почти столь же высокую, как Статуя свободы. В 2012 году Цуфу посетило 4,4 миллиона человек – больше, чем приезжает в Израиль. Китайская ассоциация изучения Конфуция взялась изобретать новые традиции (например, супружеским парам предлагают повторить свои брачные обеты перед статуей мудреца). Чтобы обновить имидж Конфуция, историки создали его “стандартизованный портрет”: скрестивший на груди руки добрый старик в халате.
Университеты открывали дорогостоящие курсы для предпринимателей, искавших в древних книгах “деловую мудрость”. Сайт “Изучение нации”, посвященный конфуцианской мысли, вышел на Шэньчжэньскую фондовую биржу. Некие предприимчивые конфуцианцы учредили Международный фестиваль Конфуция (спонсируемый идеологически верной виноторговой компанией). Тысячи паломников заполнили стадион в родном городе мудреца. Большие воздушные шары несли имена древних ученых, а корейская поп-звезда в нескромном наряде развлекала собравшихся рок-песнями.
Точно так же, как американские консерваторы в бо-х годах опирались на ожидание возвращения к морали и благородству, китайское возрождение эксплуатировало ностальгию по прошлому из сказаний о благородных рыцарях и добродетельных правителях, морально чистых и верных долгу. Молодые националисты вроде Тан Цзе посещали Храм Конфуция в халатах, как у древних ученых, и воспроизводили ритуалы, которые большинство китайцев давно забыло, если вообще когда-либо знало о них.
Конфуцианское возрождение нашло свой рынок. Самым неожиданным бестселлером последних лет стали лекции Ю Дань (телегеничного профессора теории массовых коммуникаций и партийного политконсультанта) о конфуцианстве. Ю писала: “Чтобы судить об истинной мощи и достатке страны, нельзя ограничиться рассмотрением лишь показателя ВНП. Нужно исследовать и внутренний опыт обычного человека: чувствует ли он себя в безопасности? Счастлив ли он?” Хотя скептики назвали это “конфуцианским куриным бульоном”, Ю стала вторым из самых высокооплачиваемых авторов в стране.
Через несколько дней после того, как я услышал звуки из храма, там затеяли празднование дня рождения Конфуция – впервые с момента прихода к власти коммунистов в 1949 году. Чиновники и ученые произносили речи, а группа детей читала наизусть выбранные места из “Бесед и суждений”. Я подумал было, что этим все и закончится, однако музыка продолжала играть, причем теперь регулярно: каждый час, с десяти до шести, семь дней в неделю, в дождь и в вёдро. Эхо носилось по Аллее изучения нации, и то, что сначала забавляло, стало превращаться в кошмар. “У меня все это в голове даже ночью, – пожаловался мне Хуан. – Будто я весь день провел в лодке”. Он подумал и просиял:
– Вы должны потребовать убавить громкость.
– Почему я?
– Вы же иностранец. Они к вам прислушаются.
Я не был уверен, что хочу привлекать внимание, жалуясь на самого известного философа Китая. Но мне было интересно увидеть шоу, и я отправился на встречу с заведующим храмом по имени У Чжию. Он оказался похожим на актера, играющего доброго отца в китайской мыльной опере: ему было пятьдесят с чем-то лет, у него было крупное обаятельное лицо, ямочки на щеках и звучный, странно знакомый голос. У провел большую часть жизни в гор-отделе пропаганды и обладал талантом маркетолога: “Это шоу привлекает людей из всех слоев общества – китайцев и иностранцев, мужчин и женщин, образованных и необразованных, искушенных и неискушенных зрителей”.
Я спросил, участвовал ли он сам в постановке. “Я главный режиссер! – сказал он с горящими глазами. – И декламация – моя собственная”.
У сказал, что хотя Конфуций давно мертв, на подготовку представления ему дали лишь месяц. Он пригласил композитора, танцоров из местного художественного училища, подобрал цитаты: “Нужны были нарастание действия и кульминация, все как в кино или в пьесе. Иначе не сработало бы”.
Мне показалось, что У наслаждается возможностью вывести Конфуция на сцену: “В средней школе я всегда был лидером отдела пропаганды ученического совета. Мне нравились декламация, музыка, искусство”. В свободное время У и сейчас участвовал в комедийных представлениях, китайской версии стендап-комедии. У него были планы на будущее: “Мы строим новое помещение, где будут керамические статуи семидесяти двух учеников. И нам понадобится больше света. Вот тогда, может быть, я скажу, что все готово”.
У посмотрел на часы: он хотел, чтобы я попал на трехчасовое шоу. На прощание он подарил мне книгу об истории храма.
Сцену с северной стороны павильона освещали прожекторы. Каждый танцевально-песенный номер, который представляли шестнадцать юношей и девушек в нарядах ученых, был озаглавлен фразой, которая получала радостную интерпретацию. “Счастье” основывалась на высказывании: “Удача кроется в неудаче; неудача кроется в удаче”, но в сценической версии зловещее окончание было опущено. Финал (“Гармония”), прокладывающий мост от Конфуция к компартии, повествовал о “гармоничной идеологии и гармоничном обществе древних, которые окажут положительное влияние на построение современного гармоничного общества”.
Я прочитал книгу, которую дал мне У. Там указывалось, кто какое дерево посадил здесь семьсот лет назад, а в разделе “Рассказы об элите” я нашел изложенные живым языком биографии людей, имевших отношение к этому месту Однако авторы книги стали подозрительно немногословны, когда добрались до событий 1905–1981 годов. В официальной истории храма большая часть XX века отсутствовала.
За время жизни в Китае я привык к пробелам в истории: они похожи на “ямы” в аудиозаписи, когда музыка внезапно пропадает, а потом продолжается как ни в чем не бывало. Некоторые из “склеек” были обусловлены тем, что партия запретила обсуждать Тяньаньмэнь или голод времен Большого скачка, потому что не отрекалась от них и не признавала за них ответственность, но и не задавалась вопросом, как предотвратить подобное в будущем. Долгое время китайцы облегчали государству решение проблемы забвения, и не только потому, что были бедны и налаживали свою жизнь, но и потому, что многие из них были жертвами в одних случаях и палачами – в других.
Нашлись и другие книги о храме. Они помогли заполнить пробелы. В первые недели Культурной революции приказ Мао об избавлении от “четырех пережитков” привел к агрессии. Ночью 23 августа 1966 года хунвэйбины вызвали к главным воротам Храма Конфуция Лао Шэ, одного из известнейших писателей Китая.
Ему было шестьдесят семь лет, и он был главной надеждой Китая на Нобелевскую премию по литературе. Лао Шэ вырос недалеко от храма – сын погибшего в бою императорского гвардейца. В 1924 году он отправился в Лондон и прожил там пять лет, живя рядом с Блумсбери и читая Конрада и Джойса. В романе “Рикша” (1939) он описал честного молодого человека, которого столкновение с несправедливостью превращает в “типичное порождение больного общества”. Лао Шэ стал для Пекина тем же, кем Виктор Гюго – для Парижа: выразителем духа города. Партия признала его “народным художником”. Он отказывался работать пропагандистом, однако охотно критиковал изгоняемых из партии коллег-писателей.
А потом он и сам стал мишенью. Хунвэйбины (в основном школьницы тринадцати-шестнадцати лет) проволокли его через ворота храма и заставили встать на колени вместе с другими неугодными писателями и художниками. Его осудили за связи с Западом. Хунвэйбины кричали: “Покончим с антипартийными элементами” и избивали стариков ремнями с тяжелыми бляхами. Из головы Лао Шэ текла кровь, но он оставался в сознании. Прошло три часа, прежде чем его привезли в отделение милиции. Оттуда его забрала жена.
На следующее утро Лао Шэ отправился на северо-запад от своего дома, к озеру Тайпинху. Он читал стихи и писал до заката. Потом снял рубашку и повесил ее на ветку. Набил карманы брюк камнями и вошел в воду.
Тело нашли на следующий день. Сына писателя, Шу И, вызвали, чтобы увезти его. Милиция нашла одежду, трость, очки, ручку, а также записи. Власти объявили, что своей смертью Лао Шэ “изолировал себя от народа”. Поскольку писатель умер “контрреволюционером”, его семье отказали в достойных похоронах.
Я заинтересовался судьбой Шу И. Ему сейчас должно было быть около шестидесяти – столько же было его отцу, когда тот погиб. Я навел справки и обнаружил, что Шу И живет в нескольких минутах ходьбы от моего дома. Он пригласил меня в гости.
Квартира была завалена книгами, свитками и картинами и слегка напоминала лавку предсказателя судьбы. Шу оказался седым человеком с полным, добрым лицом. Я спросил, что, по его мнению, подвигло его отца к смерти. Он ответил:
Трудно сказать наверняка, но, думаю, его смерть стала последним актом сопротивления… Много лет спустя я наткнулся на его статью “Поэты”, написанную в 1941 году… Он утверждал, что “поэты – странные люди. Когда все счастливы, поэты говорят мрачные вещи. Когда все печальны, поэты смеются и веселятся. Но когда нация в опасности, они должны топиться, и смерть их должна стать предупреждением”.
Жертва такого рода является китайской традицией. В III в. до и. э. поэт Цюй Юань утопился в знак протеста против коррупции. Шу И сказал: “Поступая так, они сражаются, сообщают другим, что есть истина”. Его отец, сказал Шу, “скорее сломался бы, чем согнулся”.
После визита к Шу И я пошел в храм к У Чжию и спросил его о последней ночи писателя. Он вздохнул: “Это правда. Во время Культурной революции здесь устраивали акты классовой борьбы. Лао Шэ пошел и утопился. Это исторический факт”. Я поинтересовался, почему в книге о храме нет упоминания об этом. Он попытался найти ответ, и я приготовился услышать что-нибудь идеологически выдержанное. Однако У произнес нечто удивительное: “Это слишком печально… Людям становится грустно от этого. Я думаю, лучше не включать это в книги. Это факт, это история, но это не связано с храмом. Это связано со временем”.
Я понял его, но мысль эта показалась мне неполной. Нападение на Лао Шэ в Храме Конфуция не было случайным. Это было место обучения, истории. Десятилетия спустя партия и народ так и не восстановили того, что было тогда утеряно. Если бы кто-нибудь захотел сейчас найти место, где окончил свои дни лучший бытописатель Пекина, он не смог бы этого сделать: озеро Тайпинху осушили при строительстве метрополитена. Я всегда поражался, сколь со многим китайцы смогли смириться: с революцией, войной, бедностью, беспокойным настоящим. Однажды я спросил восьмидесятивосьмилетнюю мать своего соседа Хуан Вэнъюя (они жили через дверь от нас), есть ли у нее старые семейные фотографии. Она ответила: “Сгорели во время Культурной революции”. И рассмеялась особенным, пустым смехом, какой у китайцев припасен для страшных воспоминаний.
Ежедневно группы госслужащих и студентов приходили в храм на экскурсию или на шоу. Однажды я наблюдал за девушкой-гидом, встречающей группу женщин средних лет. Она держала руки вытянутыми перед собой: “Этот жест выражает уважение к Конфуцию”. Подопечные старательно ей подражали. Кажется, для многих жителей Китая пробелы в истории сделали Конфуция незнакомцем.
В этом вакууме кое-кто пытался приспособить философа для политических целей. После того как Лю Сяо-бо получил Нобелевскую премию мира, группа китайских националистов учредила “Конфуцианскую премию мира” и на следующий год наградила ею Владимира Путина за ‘‘безопасность и стабильность” в России. Группа конфуцианских исследователей осудила план строительства большой христианской церкви в родном городе Конфуция: “Мы требуем, чтобы вы уважали священную землю китайской культуры”.
Других этот новый Конфуций стал настораживать. Упор на гармонию не оставлял места для переговоров, для честной конкуренции идей. Ли Лин, историк из Пекинского университета, выбрал своей мишенью “фальшивого Конфуция”:
Настоящий Конфуций… не был ни мудрецом, ни правителем… У него не было ни власти, ни положения – лишь мораль и учение, – и все же он решился критиковать правящую элиту. Он путешествовал по стране, рассказывая о своем мировоззрении, используя свой ум, чтобы помочь правителям решить проблемы, пытаясь убедить их оставить путь порока и стать добродетельнее… Он был измучен, одержим и готов скитаться, как собака, а не как мудрец, распространяя свои идеи. Таким был настоящий Конфуций.
Конфуцианцы назвали Ли “сумасшедшим пророком”. Одним из его защитников стал Лю Сяобо. Прежде чем отправиться в тюрьму, Лю предостерег об опасности того, что “конфуцианство будет поощряться, а все остальные школы запретят”. По мнению Лю, вместо того чтобы цитировать Конфуция, интеллектуалы должны отстаивать независимость мысли и автономию личности.
Китайцы приезжали в Святую землю изучения нации в поисках своего рода морального наследия. Но это редко прекращало их поиски. Партия, чтобы держать прошлое в узде, окарикатурила Конфуция. Поколения китайцев выросли на отрицании этических и философских традиций, а теперь партия внезапно принялась возрождать их, причем без всяких объяснений. Район, посвященный защите ‘‘сущности страны”, казалось, демонстрировал, что единой ‘‘сущности” больше нет.
Замечались признаки того, что не только либеральные интеллектуалы теряют терпение от навязывания Конфуция. В январе 2011 года гигантская статуя мудреца появилась рядом с площадью Тяньаньмэнь. Это первая постройка на знаковом месте со времени возведения мавзолея Мао поколение назад. Философы и политологи принялись гадать, означает ли это перемену партийной платформы. Однако потом статуя исчезла. Три месяца спустя глубокой ночью статую перевезли в музейный двор. Почему? Это осталось загадкой. Люди стали шутить, что Конфуция, учителя из провинции Шаньдун, задержали в столице из-за отсутствия прописки.
Посторонние
В жизни каждой страны бывают моменты, когда люди останавливаются, оценивают свои поступки и задумываются, не сбились ли они с пути. Для китайцев один из таких моментов пришелся на полдень 13 октября 2011 года в южном городе Фошань. Это торговый город с огромными рынками под открытым небом: “Мир железа и стали”, “Мир цветов и растений”, “Город детской одежды” (на последнем ежегодно продавали вещей столько, чтобы дважды одеть всех детей Америки).
Один из крупнейших рынков – “Город техники” – имел постоянное тридцатитысячное население. В этом лабиринте из лавок и лавочек площадью четыреста гектаров под лоскутной крышей из жести и пластика, погружающей рынок в вечные сумерки, торговали незаменимыми в строительстве стальными цепями, электроинструментами, бочками химикатов и катушками электрического кабеля толщиной в запястье. В “Городе техники” пахло опилками и дизельным топливом. Рынок рос так быстро и беспорядочно, что здесь легко было потеряться.
После двух часов дня продавщица Цу Фэйфэй забрала дочь из яслей за несколько кварталов и вернулась с ней домой в “Город техники”. Цу была невероятно заботливой матерью: она тратила на одежду для ребенка в четыре раза больше, чем для себя. Они с мужем владели магазинчиком “Счастливая мельница шарикоподшипников, приносящая богатство” и жили с детьми семи и двух лет в комнатке над ним. Высота потолка в этом сумрачном помещении, переделанном из склада, едва позволяла выпрямиться взрослому человеку.
Тридцатилетний Ван Чичан, супруг Цу (большие широко расставленные глаза и челка ниже бровей), работал в “Городе техники” восемь лет. Ван происходил из уезда в провинции Шаньдун, некогда известного своими персиками и грушами, а теперь производящим в основном химикаты. Ван изучал в техникуме животноводство, а после решил попытать удачу в Пекине. В столице он работал на стройке и в зоомагазине. Наконец судьба привела его в “Город техники”. После свадьбы Цу родила мальчика – Ван Шуо, “Ван Ученый”. Потом она родила девочку, и семье пришлось выплатить штраф. Ван Юэ все называли Малышкой Юэюэ, “радость”. В два года она была не по годам развитой, легко повторяла слова из мультипликационной программы “Умный тигр” и играла в кухню, пока родители готовили настоящий обед. Когда мать и дочь вернулись домой в тот день, Цу пошла наверх, чтобы снять белье, а Ван Юэ осталась играть внизу. Когда мать вернулась, дочка пропала. В этом не было ничего необычного – она часто обходила соседей, – и Цу отправилась ее искать. Когда наступили сумерки, по крыше рынка забарабанил дождь.
За несколько кварталов оттуда молодой продавец Ху Цзюнь заканчивал свои дела. Как и в семье Ванов, у Ху и его жены была маленькая дочь и магазин шарикоподшипников. Они тоже приехали из провинции Шаньдун, но рынок был столь велик, что семьи не были знакомы. Ху сел в маленький микроавтобус-“буханку” и стал лавировать по переполненным людьми переходам. Он должен был забрать плату в незнакомой части “Города техники” и внимательно следил за вывесками.
Малышка Юэюэ не пошла к соседям. Она выбралась за порог и вскоре оказалась в двух с половиной кварталах от дома. Она ковыляла вдоль гор товара у обочины, столь же высоких, как она сама. Чтобы привлечь посетителей, магазины, выходившие на “улицы” рынка, выставляли товар снаружи, хотя это и загромождало дорогу. Девочка в темной рубашке и розовых брюках миновала магазин на углу, где старый компьютерный монитор показывал под шестнадцатью углами запись камер наружного наблюдения. В 17.25 Малышка Юэюэ оглянулась через плечо и еще успела увидеть приближающийся микроавтобус. Ху Цзюнь почувствовал легкий толчок – настолько легкий, что он решил: под колеса попал мешок тряпья или картонная коробка. Он не остановился.
Малышку Юэюэ переехало дважды: сначала переднее колесо, потом заднее. Она осталась лежать за грудами товара и почти не шевелилась. Через двадцать секунд к ней подошел мужчина в белой рубашке и темных брюках. Он взглянул на ребенка, остановился… и отправился по своим делам. Еще через пять секунд проехал мотоциклист. Он обернулся, но даже не притормозил. Через десять секунд прошел другой мужчина. Через девять секунд появился микроавтобус – и тоже переехал Малышку Юэюэ.
Люди двигались мимо: некто в синем плаще, мотоциклист в черной футболке, рабочий, грузивший товар на перекрестке. Мужчина на мотоцикле посмотрел на нее и сказал что-то владельцу магазина, прежде чем оба в спешке удалились. Через четыре минуты после наезда (одиннадцатой) прошла женщина, ведущая за руку маленькую девочку Она владела магазином поблизости и тоже забрала дочь из школы. Она остановилась, спросила лавочника о ребенке на дороге и убежала, уводя дочь. Все продолжили свой путь: мотоциклист, пешеход и рабочий из магазина на углу.
В 17.31, через семь минут после того, как девочку сбили, подошла невысокая женщина – восемнадцатая – с пакетами пустых банок и бутылок. И остановилась. Она бросила пакеты и попыталась поднять Малышку Юэюэ. Ребенок застонал, а его тело обвисло. Эта пожилая женщина, Чэнь Сяньмэй, была неграмотной и, чтобы заработать на жизнь, сдавала мусор и металлолом. Она оттащила девочку к тротуару и огляделась. Она подошла к ближайшему продавцу, но тот был занят. Другой сказал: “Это не мой ребенок”. Чэнь бросилась в другой квартал и там встретила Цу Фэй-фэй, искавшую дочь. Мать подняла Малышку Юэюэ и побежала домой.
В Китае машин скорой помощи мало, поэтому родители положили дочь в маленький семейный “Бьюик”. В больнице Хуанци, куда они добрались через пятнадцать минут, медсестры в розовой униформе управлялись с потоком пациентов. Приемная была чистой и просторной, но таблички на стенах предупреждали об опасностях системы здравоохранения. Одно объявление советовало не пытаться подкупить доктора, чтобы получить лучший уход; другое оберегало от “похитителей приемов”. Там говорилось: “Если незнакомец утверждает, что близко знаком со специалистом, и пытается увести вас из больницы, не верьте”.
Врачи обнаружили, что у Юэ расколот череп и серьезно поврежден мозг. Сначала журналисты сочли это происшествие заурядным, но после увидели видеозапись. Сюжет о семнадцати прошедших мимо людях стал распространяться и вызвал поток самообвинений. Писатель Чжан Лицзя спрашивал: “Как мы, нация 1,4 миллиарда холодных сердец, можем претендовать на уважение и на роль мирового лидера?” Видеозапись постоянно повторяли по телевидению и в интернете, как моралите об очерствении в большом городе. Для многих этот случай кристаллизовал ощущение, что великое соревнование оставляет самых уязвимых людей Китая за бортом. Он распечатал колодец коллективной вины – за младенцев, заболевших от отравленного молока, за погибших в школах детей, а также за равнодушие к незнакомцам. Незадолго до этого газеты сообщили о смерти восьмидесятивосьмилетнего мужчины, который упал в продуктовом магазине и захлебнулся кровью, потому что никто не помог ему перевернуться.
Журналисты собирали детали картины. Владелец “Нового китайского оптового магазина охранного оборудования”, что на углу, заявил, что он занимался бумагами, а его жена – приготовлением обеда: “Я слышал плач ребенка, но только секунду или две, а потом все стихло. Я даже не задумался об этом”. Журналисты нашли человека на красном мотоцикле с коляской, но он сказал только: “Я не заметил ее” и повторил это десять раз. В Сети люди очистили запись и опознали владельца магазина водопроводного оборудования. Он вышел из своего магазина на углу, посмотрел на тельце и юркнул обратно. Он утверждал, что не заметил раненого ребенка, но люди назвали его “бессовестным” и испортили его сайт. В то же время они подняли шум вокруг сборщицы мусора, которая остановилась помочь. Журналисты снова и снова спрашивали ее, почему она вмешалась. Этот вопрос ставил женщину в тупик. После того, как репортеры ушли, она обратилась к невестке: “Что странного в том, чтобы помочь ребенку?”
Китайцы считали себя народом, обладающим жэнь – “гуманностью”, “человеколюбием”. Эта идея лежит в основе китайской морали точно так же, как на Западе – принцип “поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой”. Впрочем, в последние годы детей в Китае учат и менее вдохновляющим концепциям вроде цзуо хаоши бэй э – “сделать хорошее и быть при этом обманутым”. Этот страх имел собственный словарь, где встречались настолько узкие понятия, как пэнцир – человек, который “обвиняет в повреждении фарфорового предмета, который уже был разбит”.
Многие китайцы ощущают себя на цветущем острове, окруженном коварными течениями: оставайся на твердой земле, и жизнь будет безопасной и благополучной; но если хоть на мгновение потеряешь опору, мир рухнет. Их так мало отделяло от бед, что казалось необходимым постоянно защищаться. Моя подруга Фэй Ли, журналистка, рассказала, что ее отец, учитель физики, однажды ехал на велосипеде, и его сбила машина. Он поднялся и уехал оттуда как можно скорее; только дома он понял, что именно онстал жертвой. Мужчина был убежден, что кто-то попытается воспользоваться ситуацией. Обвинения взамен помощи другому – этот сюжет все чаще попадал в газеты. В ноябре 2006 года в Нанкине пожилая женщина упала на автобусной остановке, и молодой человек по имени Пэн Юй остановился, чтобы помочь ей добраться до больницы. Придя в себя, она обвинила растерянного Пэна в своем падении, и судья заставил его выплатить более семи тысяч долларов. Приговор опирался не на доказательства, а на “логику”: Пэн никогда бы не помог, если не испытывал бы чувство вины.
Этот приговор стал сенсацией. Чем сильнее я интересовался судьбой Малышки Юэюэ, тем чаще встреченные мною китайцы говорили о “деле Пэн Юя”. Люди рассказывали похожие истории, и мораль была всегда одна: можно лишиться даже того немногого, чего вы достигли. После того, как молодого человека по имени Чэнь ложно обвинили в причинении вреда велосипедисту, он сказал журналистам: “Не думаю, что стану кому-нибудь помогать в такой ситуации”.
Хотя шанс быть обманутым и невелик, в обществе росли опасения. Люди чувствовали, что стремление к успеху размывает традиционную этику. И чем хуже они думали о других, тем меньше были готовы прийти на помощь. Чжоу Жунань, антрополог, изучавший жизнь “Города техники”, рассказал мне, что никто так не опасается быть обманутыми, как мигранты вдали от дома:
В Америке личность – это основа гражданского общества, а в Китае коллектив распадается, и пока нет ничего, что может его заменить… Когда вы приезжаете на новое место, вы заботитесь о себе, устраиваете жизнь собственной семьи – своей жены, своего мужа, своего ребенка, – и другие становятся не так важны… Ваше сознание разделяется.
Китайская пресса с готовностью подхватила мнение, что такие случаи демонстрируют отчужденность людей в больших городах. “Бессердечие случайного свидетеля – не только китайская проблема”, – оправдывалась газета “Глобал таймс”. “Жэньминь жибао” сочла его “неизбежным спутником урбанизации”. И все же чем больше я узнавал о деле Малышки Юэюэ, тем менее меня устраивали эти объяснения.
Первыми заподозрили урбанизацию в размывании морали вовсе не китайцы. В 1964 году американцев потрясло убийство в Нью-Йорке двадцативосьмилетней Китти Дженовезе. “Нью-Йорк таймс” сообщала: “Более получаса тридцать восемь уважаемых, законопослушных жителей Куинса смотрели, как убийца преследует и убивает женщину ножом”, но никто из них не позвонил в полицию и не пришел ей на помощь. Америка приняла эту историю близко к сердцу, потому что она отвечала ее страху превращения в безучастное общество. “Синдром Дженовезе” вошел в учебники социальной психологии.
Правда, годы спустя, когда ученые вернулись к показаниям свидетелей и материалам дела, они обнаружили, что всего трое или четверо из слышавших крик женщины поняли, что происходит, а по меньшей мере один свидетель позвонил в полицию, однако та опоздала. (История о тридцати восьми безучастных свидетелях была упомянута в разговоре с репортером, причем, что характерно, упомянута представителем полиции.) В случае Малышки Юэюэ апатия могла быть не единственным объяснением того, почему люди не решились помочь. Антрополог Янь Юньсян изучил двадцать шесть историй “добрых самаритян”, которые стали жертвами вымогательства в Китае, и обнаружил, что в каждом случае милиция и суды обращались с доброхотами как с виновными, пока не было доказано иное. Ни в одном из двадцати шести случаев вымогателю не потребовалось предоставить свидетеля, и ни один вымогатель не был наказан – даже после того, как невиновного оправдывали.
В годы бума у китайцев нашлось много причин бояться закона. Нет ничего удивительного в том, что люди, выросшие во времена, когда должности в правоохранительных органах отдавались за взятку, а судей было легко подкупить, стали подозрительными. В 2008 году ученый Ван Чжэнсю отметил “крайне низкий уровень доверия граждан, выросших после реформ, к партии и правительству”. Милицию заботило только добывание чистосердечного признания, и в ряде дел, получивших огласку, проявились последствия этой поспешности. Некоего Шэ Сянлиня приговорили к одиннадцати годам заключения за убийство жены, которая жила отдельно, и он сидел в тюрьме до тех пор, пока она однажды не вернулась, чтобы навестить семью. Выяснилось, что она переехала в другую провинцию и там снова вышла замуж. Шэ, которого пытали десять суток, чтобы выбить признание, получил свободу в 2005 году. Журнал “Сайенс” в 2013 году сообщил, что молодые китайцы “менее доверчивы, менее надежны, менее расположены к риску и конкуренции, более пессимистичны и менее совестливы”.
Почти все, кто прошли мимо Малышки Юэюэ, настаивали, что ничего не видели – кроме одной: Линь Цинфэй, которая шла мимо со своей дочерью. Женщина рассказала журналистам: “Она плакала очень слабым голосом… У входа в магазин стоял молодой человек. Я спросила, его ли это ребенок. Он покачал головой и ничего не ответил. Моя дочка сказала: “Та девочка вся в крови’. Я испугалась и утащила дочь”. Когда Линь добралась до собственного магазина, она рассказала мужу о том, что видела, но тот был погружен в работу. “Никто не решался коснуться ее, – сказала Линь, – так как могла я?”
Родители Малышки Юэюэ подумали, что дочь может получить лучший уход, если они обратятся в одну из элитарных клиник. На рынке они подошли к мигранту из Шаньдуна. Тот связал их с другим мигрантом, владельцем магазина “Король абразивов”. Это был бывший военный, и он смог добиться отправки ребенка в реанимационное отделение армейского госпиталя в соседнем Гуанчжоу. Он видел запись: “Я узнал многих из тех, кто прошел мимо и не остановился”. Когда он спрашивал их об этом, они отвечали: “Это не твой ребенок! Что ты лезешь не в свое дело?”
Пятнадцатого октября, два дня спустя после ДТП, Малышка Юэюэ лежала в большой палате с бледно-бирюзовыми стенами, среди трубок и штативов. Ей сделали срочную операцию на черепе, однако состояние девочки все еще было критическим. Родители начали поиски виновного. Они шли от двери к двери: “Вы знаете водителя микроавтобуса с записи?” Они развешивали в “Городе техники” объявления с обещанием заплатить пятьдесят тысяч юаней (более восьми тысяч долларов) за информацию. Ван разместил объявление и в интернете, зарегистрировавшись под ником: “Моя дочь выздоровеет”.
Тем временем к водителю “буханки” Ху Цзюню пришло мрачное осознание того, что он натворил. В семье первым увидел запись с камер его шурин. Ху все понял: “Кажется, два дня назад я наехал на что-то”. По словам адвоката Ли Вандуна, Ху, просмотрев запись, “покрылся мурашками от головы до пят”.