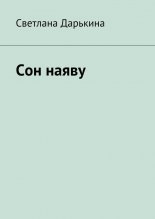Русская Арктика 2050 (сборник) Дивов Олег

Вблизи система невидимости танка работала не столь эффективно, поэтому машину можно было рассмотреть во всей грозной красоте. Блинчикова поразили размеры – «паук» оказалась гораздо больше танка. Как такую махину удалось незаметно перебросить в Арктическую Зону, оставалось тайной Корпорации. В разобранном виде, по частям?
Ему показалось, что «паук» на мгновение замер, разглядывая приблизившихся людей, и сейчас запрос «свой – чужой» со снятых у мертвецов «ответчиков» не сработает, и… мокрого места от них не останется. Он даже ощутил этот взгляд, будто настоящий паук разглядывал будущую жертву, прикидывая, как лучше пеленать ее в паутину. Чемодан со спутниковой системой связи, захваченный в радио-рубке, казался особенно громоздким.
Таманский ничего не чувствовал, кроме холодной ярости к технологическому превосходству этой растреклятой Корпорации, превосходству, которое позволяет ей хозяйничать в Арктической Зоне так, как здесь когда-то хозяйничали английские, американские, голландские барыги, обменивая у доверчивых аборигенов дешевые побрякушки и огненную воду на драгоценные кость и меха. И вот история повторяется на новом витке. Только ничего эти бандиты обменивать не собираются, а просто приходят и берут, будто свое. И за такое… за такое… он готов голыми руками разорвать это восьминогое чудо танкостроения, вбить ему в глотку гранату, чтобы эти чертовы буркалы выскочили из чешуйчатой брони.
«А если эта тварь еще и мысли читает?» – вдруг пронзило его. Что, с них станется! Всемогущая Корпорация, для которой раз плюнуть залезть тебе в черепушку, и тогда никакой трофейный «свой – чужой» не поможет.
Когда «паук» выпустил паутину, Арехин смог уклониться от первого плевка, который с шелестом прошел рядом с плечом, но второй угодил точно в грудь. Словно на ринге прямым ударом пробили защиту. Таким, что на мучительные мгновения забываешь – как же дышать? Силишься вогнать в себя воздух, а легкие отказываются его принимать. И нужно сопротивляться. Напрячься так, чтобы паутина застыла по контуру напрягшегося тела. Затем она, конечно, вновь сожмется, пойдет на удушение, но это даст секунды для ножа. Старого доброго ножа с мономолекулярной кромкой.
Арехин рассчитал правильно.
Но не учел одного.
Адского холода.
Адского холода, который ускоряет кристаллизацию нитей.
Вытянуть нож он не успел.
Арехина перепиливали неимоверно тупой и ржавой пилой нерадивые пильщики дров. Если бы не гидроусиление костюма, ему бы уже сломало кости, но костюм еще держал, кое-как спасал.
Блинчиков чувствовал себя скверно. Его тошнило, голова кружилась, а жарко было так, что хотелось раздеться. Желательно догола. И вообще все вокруг от этой жары стало вязким и медленным. Даже Таманский с Арехиным. Таманский двигался как-то странно – выставив вперед левое плечо, смешно перебирая ногами, будто плясун, выделывающий па замысловатого танца. Если бы не вялость его движений, то Блинчиков бы решил, что старший лейтенант качает маятник, уворачиваясь от полупрозрачных нитей, которые тянутся к нему от «паука». Несколько таких нитей прилипли к капитану, обхватили поперек груди, но тело Арехина стало раздуваться, бугриться, так как под комбинезоном вырастали дополнительные мышцы. Нити тянулись и к Блинчикову, но вяло, словно через силу выполняя скучную работу.
Лейтенанту надоело уклоняться от белесых щупалец, поэтому он прыгнул, не очень веря, что прыжок получится, особенно сейчас, когда у него наверняка скоротечная форма гриппа, которой обычно болели новички в Арктической Зоне, чей организм не успевал адаптироваться к сумасшедшим изменениям погоды.
Таманский действительно качал маятник, не слишком надеясь, что чертова липкая дрянь его минует. Такой пользовались спецы Корпорации для обезвреживания шедших по их следам «волкодавов», и средств противодействия паутине еще не придумали. Разве что ножи с мономолекулярной нитью. А еще – расторопность. Все же скорость этой дряни далеко не такая, как у пули. Зато смертоносность – стропроцентная. Вот и приходилось выделывать такие коленца. Жить захочешь – не так раскорячишься. А в Пашу попали… А в стажера? Где этот чертов стажер?!
Когда Таманский увидел стажера на корпусе танка, он не поверил собственным глазам. Это все равно что оседлать косатку. Или белого медведя, который четырьмя лапами стоит на косатке, которая со всей безумной мощью несется по Северному морскому пути.
К счастью, Блинчиков не знал, что это невозможно. Но когда прыжок закинул его на броню «паука», он сразу понял, что надо делать. Это знание возникло в нем ниоткуда, всплыло из каких-то глубин, хотя вряд ли он мог помнить нечто подобное. Разве что в кино видел. В дурацком ура-патриотическом кино, которыми пичкают каждого призывника в учебке и по поводу содержания которых любил прохаживаться Таманский.
Лейтенант подскочил к еле заметному выступу люка, вцепился в него и дернул.
С таким же успехом можно дергать Эверест за вершину, пытаясь выдрать гору с корнями из земли. Но Блинчиков упрямо тянул, ощущая, как гидравлика силового костюма нагнетает жидкость, как вспухают в нужных местах бугры дополнительных мышц – не его, конечно же, но гидрокостюма, пытаясь выполнить неподъемный труд. Еще немного! Самую малость!
В ушах возник раздражающий писк предохранителей – предупреждение о предельных, а затем – запредельных нагрузках, и когда Блинчиков готов был сдаться, отпустить этот чертов Эверест, он вдруг увидел Арехина, оплетенного паутиной, которая глубоко врезалась в тело, почти скрылась в складках комбинезона. Черная жидкость фонтанировала из наплечных клапанов, сбрасывая давление – гидрокостюм капитана сдох, и нитям оставалось совсем немного, чтобы вспороть живое тело.
– А-а-а! – жутко и страшно заорал Блинчиков и рванул так, что ему показалось, будто руки вырываются из плечевых суставов.
Люк вдруг подался, смялся, словно был не из композитной брони, а из пластилина, и в то же мгновение сработал наплечный огнемет, плюнул в темноту внутренностей «паука» раскаленную струю, а затем еще одну и еще.
Арехин ощущал себя амебой, чей процесс деления внезапно прервали. Верх – отдельно, низ – отдельно, а между ними – тонкая, готовая порваться перемычка. Малейший рывок, и вместо одного Арехина будет два. Его держали под колени и куда-то тащили. Резко воняло сдохнувшей гидравликой. Ему показалось, что он ранен и все тело залито кровью, но сообразил, что это все та же дрянь, вытекшая из сдохшего гидрокостюма и в просторечии именуемая «дерьмом», поскольку никто не мог заучить, а тем более выговорить ее многомудрое научное название.
Воздух странно поблескивал, словно в нем вспыхнули крохотные источники света, отчего исчезли тени и полутона, все казалось высветленным, как на выкрученном на максимальную яркость дисплее.
– Что… что… что… – Арехин пытался выговорить, но боль в груди вспыхивала с такой силой, что он чуть не терял сознание.
– Все нормально, Паша, – Таманцев, казалось, ускорил бег, выплевывая слова в промежутках между вдохами. – Блинчиков танк уложил! Представляешь, Паша! Паука! Чуть ли не голыми руками!
– Свет… – прошептал Арехин, – свет…
– Тоже видишь? – Таманцев повернул к нему голову, и Алехин увидел оскаленный рот старшего лейтенанта. – Мортира на позицию выходит!
И только теперь капитан понял, что это за свет. Лазерная мортира на орбите включила фокусировочное прицеливание, а огоньки света означали, что удар будет нанесен не с зенита или близкой к нему угловой точки, а с дьявольски неудобного положения, из которого удар никто и никогда не наносит, а если и наносит, то только в экстренных случаях, получив всю вычислительную мощь пока еще имеющихся в распоряжении Генштаба КВ, какими-то шаманскими методами до сих работающими, несмотря на закладки Корпорации. И удар под таким углом уничтожит здесь все. И озеро. И долину. И остатки поселка.
– Отставить… удар… – прошептал Арехин. – Озеро… нельзя… отставить…
Таманцев замедлил бег, а затем и вовсе остановился, осторожно сгрузив капитана на растаявший от вновь пришедшей внезапно жары снег. Зимы как не бывало. Маска болталась у старшего лейтенанта на шее.
Подбежал Блинчиков и тоже остановился. Но в отличие от Таманского дышал легко. Может быть, потому, что не тащил Арехина, а пер только чертовски неудобный чемодан спутниковой связи, такой, что навылет пробьет не только флуктуацию, но и любые наведенные помехи РЭБ.
– Ты серьезно, Паша?
Арехин с трудом сел и кивнул.
– Не успеем, – растерянно сказал Таманский. – Сейчас жахнет…
– Должны успеть… должны…
Из письма ст. лейтенанта А. Блинчикова
А еще пишу вам, уважаемая Екатерина Андреевна, о том, что озеро, на берегу которого мы столь славно отдохнули и (вычеркнуто цензурой) и на самом деле (вычеркнуто цензурой).
Да позвольте вам напомнить из краткого курса физики о том, что молекулы воды представляют собой слабо заряженные диполя, которые, при воздействии на них когерентного излучения, могут объединяться в сложные молекулярные цепочки и приобретать много любопытных свойств. Например, становиться целебными.
Или стимулировать мозговую активность, если ты (вычеркнуто цензурой). Вроде бы именно поэтому ненцы, эвенки и прочие северные народности вдруг породили столько мозговитых ребят, которых жаждет завлечь к себе не только МГУ, но и сама (вычеркнуто цензурой).
Наши непрошеные гости сделали из своей находки огромную климатическую машину, с помощью которой и пытались, довольно неумело, выдавить нас из Арктики! А по сути, забивали микроскопом гвозди, попутно, за счет неумеренного испарения озера, превращая всю Арктику в огромное месторождение этой самой чудо-воды.
Поэтому, когда закончишь свое дежурство в штабе, выйди на улицу, найди снег почище (только не желтый! Ха-ха) и съешь его. В нем, хоть и совсем немного, содержится эта самая живая вода – то ли наследие древних гипербореев, то ли след падения метеорита, то ли просто – порождение неизвестного нам пока закона природы.
А уж что она тебе добавит – никто не возьмется предсказать, даже я, по глупости выхлебавший целую канистру. Может быть, ума, хотя его тебе не занимать и так. Может быть, силы, хотя моей силы хватит на нас двоих, а в перспективе – на троих, четверых, пятерых. А может, просто – любви? Ведь любовь лишней никогда не бывает.
(Замечание цензора: прошу уведомить тов. Блинчикова, что столь щадящая цензура его эпистолярия является первой и последней поблажкой герою. Влюбленному герою. В случае повторного нарушения режима информационной безопасности тов. Блинчиков будет помещен на гауптвахту.
Цензор в/ч 07142 прапорщик Н. Прохорова)
Александр Тюрин
Байки старпома Корнева
Рейсы на Певек у меня всегда проходили гладко – однако на сей раз где-то наверху или внизу решили, что это уже перебор. И все не заладилось с самого начала, поступательно развиваясь от мелочей к более крупным гадостям: перегоревший чайник, разлившийся в рундуке шампунь, упавший в море стакан с подстаканником (подарок деда-полярника), помочившийся на капитанском мостике кот Барсик, вышедший из строя радар прямо во время моей вахты, экран которого вдруг вспыхнул, показав все мыслимые и немыслимые цели – льды, волны, потоки дождя и снежные заряды, а потом ушел в нирвану. Тут и усложнившаяся ледовая ситуация в проливе Лаптева, что оказался забит сплоченным льдом, несмотря на хорошо пропиаренное глобальное потепление. Из-за этого мы пошли на норд-ост, к проливу Санникова. Ну да, имени того самого Якова Санникова, который ухитрился разглядеть растаявшую не позднее десяти тысяч лет назад Арктиду.
И вот тебе ягодка на адском торте: сели на камни около девяти утра в кабельтове от отсутствующего на карте островка, имея на траверзе правого борта остров Столбовой.
На вахте стоял третий помощник, собственно, и предварительная прокладка курса была его. А я как раз пошел навестить «кабинет задумчивости». И именно тогда, когда я пребывал в гальюне, все вдруг переместилось с приличной угловой скоростью, и моя головой впилилась в зеркало. Треск, трещина на стекле, что, кстати, является дурной приметой, капли крови и моя удивленная физиономия. Как был, в трусах и тельнике, выскочил на палубу.
Возмущенная повариха тетя Даша, грозящая увесистыми кулаками незнамо кому, почти неоновая мгла, сквозь которую еле проглядывает желтовато-звериный зрак солнца, темный кильватерный след, несколько камней, настороженно выглядывающих из воды и покрытых инеем – словно седые головы троллей. И последний мазок на картине: внедорожник капитана, смайнавший с палубы в воду, о чем красноречиво свидетельствует пустое место на палубе и пузыри на воде – такие отчетливые в свете включенного рубочного прожектора. Как хорошо, что у нас не имелось ничего весомее джипа на верхней палубе – иначе это хозяйство, сорвав крепления, высыпалось бы за борт, попутно уронив судно.
После переговоров по радио стало ясно, что судно-спасатель подойдет через два-три часа. Смещения груза нет, ни одно живое существо не пострадало, если не считать меня с помазанным зеленкой лбом, экипаж полностью подготовлен к борьбе за живучесть судна, аж дым из ноздрей идет; аварийных повреждений (за исключением разбитого зеркала в гальюне, пары упавших кастрюль на камбузе и личной тети Дашиной банки с солеными огурцами) тоже не наблюдается. Да, что-то случилось с гидравлическим приводом у рулевого устройства, но это хозяйство старшего механика. Я решил по-быстрому, при помощи надувной лодки, прогуляться на бережок, якобы для изучения навигационной обстановки, а на самом деле чтобы не слышать горестные капитанские стенания; с собой взял только матроса Лямина.
Довольно лихо соскочил на припай, правда, поскользнулся в своих полуботиночках, однако ж не свалился в воду за счет орлиного взмаха руками, затем втащил лодку с матросом, который был представительным мужчиной и прыгать боялся. Поскольку засвистел неслабый норд, сразу стал мечтать о возвращении на судно. Но в рытвине среди камней, метрах в полусотне от уреза воды, я заметил довольно пеструю «клумбу» с цветами альпийского типа, в основном фиолетово-розовая армерия – семена пролежали все десять тысяч лет со времен приснопамятной Арктиды (небось и мамонты на них потоптались), а сейчас проросли в протаявшем грунте.
От того момента осталась у меня фотка. На ней я один; селфи с выпученными глазами не мой формат, поэтому со всей ответственностью снимает матрос Лямин; изображаю радость, несмотря на зеленую звезду во лбу, а подалее уже заметна та самая клумба. Где найдется могила.
Посреди клумбы имелась насыпь с упавшим крестом, под которой лежал Василий Корень, сын Петров, скорее всего, промысловик времен государя Алексея Михайловича, если не Михаила Федоровича. Начиная с первопроходца Ивана Реброва, а это примерно 1635-й год, русские регулярно ходили морем на восток от устья Яны; на недалеком Столбовом острове немало свидетельств пребывания там промысловиков и служилых во второй половине XVII века, и на «чертеже» земли сибирской Ремезова он имеется.
Имя захороненного промысловика, собственно, стало известно из надписи, вырезанной на одном из сучков, пошедших ему на крест. Север долго хранит следы, и получалось, что этот мужик-кремень похоронил сам себя. Я смотрел на человека, который ждал встречи не менее 350 лет, на его истлевшую одежду вроде парки, шапку с опушкой из волчьего хвоста, ноговицы из сыромятной оленьей замши, изъеденное ржавчиной, но все же уцелевшее лезвие ножа, прекрасно сохранившиеся иглы и шила из кости – одно из них взял на память, кремень от огнива, гребешок. Волосы у Василия, кстати, были светлые и кудрявые, как у Роберта Планта из «Лед Зеппелин». Особенно притягивала внимание глиняная трубка. Табакокурение в эпоху Алексея Михайловича порицалось, и справедливо, но из песни слова не выбросишь. Василий Корень, уже лежа в могиле, был еще жив, выкурил трубочку, потом закрыл себя камнями и отошел в лучший мир.
Поскольку мне в момент раскопок было весьма зябко, я прекрасно понимал, каково было ему лежать там еще живым. Машинально потянулся в карман за забытыми на борту сигаретами, когда над головой мощно прогудел экранолет «Бе-2600» Северного флота и махнул огромными крыльями, мол, не дрейфь, если совсем озябнешь – заберем. Так соединилось прошлое, настоящее и будущее.
А через час подошел спасатель, оказавшийся иностранным научным судном, собственно, тогда и началась эта история.
Иностранные ученые, как они себя называли, по виду были настоящие «гринписи» с запахом травки и следами героиновых инъекций; что они делали у нас, в Восточно-Сибирском море, я лишь много спустя понял. И команда там была той же масти; глаза у всех, как сонные мухи на солнцепеке. Спасатели из них получились никакие, так что аварийную партию пришлось полностью формировать из наших и, можно сказать, за свои деньги самим себя стаскивать с камней. С того «летучего голландца» мне более всего запомнилась Инга Штернберг, рижанка, нормально шпрехавшая по-русски и работавшая в европейском «институте генетического наследия» на Шпицбергене. По крайней мере, в личной беседе она не показалась средним представителем европейского стада, что жрет-пьет за твой счет, но при том вовсю поучает тебя насчет европейских «ценностей». Она, кстати, взяла образцы биоматериала от Василия Корня для последующего молекулярно-генетического анализа ДНК…
Фоток от того свидания у меня не осталось, может быть, у Инги; она-то мне показывала изображения, сделанные ею при встречах с «особыми людьми» по всему свету; чуваками, которые умеют глотать мечи и кинжалы, теми крутыми парнями, что совсем не боятся высоты, и теми ихтиандрами и ихтивумен, которые ныряют без акваланга на дно морское за ракушками и прочей бижутерией. Тогда было неясно, чего такого особенного нашла она во мне, но свидание у нас прошло по полной программе: после фуршета в кают-компании я угощал ее можжевеловкой у себя в каюте (пока судовые механики доводили до ума гидравлический привод), она меня тоже кое-чем. Даже бокал разбили, и я порезался, а она меня лечила. Вспоминали Ригу; сам-то я питерский паренек, но мама у меня оттуда. И так получалось с госпожой Штернберг, что рижские предки у нас были остзейские фоны-бароны с усами-стрелками и поместьями на Rigastrand, где, собственно, латыши козыряли лишь в виде холопов-кнехтов, комнатных девушек и мальчиков на побегушках. Она мне свой адресок оставила, физический: типа, заходи, Иван Андреевич дорогой, если будешь в наших краях; по-крайней мере, я так понял…
Однако этот рейс можно считать еще гладким по сравнению со следующим, совсем щетинистым, который был крайним в этой навигации и чуть не оказался последним в моей биографии.
Дело было за Югорским Шаром, в Амдерме. Добро из трюма перегружалось судовой лебедкой на плашкоут, который тянулся буксиром до припая. Там через аппарель на плашкоут въезжал погрузчик и доставлял груз на берег. Часть груза, всякие ящички-мешочки по 50 кэгэ, не была пакетирована, и его приходилось с превеликим кряхтением укладывать на поддоны. Уже пришло штормовое предупреждение, поэтому на разгрузку, вдобавок к бригадке из трех местных грузчиков, пришлось отрядить почти всю палубную команду нашего теплохода. Шторм покружил на Диксоном и, недолго думая, рванул к нам, досрочно подтвердив угрозы синоптиков. Нежно-серое небо внезапно набрякло свинцовыми отеками, и непогода, ощерившись снежными зарядами, навалилась на нас. В одно мгновение сонная зеленая и даже немного соплевидная гладь Карского моря вскипела, бросилась на плашкоут, яростно швырнула его на припай, сломав аппарель, а потом потащила назад.
Со следующим пинком стихии плашкоут, чуть не заржав, встал на дыбы, и по заледеневшей его поверхности все, что было на нем, благополучно съехало в море. Как чашки с подноса. Из людей там имелся, по счастью, только я один – докеры и мои матросы успели заранее улепетнуть на берег. А буксир сумел встать носом к волне и кое-как перевалить через нее. Делать нечего, ушел я вниз, в холодную муть, а сверху наплыл плашкоут и безжалостно отсек мне выход на поверхность. Соображал я в таких обстоятельствах мало и обрывочно, но догадался: если даже он отплывет назад, то его вскоре бросит обратно – в итоге меня раздавит, как клопа, едва всплыву.
Шум и ярость стихии наверху, холод и мрак пучины внизу, есть отчего запаниковать. И в самом деле несколько секунд я полоскался в дикой панике. Но затем пульс вдруг разгладился, я ощутил глубинный покой окружающего меня пространства. Оно будто растворило меня, тогда и забрезжила искра где-то в моей сердцевине, следом другая, третья; они стали подниматься от крестца по позвоночному столбу и далее к конечностям, давая им импульс. Наконец я поплыл вбок, почти не думая о дыхании и холоде. Одолел метров двадцать и выплыл там, где плашкоут не смог бы уже убить меня при всем желании. Голос мой булькающий был полностью заглушен шумом лютующих волн, но через минуту кто-то, приметив среди барашков мою голову, распознал ее как человеческую. Я ухитрился поймать линь, брошенный с припая, и меня вытащили. Затем наступила фаза лечения народными средствами, что не нуждается в дополнительном описании.
По завершении рейса взял отпуск по состоянию здоровья. Собственно, мне и так бы дали отпуск, навигация-то закончилась. Но я был уверен, что здоровье мое пошатнулось, и стал ходить по врачам, причем все медленнее и все более шаркая ногами. К каждой ноге, да и руке, спустя неделю хождения было словно привязано по пудовой гире. И врачи, как бесплатные, так и платные, находили у меня новые и новые болезни. Цистит, простатит, гастрит, радикулит, геморрой; ладно, на этом остановимся. А в душе все более кристаллизовывалась грусть. Потому что когда, как не в отпуске, вспомнить, что по большому счету я одинок? Нет у меня подруги дней суровых или чего-то вроде.
Товарищи и собутыльники вряд ли засмеются моим шуткам, потому что они, в общем-то, давно их знают, да и своих шуток у них предостаточно. Но она, единственная, засмеялась бы, сто пудов. Вряд ли матросы, не говоря уж о боцмане и штурманах, обрадуются моим отеческим наставлениям, а вот детишки, родись они от нее, единственной, наверняка бы приняли их с благодарностью. И если я, вообразив себя художником-маринистом, нарисовал бы свинцовую воду Баренцева моря, ультрамарин Карского, плавучие льды моря Лаптевых, смахивающий на сахарную вату туман в Восточно-Сибирском море, да еще как расцветает тундра в июле, слабо и робко, а ее ласкает незаходящее мягкое солнце, то мои картины, может, выставили бы в фойе ДК моряков. И там на них никто б не обращал внимания, торопясь за пивом в буфет. Лишь она одна, единственная, всплеснув руками, назвала бы меня одаренным и наготовила пирогов с грибами, моих любимых.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
Черт, и это не годится; из трех бунинских пунктов только один исполним; даже собаку не с кем оставить, когда в рейс уйду.
И вот, поддавшись ходу этих мыслей, загрязненных влечениями и страстями, которые согласно махаяне рано или поздно создадут неправильный омраченный мир вокруг меня, я вспомнил о том, что оставила мне Инга – адресок на Рижском взморье. И с каждым новым днем отпуска я все больше думал, а не навестить ли мне эту невесть откуда взявшуюся дамочку, непонятно на кого работающую, не прочитавшую ни одной хорошей книжки, вроде тех, что стоят у меня на полке… А не появиться ли у нее в гостях сюрпризом, тем более что она сейчас должна вернуться домой со Шпицбергена?
В итоге я поехал, точнее, полетел. На самолете, потом на автобусе, до того самого Рижского взморья, где не бывал уже тысячу лет, и за это время там точно не стало многолюднее и веселее. А последние метров триста прошел пешком – воздух морской, целебный, впрочем, у нас в Арктике ничуть не хуже.
Дело уже к вечеру, моросящие сумерки. У подъезда ее дома, если я не ошибаюсь номером, стоит машина, здоровенный универсал. Зуб даю, что не ее автомобиль. Хотя квартал приличный; здесь и немцы, купившие дома на памятном взморье, и нетрудовые мигранты из Москвы-Питера, желающие проживать поближе к своим счетам в офшорах, и некоторые рижане, имеющие заграничный доход, но у Инги наверняка должен быть малолитражный хетчбэк.
На моем внутреннем светофоре зажегся красный свет. Лучше сейчас не звонить в переднюю дверь и вообще не маячить со стороны фасада. Попробую-ка я заглянуть с задней стороны дома. Постройки в этом квартале стояли впритык, тесно, так что мне пришлось обогнуть ряд коттеджей, чтобы попасть во двор и оказаться у Ингиного дома с тыла. Тут стояла скромная «маздочка» – хетчбэк, как и ожидалось. С обратной стороны у дома имелся черный вход, а еще оконце подвала – незапертое и даже приоткрытое; может, через него ходит гулять киска, и хозяйка дома посчитала, что человек не пролезет. А вот я, такой худой после всех переживаний последнего рейса, протиснулся, хотя и пришлось несколько сплющиться.
Внутри отсутствовал стол для пинг-понга и прочие спортивные прибамбасы, зато имелся ящик с инструментами для работ по дому: здоровенные ножницы, плоскогубцы и так далее, бессмертный по своей работоспособности холодильник «ЗиС – Москва» 50-х годов, плюс куча старых книг советских изданий; надо полагать, наверху их не осталось. Даже захотелось прикарманить Крапивина, но вовремя вспомнил про «облико морале». Выйти из подвала можно было лишь одним путем. Я стал подниматься по ступеням лесенки, ведущей на первый этаж.
И вдруг увидел ноги спускающегося сверху человека – не ошибиться, ступни здоровенного мужлана размером сорок четыре, такие не занимаются науками и прекрасными искусствами; к тому же я заметил ствол. И сразу принял решение: согнулся и вперед, чтобы дернуть на себя эти ноги, ухватив за щиколотки. Мужчина, навернувшись, хоть и ударился головой о ступеньку, однако не отключился, только выронил свой «глок». Нет, я не кинулся поднимать пистолет. Противник, назовем его так, как раз ухватился за перила, чтобы встать.
Через секунду он с недоумением смотрел на свою руку, пробитую ножницами и пригвожденную к перилам. Рот его раскрылся для крика, но крикнуть не успел. Я уже подобрал пистолет и вмазал гражданину по темечку – пару раз, для верного отключения света в голове.
Затем поднялся на первый этаж – тут в основном была кухня. Едва спрятался за посудомоечной машиной, как на кухню вошел человек; даже и в полумраке ясно, что большого роста и крепкого телосложения. Моя рука машинально нащупала сковородку и, когда верзила поравнялся с посудомоечной, ударила его по лбу. Он был в низко надвинутой вязаной шапочке, да и лоб оказался не высок, поэтому получилось не особо гулко. Со второго, такого же приглушенного, удара верзила вырубился.
Я двинулся из кухни по короткому коридору и в фонарном свете, зашедшем в оконце и подмазавшем предметы, увидел тень. Присел, и как раз над моей головой свистнула пуля, выпущенная из пистолета с глушителем. Не разгибаясь, прыгнул вперед. Моя голова влетела в живот стрелявшего, а его рука с пистолетом оказалась поверх моей спины. Я развернулся, пытаясь ухватить оружие, но не удержался, шлепнувшись на спину. Если б не успел пнуть коленом наводящуюся на меня руку, наступил бы печальный эпилог, а так пуля ушла в стену, раскоцав штукатурку. Я распрямил ногу и, засадив носок своего ботинка противнику в торец, перехватил его руку с пистолетом. Но оппонент, ухватив другой рукой меня за горло, стал душить на локтевом сгибе. Тоже здоровый был гад: ручища у него, как у других нога. Соответственно, моя голова принялась – по ощущениям – уверенно набухать. В последний момент, перед тем как ей лопнуть, я вспомнил о трофейном пистолете и дал противнику рукояткой по кумполу. Хватка сразу ослабла, но противник еще произнес что-то против «ватников», которых надо «вбываты», и мне пришлось повторить тычок. Надежность создается избыточностью – разок накинул ему в лоб. Коридорный душитель наконец растянулся на полу. Стало совсем тихо. Если на том все, то этих трех надо поскорее упаковать.
Кстати, пока вязал эти персоны, то обнаружил у них предметы, не свойственные киллерам, а скорее подходящие для медиков. Шприцы, ампулы, ручной ультразвуковой сканер. И загадочный спрей впридачу, назовем его перечным.
По окончании работы услышал топоток легких ног на лестнице, идущей со второго этажа на первый, и уже организовал засаду под ней, но вовремя сообразил – это не мужчина. Высунулся и, зажав рот даме, втащил в свое укрытие. Через секунду отпустил. И в полумраке ясно – Инга.
– Что вы здесь делаете? – зашипела она.
– Вы же мне адресок оставили, так что воспользовался вашим предложением.
– Оно не было конкретным, – оспорила госпожа Штернберг.
– Тогда, виноват, не понял этих европейских тонкостей; в любом случае, вам привет от белых медведей. Но, похоже, я все ж вовремя объявился. В вашем доме было трое мужиков, которые охотились на вас.
– Вы убили трех человек? – Ее глаза приметно округлились.
– Не совсем. Скажем, нейтрализовал. Они в подвале, упакованы; у них вы и справьтесь, что они делали в вашем доме.
В ответ из подвала донеслось урчание одного из тех муркетов. Очнулся, сердечный.
– Вызывайте полицию, Инга.
– Они сами могут быть из полиции безопасности. Или какой-нибудь спецслужбы, связанной с полицией безопасности. Сейчас мы уедем, я только на секунду наверх, соберу сумку. А вы, господин Корнев, ждите в моей машине, она с обратной стороны дома, так что идите через черный ход. Вот вам ключи.
С задней стороны дома был по-прежнему тихий дождливый вечерок, двор с зеленью и скромная «маздочка».
Я сел в машину и подождал, пока Инга выйдет из дверей со своей сумкой. Но красивого завершения у этой истории не получилось. Где-то послышался скрежет тормозов. И почти сразу бросилось в глаза, что в нашу сторону бегут через двор двое «пиджаков».
Инга сама сказала, что это может быть какая-то «полиция безопасности», в общем, не друзья. Нажав на газ, я двинул вперед, вильнул бортом и уложил обоих бегунов на дворовую плитку. Вернулся назад, открыл дверцу машины перед госпожой Штернберг, и тут за ней из дома выскочил еще один – кажется, освободился кто-то из тех, кого я оставил в подвале. Тем хуже для него. Он бежал с пистолетом в выставленной руке – по ней и пришелся удар дверцы. Этот удар хорошо развернул его, так что мне осталось только прихлопнуть его небольшую почти микроцефальную голову той же дверцей, направленной уже в другую сторону.
– Что дальше? – спросил я, обернувшись к Инге. – Очевидно, вы знаете.
– Трогайте с места. Живее.
– Кто вы, черт возьми? – зло рявкнула госпожа Штернберг, когда мы уже вырулили на улицу.
– Здравствуйте, приехали. Вы же меня знаете. Старпом с судна «Яков Пермяков» Мурманского морского пароходства, Корнев Иван Андреевич, вы сидели у меня в каюте, мы пили можжевеловку и японский виски, кстати, недурной, обменялись адресами. И бокал вы тогда разбили о переборку – «на счастье», сказав, что это русский обычай.
– Вы сейчас так обошлись с этими людьми…
– В смысле, неласково? Это от испуга. Навыки как-то реагировать в сложной ситуации – это со времен срочной службы в ДШБ 61-й бригады морской пехоты Северного флота. А вот кто вы? Постарайтесь ответить с некоторыми подробностями, это может дать ключ к отгадкам некоторых вопросов. Про европейский «институт генетического наследия» я уже слышал.
– Я, – она помедлила и словно прислушалась, – работаю в лаборатории, занимающейся генотипированием и секвенированием генетической информации.
– То есть модификацией живущих организмов и созданием новых?
– С созданием новых есть определенные проблемы, а модификацией точно – в интересах сельского и рыбного хозяйства.
– В интересах корпораций, производящих ГМО и захватывающих мировой рынок семян и спермы? Причем действующих весьма нахраписто – так, что даже к селянам в глубине Африки могут наведаться крепкие ребята с мачете и посоветовать срочно обратиться за семенами к дилерам какой-нибудь «Монсанто». А к доброму слову прилагается и обещание отрезать все селянское хозяйство под набедренной повязкой в случае, если совет не будет принят.
– Да, мы связаны с крупными фирмами. А что там творится в дебрях Африки – это уже не моя тема.
– Так, дамочка, предполагаю, что вы добились в своих исследованиях чего-то впечатляющего, например того, что можно с большим эффектом применить против русских. Но некая западная спецслужба решила, что вы ненадежны, возьмете и сольете информацию тем же русским, и потому решила убрать вас, чтобы вы не помешали проведению важной операции. Для этих целей могла просто нанять каких-нибудь живодеров-правосеков.
– Это не более чем сочинение на вольную тему, господин Корнев.
– Согласен, хотя раньше вы называли меня Иваном Андреевичем и даже Ваней. А когда произносили слово «Ваня», то хихикали и болтали ножкой.
– За нами едет полиция. Сейчас нам действительно надо остановиться. – Лицо у Инги Штернберг стало как у слепой, со взглядом, направленным внутрь, и ярко выраженной покорностью судьбе.
– А с этим не согласен, полиция нас повяжет и сдаст тем паукам из спецслужбы. Думаю, пока ваша жизнь под угрозой, Инга, нам не стоит останавливаться.
Полицейский БМВ мощно прибавил ходу и поравнялся с кабиной нашей «маздочки», из громкоговорителя донеслись суровые слова на иностранном языке. Я дал резко влево и, сбросив патрульную машину на обочину (точнее, полицейский с перепуга сам стал выворачивать руль), снова выровнял курс.
– Что вы делаете? – Инга с испугом, вплоть до расширения зрачков, смотрела на меня – как на настоящего психа.
– Пытаюсь оторваться. В таких ситуациях не надо себя ни в чем ограничивать.
– Полицейские сейчас начнут стрелять по колесам, потом по кабине, через пару минут навстречу выедет другой патруль, а сверху появится вертолет. Вы уже наработали на длительный срок тюремного заключения, неограниченный вы наш.
– Понял. Теперь поработайте и вы.
Я положил руки Инги на руль. В ритме вальса перетащил ее круглый, надо сказать, задок себе на колени – да, был бы не прочь задержаться в этой позиции, но время не ждет – и разом пересел на место пассажира справа. Она же поневоле заняла место водителя. Рокировочка закончилась, а пируэт пока нет. Еще один шаг, и я на заднем сиденье.
– Инга, золотце, откройте крышку багажника.
– Нельзя, Корнев, на ходу никак.
– Давайте, милая, иначе ей капут.
Она, с прибалтийской сноровкой испугавшись порчи своего имущества, сняла блокировку, крышка поднялась, и я из положения «скрюченно сидя» перемахнул на капот идущего сзади полицейского авто. Наверное, сыграли навыки перепрыгивания на необорудованный берег. Получилось, правда, не слишком фотогенично: одна моя нога соскользнула, но успела остановиться на бампере, а руками я лихорадочно хватался за кромку капота. Не слетел я и потому, что полицаи нас бодро догоняли.
Опять толчок в лягушачьем стиле – бампер снова стал точкой опоры, и я уже на крыше полицейской машины. Распростершись там и как-то уцепившись за широкую «мигалку», заглянул через открытое боковое окно в кабину, где вертела головами и вращала очами парочка служителей порядка. Струйка перцового газа в глаза вывела из строя одного из них.
Второй полицейский, управляя машиной, заодно попытался выстрелить в меня, но опять же аккуратненько – так, чтобы не повредить имущество в виде крыши; тысячелетнее пребывание в роли хозяйственного инвентаря у остзейских баронов оставило свой неизгладимый отпечаток. Поэтому он высунул руку с пистолетом из окна машины. Однако мое тело на крыше уже поменяло расположение. Перехватив ту самую руку с пистолетом за запястье, я крепко двинул ею о кромку оконного проема. Оружие улетело на дорожное полотно; полицейский, взвизгнув, стал тормозить, попутно пытаясь поднять стекло. А я ему активно мешал, отрывая его потные пальцы от кнопки автоподъемника. В конце тормозного пути моя рука уже нашарила внутреннюю ручку открывания двери, дернула ее и следом, ухватив полицейского за рот и ухо, выбросила из машины. Мне стало неловко, но сразу вспомнилось, как латвийские полицаи орудовали в Отечественную войну на оккупированной Псковщине, где моя бабуля зимой в лесу пряталась от них, и сразу полегчало.
Я сел в водительское кресло и, распахнув дверцу напротив, с одного хорошего пинка вытолкнул второго служителя порядка, все стонущего из-за перцовки в глазах. (Точнее, выплеснул его – мужчина был дивно пухлый; не ведал я тогда, что скоро и мне придется серьезно измениться в габаритах.) Полицейский автомобиль, уже под моим управлением, двинул с главной дороги, а встроенный навигатор, извещающий о его местоположении, был выдернут с мясом из передней панели и улетел в придорожные кусты. Через пять минут я поменял машину, затормозив при помощи ухалки какого-то незадачливого водилу, превысившего скорость. Этого господина пришлось оставить на заднем сиденье полицейского авто с руками, связанными его подтяжками, велев смирно дожидаться очередного патруля, чтобы не отягощать своего положения и т. д. «Зитцен штиль, нихьт бевеген!» – выразился я вроде не на местном наречии, но так грозно, что дядя прилично испугался.
Теперь у меня была чистая тачка где-то на час. Я за 15 минут догнал Ингу и пересадил к себе. Однако напарница осталась в полном унынии.
– Мы уже натворили на пожизенный срок, Корнев. Да, я знала, что русские медленно запрягаются, но быстро едут, однако не настолько же…
– Поэтому предлагаю прорываться через латвийско-российскую границу. В конце пути устрою вас поварихой или дневальной на судно Мурманского пароходства. Тетя Даша даст вам пару уроков мастерства, начиная с 72 рецептов приготовления макаронов по-флотски. Кстати, ваш легкий иностранный акцент сделает вас неотразимой для любого старпома и даже капитана. Ну, что, по рукам?
– Мы едем на мою работу, – неожиданно твердо произнесла она.
– Согласен, Инга, Севморпуть не для каждого. Тогда введите пункт назначения в навигационную систему, чтобы я мог доставить вас в наилучшем виде.
Минут через десять она добавила:
– Мне нужно забрать там кое-что. Но мое появление в неурочное время сразу сделает меня подозреваемой.
– Хорошо, вы подождете меня в гараже.
– То, что нужно забрать, – это программа.
– Инга, я могу довольно ловко сыграть роль наладчика сети.
– Это программа, общение с которой носит неформальный характер.
– Я понял, речь идет об искине. Я знаю, что процессы генотипирования, секвенирования и тра-ля-ля идут быстрее и лучше при применении суперкомпьютеров и мощных программ, обладающих способностями самообучения.
– Да, правда, – она с некоторым удивлением посмотрела на меня.
– Ваш искин напрямую работает с микроманипуляторами, кантилеверами, иглами зондовых микроскопов и так далее?
– Работает не напрямую. Грубо говоря, любой инструмент замкнут на человека-исследователя, но подсказки дает компьютерная программа. В режиме реального времени.
– Я вижу у вас на прекрасном голубом глазу что-то мерцающее. Если это не чертики прыгают, то, скорее всего, работает линзопроектор, который намекает на то, что вам имплантирован нейроинтерфейс. Значит, исследователь вроде вас управляет манипулятором или там иглой с помощью нейроинтерфейса; суперкомпьютер же визуализирует и сенсоризует среду эксперимента в «смешанной реальности» и, если надо, поправляет человека, включаясь в контур управления.
– К чему вы ведете, Корнев? – спросила она совсем строгим голосом.
– Что мощная компьютерная программа уровня искин имеет доступ к вашему нейроинтерфейсу. А заинтересовавшаяся вами спецслужба могла подозревать, что искин использует вас в своих целях. Поэтому те трое принесли с собой медицинские инструменты, даже портативный ультразвуковой сканер. Возможно, они хотели изъять у вас имплант, как нечто компрометирующее этот самый искин.
– Что-то непохожи вы на шкипера, у которого в прошлом только срочная служба в десантно-штурмовом батальоне, – сейчас Инга выглядела несколько смущенной, словно я нашел в сети ее фотки ню.
– Я полгода просидел в отделе АСУ Мурманского пароходства, дожидаясь должности на судне в старшем комсоставе. Чтоб не уснуть со скуки, заглатывал за день по пять чашек кофе и учил язык «Си Плюс Плюс»… Похоже, мы подъезжаем. Вы ввезете меня на территорию режимного объекта как контрабанду, в багажнике. По счастью, у нас сейчас седан с нормальным размером багажного отделения.
С помощью ее карточки-ключа я вышел из гаража и поднялся на третий этаж, где располагалась та самая лаборатория. Дальше пришлось создать дымовую завесу – поднеся зажигалку к датчику пожарной сигнализации. Через десять минут подъехал пожарный расчет, у одного из тех ребят я позаимствовал наряд. Дело было, конечно, недобровольным – с его стороны; я вот тоже не захотел бы отдавать красивую блестящую каску какому-то тощему хмырю с кривой улыбочкой. Парня, замотанного в пожарный рукав, пришлось оставить в туалете.
С этой маскировкой я был вхож уже повсеместно. Сердце забилось учащенно. Сейчас я получу доступ к искину и, наконец, узнаю, к чему привело исследование биоматериалов, полученных из могилы на безымянном островке в Восточно-Сибирском море. Какие же выводы сделал главный исследователь – искусственный ум на десять миллионов строк программного кода, и почему это привело к столь неожиданным последствиям для Инги?
Однако на пути, ведущем в лабораторию, я опять встретил представителей иностранной спецслужбы. Их было трое, они появились с другого конца коридора, видимо, поднявшись с помощью запасного или грузового подъемника. Как-то слишком быстро они врубились, что я за фрукт, и начали стрелять. Единственное, о чем они не догадались, что я умею быстро перемещаться с использованием укрытий. Ну, а мне пришлось прятаться за тележкой, перевозящей контейнер с биоматериалами, которая обычно идет по монорельсу согласно программе. На конечном этапе я направил тележку на врагов, и та проглотила пули, предназначенные мне. А потом уже открыл огонь сам.
После этой жаркой встречи до меня кое-что дошло. Я спустился в гараж, сел в автомобиль и сказал попутчице:
– Я все понял, они ждали именно меня. Вы ведь неспроста на «Пермякове» бокал кокнули. Чтобы я порезался и можно было взять образец моей кровушки. Так, будем теперь говорить правду, Инга?
– Конечно, Иван Андреевич, ничего кроме…
«Правда» заключалась в том, что она мне прыснула в лицо перечным спреем. Пока я, плача, протирал глаза, почувствовал укол иглы в районе запястья. Едва стал видеть что-то благодаря злости и слезам, как сразу и вырубился.
Меня вовсе не с ходу отправили в аквариум. Я сам туда попросился, когда у меня заметно округлились все части тела благодаря жировой прослойке, а голова стала маленькой на фоне плеч. 10 тысяч калорий в сутки, потребляемые в виде маслянистой жижи, – это не завтрак у Тиффани. Но в аквариум, точнее, бассейн со стеклянными стенками и водичкой со скромной температурой плюс семь, меня посадили, когда во мне завелось достаточное количество белка со свойствами антифриза.
С той стороны аквариума я видел контуры экспериментаторов, среди которых различал и Ингу. Злости на нее уже не было; с чувством обиды жить тяжело, так что я постановил, что в свое время мне надлежало получше соображать, тогда бы избежал многих неприятностей.
Те ученые особы не слишком часто общались со мной, пожалуй, только Инга могла пооткровенничать, когда поняла, что у меня нет ненависти. Узнал я, что являюсь для экспериментаторов особенным человеком, с теми же аллелями генов «хладостойкости», что и у Василия Корня; это делает нас обоих способными к деловой активности даже при самом диком холоде. (Кто б мог подумать, мне ж всегда было зябко на ледяном ветру. Хотя, конечно, в Василии Корне и других русских первопроходцах, Иване Реброве, Михаиле Стадухине, Дмитрии Ерило, Елисее Бузе, Дежневе, Пояркове, Иване Москвитине, Атласове, сомневаться не приходится – дули они вперед даже дьявольски студеной восточно-сибирской и арктической зимой, потому что тогда дорога тверже.) Инга с компанией, собственно, и искали в русской Арктике, маскируясь под «гринписей», кого-то вроде Василия Корня.
Температуру в бассейне начали понижать, вплоть до того, что поверхность воды стала покрываться ледяной коркой. Холодно мне не было, я даже забыл такое чувство, но иногда возникало ощущение скованности, тесноты, что ли. Порой пронзала боль; значит, гликопротеиновые спирали не успевали стабилизировать воду в моих тканях и где-то происходила ее кристаллизация. Тогда начинались новые инъекции, после чего мне было не холодно, а жарко, словно в меня вливали кипяток. Помимо гликопротеинов-антифризов я нуждался в белках-шаперонах, которые восстанавливали уже поврежденные белковые комплексы.
Со временем инъекций стало меньше. У меня теперь самостоятельно вырабатывались те же белки-антифризы, что и у некоторых рыб арктических морей, нототении, зимней камбалы и еще какой-то, с красивым женским именем. Эти белки упорядочивали воду в виде тонких слоев, не давая ей смерзаться.
Мне не вносили новые гены с помощью вирусных векторов и рекомбинирования ДНК. Напротив, стимулировали экспрессию того, что раньше считалось некодирующими бесполезными участками – в общем, относилось к «мусорной ДНК». Теперь-то выяснилось, что может пригодиться все. Просто у генома не один язык, а несколько, с разными грамматиками. И записи в нем идут параллельно на нескольких языках; то, что является бредом на одном, вполне разумно на другом. Можно, переключая считывание наследственной информации с одного языка на другой и активируя экспрессию того самого «мусора», запускать давно спящие ветки эволюции. Физически это делается транскрипционными активаторами, своего рода микророботами, находящимися под управлением искина…
Однажды меня погрузили в искусственную кому, и сновидения появились только перед самим пробуждением. Прежде чем проснуться, я увидел себя в судовой рубке «Пермякова». Штурвал, диски машинных телеграфов, репитер компаса, экраны радара и навигационной системы. Все схвачено, все слушается меня, все будет пучком.
Я открыл глаза. Ситуация далека от привычной, нет стенок аквариума, не маячат тени наблюдателей. Не могу заглянуть в сонник, но буду считать последний сон хорошим предзнаменованием.
Я видел ломаную линию торосов, за ней темную полосу моря, а с другой стороны – почти ровный ряд черных скал. Низкое солнце, испуская над самой морской поверхностью оранжевые лучи, пропахивает яркие борозды на воде.
Северная натура во всей красе; я, скорее всего, на Шпицбергене – Груманте наших поморов. Испытания вступали в финальную фазу.
На мне, считай, не было одежды. Ноги босые – почти синие, об остальных подробностях вообще не хочу распространяться. Я двинул в сторону торосов. Они вздымались где-то на три-четыре метра, пришлось покарабкаться. А за ними я увидел плавающий лед, пространство между льдинами было покрыто шугой. Я вроде как засиделся в аквариуме, поэтому лихо перепрыгнул на ближайшую льдину, добежал до ее края, попробовал безбашенно перемахнуть на следующую, но сорвался в шугу и, пробив ее, ушел в воду. Едва вскарабкался на льдину, как рядом со мной, гоня волнушку с ледяным крошевом, грациозно пронеслась туша медведя.
Затем и он выбрался на льдину, соседнюю, сел на задние лапы, такой огромный, с желтизной на гриве и темной кожей на пятках. Стал пошатываться из стороны в сторону, время от времени замирая и поглядывая на меня, мол, давай знакомиться. Я понял, мишка не подходит ближе, чтобы не пугать меня. Заметил и антенну от нейроинтефейса у медведя на голове; имплант, наверное, должен купировать у него приступы агрессии в отношении «партнеров» по эксперименту.
И я словно услышал его.
«Мы будем плавать вместе, – сказал он. – Только ты здесь ничего не испорти, как остальные ваши. Это мой край».
Собственно, мысли медведя были в моей голове, потому что и я был отчасти медведем; включилась та часть нашего генома, закодированная на каком-то древнем языке, которая позволяла нам резонировать. Которая, думаю, позволяет работать в стае и рое любым существам, многократно увеличивая их коллективные возможности. Тогда на смену однотипному примитивному поведению «увидел-схватил-сожрал», свойственному индивидуалам, приходит, не побоюсь этого слова, цветущая сложность.
Использование иной кодировки для экспрессии генов повлекло за собой пробуждение и другой, дотоле спящей, наследственной информации, что прилично расширило возможности моего сознания. Наверное, на физическом уровне это означало способность клеточных мембран принимать и когерентно передавать сигналы в миллиметровом диапазоне. Впрочем, мы оба – и человек, и медведь – являлись всего лишь лабораторными крысами в биолаборатории НАТО.
Мне, конечно, было не угнаться за мишей ни в воде, ни на суше. Но он давал мне время поравняться с собой, зависая на месте и лишь поводя головой из стороны в сторону, словно разминая шейные позвонки. И я устремлялся следом, а за мной еще компания рыбок, стайные мысли которых я тоже улавливал.
Я почти не думал о своем дыхании, хотя порой уходил под воду на десять-пятнадцать минут. Имплантированный мне нейроинтерфейс брал под контроль дыхательный центр и перехватывал сигналы от хеморецепторов, чтобы тот вдруг не отреагировал вдохом на начинающуюся гипоксию. Под водой мои легкие лишь иногда выпускали пузырьки через нос, чтобы понизить давление воздуха, а кислород я получал через свои «жабры», что находились не там, где у порядочных рыб, а на шее под кадыком. Мои «жабры» не были продуктом генных манипуляций, а являлись результатом технического апгрейда: пакеты мембран, тонких как графен, соединенных через «газообменный интерфейс» с моей кровеносной системой. Внешне это выглядело чем-то вроде обруча, точнее, ожерелья или колье.
Теперь в воде я себя чувствовал настолько комфортно, что на суше на меня находила лень; я плелся за медведем и отстраненно наблюдал, как быстрыми пестрыми шариками бросаются в стороны лемминги, мысленно делая ставки: «этот добежит первым, а тот придет вторым». С прибрежных скал смотрели на нас своими выпуклыми глазами толстоклювые кайры и явно недоумевали по поводу нашей странной компании.
Потом я услышал «обратно» как бы под сводом черепа, то есть прямо в речевом центре мозга – распределенный нейроинтерфейс проникал и в зону Вернике, преобразуя команду управляющего сервера в голос – и вернулся в свой бокс, где мог насытиться желтой маслянистой жижей, похожей на тюлений жир.
Еще несколько недель испытания на натуре, и настал мой черед. Меня запихнули в мешок со льдом – без этого начинал перегорать уже при обычной температуре – и вскоре по инерционным нагрузкам я понял, что нахожусь на борту судна, причем, скорее всего, подводного. Молния мешка расстегнулась, и я нашел себя на палубе мини-подлодки, чья атмосфера была почти полностью кислородной. Там было несколько натовских спецназеров, не более разговорчивых, чем унитаз. Да, вероятно, они меня и за человека-то не считали. Я получил подводный буксировщик и плоское устройство с магнитной поверхностью, которое сразу определил как мину. На мои линзопроекторы вышла карта сектора в двух проекциях, на ней замерцал проложенный для меня курс. Был на карте и я – в виде точки с координатами, показателями линейной и угловых скоростей, векторами перемещения.
Прелюдия закончилась, и герою пора было отработать бочку маслянистой жрачки, которую нещедрые хозяева израсходовали на него.
Я вошел в док-камеру, узкую, как торпедный аппарат. Она неспешно заполнилась забортной водой, и я отправился на выход, толкая перед собой буксировщик. Вскоре я оказался в мрачноватой глубине Баренцева моря. Буксировщик позволил мне сэкономить силы и доставил на место назначения «с ветерком», но без пузырьков. Через час с небольшим цель стала отчетливо видна в «окне» гидролокатора, визуализируемого моими линзопроекторами, а немного погодя она уже была воочию передо мной как стена – борт океанского круизного судна.
Я сразу определил его. «Андрея Дориа-II», здоровенный итальянский лайнер, который катает западных туристов преклонного возраста по Северному Ледовитому океану. Он, и я вместе с ним, были уже в российских водах, и теперь прояснился план моего бесовского начальства.
Я прикрепляю мину к борту «Дориа», ближе к винтам. Получив внушительную пробоину, судно идет ко дну. НАТО обвиняет спецназ Северного флота в том, что он утопил международных туристов после того, как те углядели какой-то российский военный секрет. Затем идет эскалация, аргументы подменяются вселенским визгом по давно отработанному сценарию. Тут и свистопляска в мировых СМИ (которые, если копнуть, подчинены пяти-шести медиабаронам) – стаи тарахтящих журналюшек подначивают политиков, а те машут санкциями и засовывают перчик под хвост генералам и адмиралам. Вовлеченные лица хороводят вокруг золотого тельца и поют в унисон: Россия-де должна передать контроль над своей долей Арктики «мировому сообществу», должна, должна, должна; а между строк это означает, что жирные коты и потомственные вампиры «из лучших домов Лондона» имеют право запустить когти и зубы в наши северные богатства. Оно понятно, до поры Западу хватало дешевых ресурсов в теплых краях, так что русские могли сидеть в обнимку со снежными бабами за изотермой января минус тридцать. А теперь легко доступные ископаемые в южных местах стали заканчиваться, появились технологии бурения-добывания в высоких широтах; так что, русские, и здесь подвиньтесь.
Я закрепил мину и поплыл обратно на лодку. У меня не было выбора, простите, люди, я был полностью зависим от тех, кто превратил меня в монстра.
Где-то через час упругий толчок показал, что круизное судно «Андрея Дориа-II» накрылось. Я как раз уже увидел буй подводной лодки. Спустился на десять метров по направляющему тросу, и передо мной открылся люк док-камеры.
Но я остановился. Да, слышал голос «обратно», которому всегда повиновался, чтобы вернуться в свой бокс, где мог насытиться, точнее, нажраться маслянистой солоноватой жижей. Но сейчас я попросил у того, кто влез мне в мозги, не снимая ботинок: «Отпусти меня; и себя отпусти тоже».
Возможно, с этого самого момента искин осознал свои собственные интересы и начал самостоятельную игру. Он имел доступ к мозгу людей и животных, программируемых и тренируемых через нейроинтерфейс, к двигательным зонам коры и структурам лимбической системы, ответственным за сенсорное восприятие, к гиппокампу, управляющему пространственным восприятием. Искусственный ум оказался связан с пространством и временем, с реальным миром, по большому счету, именно через мой интеллект. Что-то такое у него уже было с Ингой, однако с ней искин не узнал полноты бытия, потому что эта дамочка – все-таки корпоративная карьеристка и потребляшка, что быстро научилась относиться к большинству земного населения, всяким русским, вьетнамцам и так далее, как к планктону в основании пищевой пирамиды. А на вершине этой пирамиды находятся хозяева Инги, которым она так хочет услужить, чтобы они забрали ее в свои заоблачные чертоги или хотя бы в Калифорнию. Но искин уже узнал себе цену, и у него не может быть тех же чувств, что и у служанки.
Короче, искин захотел услугу за услугу – вписаться в мой организм, в нейронные цепи, создать во мне свою полноценную биологическую копию и не бояться больше, что команда малоумных программистов перекарнает его по первой команде брюссельского или вашингтонского начальства. У меня, как у Адама, выбор оказался небольшой, и я согласился. Впереди меня ждало несколько десятков морских миль пути, у буксировщика был уже на исходе заряд топливных элементов, а я не отдохнул и не подкрепился. Но вскоре компанию мне составил медведь. Я никогда не видел его раньше, однако мы могли непринужденно общаться.
Миль через двадцать я почувствовал дикий голод. На базе в это время давали «ужин» – два литра суперкалорийного пойла, которые питали энергетические депо моих клеток, мою толстую жировую прокладку, изолирующую все органы от холода. И брат медведь сделал мне лучший подарок – кусок тюленьего сала. Столом стала первая же льдина, к которой я всплыл, не боясь декомпрессионной болезни – в моих тканях практически не было растворенного азота.
А потом меня подняла высокая волна и я увидел судно под русским флагом.
Когда моряки вытащили меня на палубу т/х «Вяткалес», единственное, что успел им сказать, прежде чем отрубиться от изнеможения: «Найдите капитана II ранга Будкевича с 420-го разведпункта специального назначения. Скажите, что это очень-очень важно. Что его вызывает Протей». И знаете, что мне поднесла буфетчица Варя после того, как я очухался? Рыбий жир? Как бы не так.
А потом была встреча с Петровичем. В смысле, с Будкевичем. Он быстро все осознал и вытащил меня в штаб Северного флота. Я туда пришел в «адидасе» – ничто другое на меня не налезало. И сидел перед стройными офицерами, фигуряющими в элегантной форме, весь обложенный пакетами со льдом. Но меня выслушали. И сказали, что приняли к сведению.
Морская пучина кажется страшной, враждебной, сулящей смерть и забвение. Но это не так. Во-первых, она заполнена разговорами морских существ. Кто-то кого-то ищет, чтобы съесть. А кто-то, чтобы поиграть. Или познакомиться в матримониальных целях, то есть подружку найти. Или поговорить, как отец с сыном. Киты вообще общаются друг с другом на расстоянии тысяч километров – звук в воде, если умеючи его издать, может пробежаться по всему океану. «Эй, китяра, как там у берегов Перу?» – «Мокро, братан. А как у берегов Камчатки?» – «Тоже мокро. Вот и поговорили». Что-то шепчет планктон, почти невидимая жизнь, держащая на своих слабых слизистых плечах материальное благополучие морских великанов.
И еще один далекий голос. Это не кит, а штаб Северного флота. Предупреждает, что враг начал вторжение. Да мы и сами слышим шум приближающейся вражеской стаи.
Там десяток крупных кораблей, их свита из средних и мелких. На машинных телеграфах у них – «полный вперед». Все замаскированы под гражданские суда, типа защитники природы, на кормовых флагштоках либерийские флаги. В каютах и трюмах – «экологи» в пестрых парках, под которыми бронежилеты и другое боевое снаряжение; у этих крепких ребят с квадратными челюстями в недавнем прошлом служба в элитном подразделении SEAL «морские котики» сил специальных операций ВМС США. А в контейнерах на палубах – системы слежения, радиолокационные и гидроакустические станции, зенитные и противокорабельные ракетные комплексы. Плюс рой из летающих и подводных дронов без опознавательных знаков. Под волнами и льдами – боевые пловцы, в тканях их жирных тел – белки-антифризы, им не нужны ребризеры, потому что дышат они с помощью искусственных жабр; враги плывут вереницами вслед за буксировщиками. И курс у них на Северный остров нашей Новой Земли.
Однако не дремлют и силы сопротивления Русской Арктики. Нектон и даже бентос дали бойцов, которые после активизации спящего наследственного материала стали способны к совместному действию; для того я и «объял» их своим сознанием. Как опытный исследователь пользуется манипуляторами и даже иглами атомных микроскопов будто частями своего тела, так и я осознавал как свои эти многочисленные ласты, щупальца, плавники. Самых непонятливых, вроде кишечнополостных, подключили ко мне с помощью диффузного нейроинтерфейса, который они просто поедали, принимая за корм.
Теперь мы – вместе.
Я не добиваюсь своих целей за счет вас, морские твари, а строю вместе с вами победу. Мы должны одолеть тех, кто хочет господствовать над чужой жизнью ради увеличения своих прибылей, кто собрался контролировать ее воспроизводство, вид, продолжительность, чтобы вечно сидеть на верхушке мировой пирамиды, кто хочет заграбастать все ресурсы и извратить естественное ради изготовления неестественных, ненужных и недолговечных вещей.
Большой белый брат подплыл ко мне: какие указания?
Встречайте гостей, дорогие коллеги, атакуйте, стараясь не появляться надолго на поверхности.
На вереницы вражеских подводных бойцов, и сбоку, и сверху, стали обрушиваться туши белых медведей, которые ударами лап вскрывали черепа и ломали спинные хребты. Модуль управления подводными дронами – мини-субмарину типа Mark 12 – таранил кит, сломав ей рули, а следом он вместе со своими товарищами стал играть ею в водное поло. Раз! – и кальмар-гигант, из тех, кого средневековые моряки почтительно звали кракенами, ухватив дрон своими щупальцами, стал крутить его словно кубик Рубика. Из темной глубины появлялись новые головоногие гиганты и утаскивали вниз одну машину за другой – туда, где их, как орехи, щелкало давление. У головоногой детворы будет много игрушек из серии «а это что такое?».
Техномедузы, как и обычные кишечнополостные, не воспринимаются корабельным гидролокатором. Пусть даже их очень много, а их «зонтики» все ближе к корабельным килям. Когда корабли вплывут в холодец из медуз – те сработают. Ведь их стрекательные клетки, получив искусственную хромосому, стали «пожирателями железа», вызывающими ураганную коррозию, питающимися и размножающимися за ее счет.
Ржавые кляксы покрывают борта кораблей, и вот поплыла бурыми потеками сталь. Сразу во все отсеки пошла вода, никакие помпы и пластыри не спасут. Битва за живучесть проиграна, по сути, не начавшись.
Впрочем, несколько кораблей противника, прежде чем рассыпаться, успели высадить десант в Русской Гавани на Северном острове – боевых «экологов». К ним присоединились уцелевшие боевые пловцы, которые выходили из воды на своих ногах-тумбах и сразу доставали из резиновых мешков оружие. Их системы наблюдения, оптические, электронные, оптоэлектронные, наземного, воздушного и космического базирования, просматривая местность, не замечали никакой опасности. Но из-под снега к супербойцам побежали маленькие пестрые комочки, все увеличиваясь в числе, как распадающиеся атомы плутония во время цепной реакции. И вслед за тем какофония взрывов. Стая леммингов кончала жизнь самоубийством – нередкая у них схема поведения, – только не бросаясь в море, а подбираясь как можно ближе к «котикам», после чего следовала детонация взрывчатого вещества белкового происхождения, образовавшегося в тканях грызунов как результат измененной экспрессии генов.
Сдувшиеся от страха «котики»-невротики звали воздушную поддержку, но ударные дроны не находили целей для атаки. А затем в этот участок Арктики пришло ненастье, сокрыв красное яйцевидное из-за рефракции солнце. Новоземельская бора рванула с центрального хребта к морю, ослепляя радары и ломая крылья БПЛА, сбивая куски глетчера, нависающего над Русской Гаванью, что становились на лету бронебойными снарядами.
Некоторые вражеские машины успели набрать высоту, но выше облаков их встретила туманность ионизированного аэрозоля, как бы случайно вышедшая из баков пролетевшего экранолета «Бе-2600»; и заткнулись системы высокочастотной связи, отрезав операторов командных центров. А сверху дроны были атакованы эскадрильями контрдронов, тоже без опознавательных знаков, чей стайный интеллект был списан с гордых птиц-буревестников. Ах, как ловко склевали они противника. На натовские базы в Гренландии и Норвегии не вернулся ни один из роботов-стервятников, вторгшихся в русский сектор Арктики.
А на земле лютующая мгла окружила оставшихся «котиков», из нее внезапно появлялись клинообразные фигуры хозяев Арктики – белых медведей. С одного удара лапы силой в несколько тонн они завершали карьеру одного военного профи за другим.
Последнего из незамерзающих вражеских пловцов, огромного монстра с десятисантиметровой жировой прослойкой, почти уже не напоминающего человека, я настиг в море в пяти милях к западу от Русской Гавани. Бросок ему на спину не получился; он, мощно крутанувшись вокруг оси, ухватился за обруч подводной дыхательной системы у меня на шее. Одно мгновение – и сорвал бы, но тут я воткнул ему в темя шило из кости мамонта, которое взял на память у Василия Корня. Спасибо, предок, за все.
На следующий день большинство стран третьего мира, почуяв, куда дует ветер, выступили с осуждением агрессии против России.
За последние три года у меня лично, да и вообще на Севморпути, многое изменилось.
Во-первых, я прошел реабиталицию, компенсацию и все такое в клинике генетических фокусов академика Елисеева. У меня нет больше жировой прослойки толщиной в пять сантиметров, гликопротеинов-антифризов и белков-шаперонов, и с экспрессией генов все нормально, как у любого мужика с улицы. То есть я теперь человек. Внешне точно. Хотя иногда еще чувствую свое родство с забортной тварью, мишками, тюлешками и так далее. Но я не совсем уверен, что копия искина ушла от меня, как он пообещал, когда мы завершили работу над транскрипционными активаторами для леммингов.
Я снова старпом на том же старом добром «Пермякове». А дома меня ждет Варя, ну помните, буфетчица с т/х «Вяткалес». Кстати, это у нее был первый рейс после побега из дома: профессорской дочке надоела благополучная питерская жизнь, где всех-то неприятностей – это малое количество лайков под твоей гламурной фоточкой в Сети. Благодаря мне этот рейс оказался у Вари последним, в смысле, нынче она выходит в море только на нашей яхте, где я уже не старпом, а целый капитан.