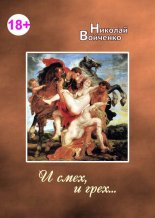Готический роман. Том 2 Воронель Нина

«Какая, к чертовой матери, битва?» – озадачился Ури, и ему смутно припомнилось что-то из вчерашнего дня. Что это было? Ну да, мать, – она подсела к нему на подоконник и, словно извиняясь за что-то, он тогда еще не понял, за что, заговорила с ним по-немецки. А в окне за ее спиной вдруг возникла Лу с большим плакатом в руке, шагнула на подоконник и, наступая ему на пальцы, звонко выкрикнула:
– «…состоится битва при Ватерлоо!»
В суете и тревогах прошедших суток он начисто об этом забыл, но, сейчас вспомнил и полюбопытствовал:
– А кем вы будете, французами или англичанами?
– Мы будем болельщиками, – откликнулся Брайан. – Но для интереса я буду болеть за пруссаков, а Ян за англичан.
– Значит, мне придется болеть за французов, – произнес за спиной Ури голос миссис Муррей. Он прозвучал так непривычно весело, что Ури быстро обернулся и невольно залюбовался выразительной одухотворенностью ее лица, которая скорей всего происходила от ее исключительной худобы. Сегодня старая дама не сидела в своем уже ставшем привычным для Ури инвалидном кресле, а, облокотясь на большую кожаную подушку, полулежала на диване, сиреневая обивка которого создавала живописную гамму с ее седыми волосами и лиловым летним платьем.
– Почему за французов? – удивился Ури не столько ее словам, сколько ее новому, почти кокетливому облику.
– Ради справедливости, – охотно пояснила миссис Муррей. – Должен же кто-то и за них, за бедных, болеть.
– Не стоит их так жалеть, – вмешался Ян. – У них есть достаточно сторонников в здешних краях. Например, хозяин местного трактира вчера сознался, что он записался добровольцем во французский пехотный корпус маршала Нея.
– А куда еще ему идти, не в английские же войска! – одобрительно закивала миссис Муррей, отчего на шее ее в просвете между серебряными локонами и кружевным воротничком сверкнула на миг витая золотая цепочка. – Ведь он, как я слышала, ирландец.
– О чем вы говорите? – наклонился к ней Ури, напряженно вспоминая при этом вчерашний рассказ Лу о брелоке-карандашике, висящем на золотой цепочке на шее миссис Муррей. И спросил, не из любопытства, а просто так, чтобы что-нибудь сказать, пока в голове его прокручивались детали почти забытого вчерашнего разговора:
– Это что, будет настоящая битва?
– Не то, чтобы совсем настоящая, а как будто настоящая, – Брайан восторженно воздел к потолку свои детские ладошки. – Все будет, как у больших, только снаряды и патроны будут холостые. Но все остальное – мундиры, лошади, расположение войск, – все будет так, как было при Наполеоне. Со вчерашнего дня в парке, где будет происходить битва, идут репетиции, там уже построены декорации всех городков, окружавших Ватерлоо.
– Неужели вы этого не знаете? Где вы целый день болтались? – усомнился в искренности Ури Ян.
– В читальном зале, естественно. – Ури был рад в кои-то веки сказать правду.
– Кто ж сегодня сидит в читальном зале? – мягко попрекнула его миссис Муррей. – Ведь это великое событие для наших сонных мест! Жители всех окрестных деревень записались в разные рода войск разных воюющих армий. Их, конечно, не будет столько, сколько было участников реальной битвы, но кому-то удалось стать маршалом, кому-то генералом! И мне тоже повезло – в честь праздника меня раньше срока освободили от гипса и велели потихоньку начать ходить. Вот с этим орудием пытки.
Она указала рукой в угол, и Ури только сейчас заметил, что за спинкой дивана прячется инвалидный металлический ходунок на колесиках.
– Этот аппарат вполне хорош на ровном месте, но забраться в него так же сложно, как из него выбраться. Во всяком случае поначалу, – пожаловалась старая дама, и Брайан немедленно понял намек:
– Помочь вам, миссис Муррей? – рванулся было он от рояля, но Ури опередил его. Одной рукой он проворно приподнял легкую, как перышко, миссис Муррей, а другой вывел ходунок из-за дивана и мягко опустил старуху в его металлические объятия.
– Боже, как вы нежно это сделали! – восхитилась она, – как жаль, что вас нельзя приписать ко мне до моего выздоровления.
– Сейчас я, во всяком случае, могу проводить вас, куда вам будет угодно, – вежливо улыбнулся Ури, привыкший к тому, что пожилые дамы всегда его обожали.
– Но я очень медленно ковыляю, – слабо запротестовала миссис Муррей, явно польщенная вниманием Ури.
– Ничего, я постараюсь приспособиться, – ответил он, радуясь предлогу улизнуть без объяснений как от вопросительного взгляда Брайана, так и от неустанно следящих за ним глаз его японского соседа, который с чашкой чая в руке занял наблюдательную позицию недалеко от выхода. Впрочем, может, у него просто открылась мания преследования, потому что с непривычки трудно было определить, куда смотрят сквозь матовые линзы очков узкие глаза японца.
Когда Ури, почтительно поддерживая миссис Муррей под локоть, медленно заскользил рядом с ней по гладкому катку паркета, он поймал на себе еще несколько любопытных взглядов. Не считая Джерри, который интересовался им по долгу службы, и его опереточного собеседника, на него исподтишка поглядывал очкастый господин невысокого роста с чрезмерно одутловатыми щечками, как будто искусственно приклеенными к его довольно молодому лицу. Выглядел он именно «господином» – до «джентльмена» он не дотягивал, а за профессора он едва ли мог себя выдать, слишком уж был он зализан и тщательно одет.
Священником он тоже быть не мог по многим причинам, но, в основном, потому, что был он Ури знаком. Не лично, конечно, поскольку Ури не был вхож в те высокие сферы, где последние пару лет стремительно взлетала вверх служебная звезда этого господина, а по редким газетным фотографиям, которые, впрочем, с недавнего времени стали появляться все чаще. Его простая идишистская фамилия вертелась на языке Ури, никак не вспоминаясь, и, поскольку куда благоразумнее было ее так и не припомнить, Ури предпочел припечатать его нейтральным именем Господин и под этим именем оставить в памяти до лучших дней, когда вся эта эпопея благополучно закончится.
Завершив свой черепаший марш через гостиную, Ури и миссис Муррей ускользнули, наконец, из-под обстрела любопытных взглядов и оказались в коридоре. Там силы оставили старую даму, и она взмолилась:
– Ули, миленький, я очень ценю ваше самопожертвование, но психологически мне будет легче, если дальше я потащусь одна.
– Но как я вас оставлю? А вдруг вы так ослабеете, что не сможете двигаться дальше? – запротестовал было Ури, но миссис Муррей остановила его властным жестом.
– Не волнуйтесь, голубчик, я как-нибудь справлюсь. А вы лучше сходите в контору и позвоните по внутреннему телефону моей сиделке, пусть она выйдет мне навстречу с креслом. Ее номер 39.
Подчинившись ее воле, Ури оставил ее ковылять в одиночестве и поспешил в контору к телефону, удивляясь собственной покладистости. Но удивлялся он напрасно – старая дама явно привыкла к тому, что окружающие безропотно выполняют ее капризы. Кто-то, кажется, Брайан, рассказывал, что миссис Муррей очень богата и многие ответственные лица в библиотеке весьма и весьма прислушиваются к ее мнению, потому что так завещал ее покойный супруг, подкрепив свое пожелание огромной благотворительной суммой на покупку каких-то баснословно дорогих рукописей. И в свете щедрого дара мистера Муррея становилась убедительной цепочка с магическим брелоком, открывающим для избранных дверь в волшебную пещеру Аладдина.
Ури позвонил сиделке, пообещавшей немедленно примчаться с креслом, и, изображая беспокойство, вернулся к миссис Муррей. Что было как нельзя кстати, так как старая дама уже почти изнемогла от своих героических усилий, хотя продолжала, почти не сдвигаясь с места, упорно толкать вперед вышедший из повиновения ходунок. Заслышав приближающиеся шаги Ури, она подняла на него такие измученные глаза, что он, не задавая лишних вопросов, подхватил ее птичье тельце на руки и понес к садовой скамейке, стоящей в нише одного из французских окон галереи.
– Отнести вас в вашу комнату? – любезно предложил он, искренне жалея старуху, которая со стоном легла плашмя на жесткое решетчатое сиденье скамейки.
– Нет, нет, что вы, я не хочу вас утруждать, – прошептала она, с усилием ловя воздух посиневшими губами. – Ведь это далеко, я живу не здесь, а в директорском крыле. Так что я лучше дождусь сиделку с креслом.
Необходимо было подложить ей что-то под голову, чтобы ей легче дышалось, но оглядевшись вокруг, Ури не увидел ничего, что могло бы сойти за подушку. Тогда он сорвал с плеча свою неразлучную рабочую сумку и, осторожным движением приподняв голову старой дамы, постарался устроить ее поудобней на шершавой парусиновой поверхности. При этом большим и средним пальцем он нащупал у нее на шее тонкую цепочку, уходящую куда-то под ворот платья. Как ему показалось, замочка на ней не было.
– Вам трудно дышать, – пробормотал он сочувственно. – Давайте я расстегну вам воротник.
И поспешил поскорей, пока не появилась сиделка, расстегнуть верхние пуговицы ее лилового платья, обнажая обтянутые морщинистой кожей ключицы, в ложбинке одной из которых болтался на цепочке точно такой же, как у него, брелок. Сомнений не оставалось: у миссис Муррей был собственный, неизвестный Меиру, ключ от тайного входа в хранилище! Тем временем, откуда-то из дальнего коридора прибежала немолодая испуганная монахиня, толкая перед собой кресло на колесиках, и, суетливо причитая, захлопотала вокруг старой дамы. Она вызвала на подмогу двух смешливых кухонных девушек, и они подняли такой птичий базар, что Ури, почувствовал себя лишним и предпочел убраться прочь, унося с собой благодарную улыбку миссис Муррей и тревожную мысль о втором ключе.
Прямой опасности в этом, собственно, не было, и Ури решил не предпринимать ничего самовольно, а просто поскорей сообщить об этом Меиру. Следовало сделать это сегодня же до ужина, а времени уже почти не оставалось, ведь нужно было еще подготовиться к ночной операции. Ури торопливо описал свою находку и с письмом в кармане побежал на почту, где открыл стенной ящик номер 19 маленьким ключиком, который дал ему накануне Меир. Английские почтовые ящики отличались от немецких так же, как их краны и телефоны-автоматы, – они были неудобны в употреблении. Узкие и длинные, они напоминали школьные пеналы, и Ури сперва показалось чудом, что отправленная Меиром коробка с инструментами туда влезла. Однако, присмотревшись, он заметил, что на коробке нет никакого адреса, и понял, что Меир сам положил ее в ящик.
«Значит, он где-то поблизости. Может быть, даже и сейчас он наблюдает за мной», – подумал Ури, оставляя в ящике свое письмо. Можно было бы, конечно, это предположение проверить, затаившись на часик где-нибудь за углом, но не стоило пропускать ужин ради сведения ребяческих счетов с Меиром.
Ури вернулся к себе в комнату и аккуратно переложил в свою рабочую сумку все содержимое коробки – фонарик, отвертки, прибор для обнаружения микрофонов. В оставшийся пустым угол сумки поместился купленный по дороге на почту бутерброд с яйцом, а поверх всего ему удалось втиснуть копии избранных страниц из красной тетради. Он был уверен, что ночью ему предстоит довольно долго просидеть без дела в запертом читальном зале, так что у него будет отличная возможность расшифровать еще какую-то часть дневника Гюнтера фон Корфа.
Он не захотел оставлять у себя комнате пустую коробку, а сбегал на улицу и сунул ее в мусорный бачок ближайшей бакалейной лавочки. Несмотря на всю эту суету он все-таки успел до ужина провести полчасика за своим рабочим столом в читальне. Главным образом для того, чтобы убедиться, что ключ от аннекса на месте. Но неотступный японец не дал ему это сделать. Он, конечно, сидел за своим столом в тапочках и без пиджака, надежный, как шуруп, ввинченный в доску, и, продолжая без перерыва строчить на компьютере, все время искоса следил за Ури. Поэтому Ури не стал заглядывать за корешок истории мозаик, а, притворясь, что он листает ее в поисках какой-то страницы, попытался нащупать ключ сквозь кожу корешка. Кожа на корешке оказалась слишком толстой и прощупать ничего не удалось, и Ури отправился на ужин, не до конца уверенный, что все в порядке.
Оглядев перед ужином втекающую в трапезную толпу, Ури протиснулся вперед, бесцеремонно оттеснив французскую чету и важного Господина с отвислыми щечками, чтобы успеть занять место рядом с Джерри. Он сделал это не столько, чтобы избежать обычных вечерних бесед, предполагающих дальнейшее светское общение после рабочего дня, сколько потому, что у него появились новые соображения в противовес заранее составленному Меиром плану. Он считал, что Джерри куда благоразумней не исчезать после ужина, а остаться ночевать в библиотеке – на случай, если встревоженный сумятицей последних событий Брайан вздумает ночью проверить, спит Ури у себя в комнате или нет. Сердце почему-то подсказывало Ури, что возможность такой проверки не исключена. После истории с туфлями во всем облике маленького библиотекаря появилось что-то пугающе патетическое. А если Брайан обнаружит, что Ури в комнате нет, то лучше всего дать ему повод сопоставить это с таинственным исчезновением ветреной Лу Хиггинс, а не с ключом от аннекса, который она позабыла вернуть.
Хотя Джерри, размечтавшийся уже было, как он разгуляется в этот вечер на полученные им казенные деньги, был разочарован, он вынужден был признать разумность доводов Ури.
– И откуда ты на мою голову взялся такой шустрый? – пожаловался он, со вздохом соглашаясь провести этот вечер, как и все прошлые, в гостиной за чашкой чая. – Мало того, что я терпеть не могу пить чай по вечерам, мне еще придется сочинить приемлемую версию легенды о том, куда девалась моя жена. Ведь все будут приставать с вопросами.
– А ты подумай, как бы ты нервничал, если бы она и впрямь была твоя жена, – убедившись, что их никто не подслушивает, утешил его Ури на прощанье и поспешил в читальный зал.
До закрытия читальни оставалось полтора часа, и затененные абажурами лампы были зажжены лишь на нескольких столах, рассеянных на разных ее ярусах. Но трудолюбивый японец в войлочных тапочках по-прежнему неустанно перебирал клавиши своего верного компьютера. У Ури даже возникло подозрение, что он ни разу за весь день не сходил в туалет пописать, и он с трудом удержался, чтобы не заглянуть через плечо японца на экран компьютера. Очень уж хотелось проверить, пишет тот что-нибудь или только притворяется.
Первоначальный план Ури был прост: перед самым закрытием, когда в читальном зале почти никого не останется, погасить свою лампу и затаиться наверху, пока дежурный библиотекарь не запрет дверь снаружи. Но за полчаса до закрытия он окончательно понял, что пересидеть японца ему не удастся. Нужно было срочно придумать что-то другое. Менять стол было уже поздно, да и бесполезно – ведь любая зажженная лампа была хорошо видна со стратегического пункта дотошного японца.
И Ури решил разыграть спектакль ухода. За четверть часа до закрытия зала, он поднялся с места и, громко шурша страницами, начал старательно закрывать свои книги и складывать их в аккуратные стопки на краю стола, даже не пытаясь извлечь спрятанный в корешке ключ.
Покончив с книгами, он вежливо пожелал японцу спокойной ночи и громко топая, благо, кроме японца, библиотекаря и двух пожилых дам на третьем ярусе в зале никого уже не было, – сбежал вниз. Внизу он быстрым шагом подошел к двери, резко отворил ее и со стуком затворил, оставшись при этом в зале. Затаившись в полутьме возле двери, Ури осторожно огляделся, обдумывая, куда бы ему теперь спрятаться.
Никакого удобного закоулка вблизи от двери не было, но Ури вспомнил, что слева между шкафами начиналась одна из винтовых лестниц, ведущих на верхние ярусы. Мягко ступая, он неслышно проскользнул на нижнюю ступеньку лестницы, тускло освещенной редкими цветными фонариками.
Теперь нужно было добраться до первого яруса, прежде чем библиотекарь в знак окончания рабочего дня включит верхнюю люстру, чтобы через минуту выключить ее и уйти. Ури уже почти достиг первой площадки, как где-то над головой, совсем близко, послышался громкий топот бегущих вниз ног, многократно усиленный волноводом полой лестничной трубы. «Японец!» – сообразил Ури и, мощным рывком выскочив на первый ярус, упал на пол и покатился к одной из рабочих ниш, где затаился в зазоре между столом и стулом. Как раз вовремя, – на лестничной площадке на миг сверкнула очками тень японца и устремилась вниз к выходу. И в ту же секунду под потолком ослепительно-ярко вспыхнул свет в люстре и зазвучал птичий щебет сходящих вниз по лестнице запоздалых читательниц. Через бесконечно долгую минуту гулко хлопнула дверь, голоса замолкли и свет погас. Еще через секунду опять, но потише, хлопнула дверь, закрытая привычной хозяйской рукой, и в наступившей тишине стало слышно, как в замке повернулся ключ.
«Замуровали!» – подумал Ури, чувствуя, как внезапно стиснулось сердце, то ли опасаясь неведомого, то ли возбуждаясь охотничьим азартом. Пару минут он полежал тихо, прислушиваясь к неясным шорохам и вздохам, заполнившим пронизанное таинственными токами пространство между рабочими ярусами и книжными шкафами. Можно было подумать, что незримые души книг, весь день заточенные между створками переплетов, вырвавшись, наконец, на свободу, безмолвно порхают в абсолютной тьме, окутавшей безлюдный зал. Ури даже невольно плотнее прильнул к полу, представив себе, что одна из этих душ, нечаянно наткнувшись на него во мраке, завоет от неожиданности, как сирена тревоги.
Через несколько мгновений шорохи смолкли и в зале воцарилась настоящая тишина, – может быть, это перестук сердца Ури, постепенно возвращаясь к нормальному ритму, перестал отдаваться в его ушах барабанным боем. Убедившись в своем полном одиночестве, Ури нашарил в сумке фонарик и распорол темноту острым лезвием его луча. Ступая как можно мягче, он поднялся на верхний ярус, вытащил из стопки книг историю мозаик и с облегчением вытряхнул ключ из-под корешка, – ему все-таки удалось перехитрить японца.
С ключом в руке и с сумкой через плечо он сбежал вниз и открыл дверь в аннекс, который был так отдален и отделен от жилых помещений, что там можно было двигаться свободно, не боясь привлечь шумом чье-нибудь досужее внимание. Работа предстояла в основном техническая, ее можно было бы даже назвать скучной, но все равно ее надо было сделать.
Зажечь свет Ури не решился, хоть затянутые морозными стеклами окна аннекса выходили на кладбище, где вряд ли кто-нибудь бродил в такой поздний час. Он осветил фонариком полки, нашел нужную и, сняв с шеи цепочку с брелоком, быстрым движением сунул его в крошечную дырочку на скрытой под нижним плинтусом панели. Полка бесшумно заскользила влево, обнажая затаившийся за ней узкий коридорчик, окаймленный рядами старинных томов.
Тем же брелоком он привел в действие механическую систему в торцовой стене коридорчика и, откатив вбок маскировочную книжную полку, открыл вход в хранилище древних рукописей. Ури посветил фонариком себе под ноги, – сразу за крохотным квадратом паркета начиналась гранитная лестница, полого уходящая в темную глубину. Нащупав на стене выключатель, Ури включил свет и заглянул вниз, – веерообразно расходясь от невидимого центра, ступени дугой убегали куда-то влево.
Хоть Ури не хотелось отрезать себя от мира, он все же решил, что прежде, чем начать спускаться под землю, лучше закрыть за собой секретный зазор между полками, на случай, если кого-нибудь среди ночи принесет в аннекс нелегкая. Конечно, при запертом читальном зале это казалось маловероятным, однако в сегодняшней атмосфере напряженной слежки всех за всеми всякое могло случиться.
Ступеней оказалось немного, не больше двух десятков. Они вели в короткий коридор, завершающийся еще одной дверью, из-за которой доносился нестройный гул голосов. Значит, совещание еще не кончилось, напрасно Ури так торопился. Закинув голову, он осмотрел дверь. В верхнюю ее плату была вправлена отлично видная из темноты сеточка вентиляционной решетки, сквозь которую звуки из хранилища свободно проникали в коридор. Об этом, пожалуй, нужно было поскорей сообщить Меиру.
Голоса за дверью на миг взлетели на октаву выше и тут же опали почти до шепота, словно говорящих внезапно отключили от источника энергии. Ури глянул на часы и чуть было не присвистнул, но вовремя спохватился, что они там могут слышать его так же хорошо, как он их. Была уже половина одиннадцатого, а они и не думали кончать. «Всю ночь они собираются там сидеть, что ли?» – подумал он и прислушался.
Разобрать отдельные слова было трудно, но, судя по общей тональности, собеседники за дверью были весьма далеки от соглашения и взаимопонимания. Можно было подумать, что там, за дверью, заклинилась граммофонная пластинка, – негромкий, но пронзительный тенор, снова и снова монотонно произносил какую-то короткую фразу, как показалось Ури, одну и ту же, на которую всякий раз в том же ключе, совсем как в оперном дуэте, откликалось сопрано матери, но не привычно переливчатое и флиртующее, а незнакомое, непреклонно официальное. Эта заунывная музыкальная тема напомнила Ури комическую сценку, некогда сочиненную им, чтобы дразнить мать, которая детства заставляла его ходить с нею в оперу. Сценка представляла собой перекличку двух преследуемых врагами любовников, которые многократно повторяли одни и те же слова:
Он: «Бежим, бежим, враги нас настигают!»
Она: «Бежим скорей, уже погоня близко!»
Он: «Бежим, бежим, враги нас настигают!»
Она: «Бежим скорей, уже погоня близко!»
И так без конца, не трогаясь с места, пока, наконец, голос Клары не произнес резко и окончательно:
– Вы как хотите, но мой рабочий день на сегодня окончен. Мы продолжим это продуктивное обсуждение завтра утром.
– Как вам будет угодно, мадам, – неожиданно любезно пропел тенор, после чего они в полном молчании так долго шелестели бумагами и хлопали какими-то дверцами, что Ури потерял всякую надежду от них избавиться.
Когда они в конце концов все же ушли, Ури не решился сразу войти в хранилище, а подождал в коридоре еще минут пять, опасаясь, что они что-нибудь забыли и могут вернуться. Убедившись, что в зале тихо, он отпер дверь все тем же заветным брелоком-карандашиком, чуть-чуть приотворил ее и осторожно заглянул в щель. Его глазам открылся низкий, тускло освещенный зал, наполненный неясно откуда доносящимся пульсирующим шорохом – словно какое-то чудовище, затаившись в одном из углов, не в силах было сдержать рвущееся из груди дыхание… Ури на миг застыл в замешательстве, но тут же понял, что это работает термостат, поддерживающий в хранилище постоянную влажность и температуру.
Две стены зала были заняты широкими полками, на которых рядами стояли застекленные ящики с пергаментными свитками разных размеров, вдоль двух других высились открытые шкафы, заполненные вертикально стоящими картонными футлярами. Ури наугад открыл один – внутри лежала аккуратно переплетенная пачка хрупких, потемневших от времени листков.
Значит, так выглядят столь тщательно хранимые древние рукописи. Интересно было бы разобраться, какая разница между теми, что в свитках, и теми, что на листочках, но сегодня у Ури была совсем другая задача.
Первым делом он зажег свет в большом матовом плафоне под потолком и огляделся. Практичней всего было бы начать с расположенных в центре зала столов, оснащенных разнообразными хитроумными приспособлениями для работы с рукописями. К удивлению Ури, полированные крышки столов пустынно сверкали девственной чистотой – на них не было ни листка, ни блокнота, ни даже шариковой ручки. Если бы Ури сам только что не слышал голоса из-за двери, он бы даже не заподозрил, что совсем недавно тут закончилось многочасовое совещание.
Он довольно быстро закончил проверку столов со всем их содержимым, затем простучал деревянную лестницу, спускающуюся в зал от выхода в часовню, и прослушал ее на наличие микрофонов. Все было чисто и можно было приступить к проверке полок. Эта задача была посложней: нужно было прослушать электронным прибором все: и углы шкафов высоко под потолком, и карнизы под шкафами, и картонные футляры в шкафах, и застекленные ящики на полках. Ури не мог бы сказать точно, сколько времени он ползал на животе, сколько раз он снимал с полок и возвращал обратно тяжелые ящики, сколько раз он взбирался по стремянке наверх и соскакивал вниз с очередным футляром в руках. Но все его тело ныло от напряжения, когда он, наконец, поставил на место стремянку и принялся складывать инструменты в сумку.
Укладывал он их не слишком старательно – ведь ему предстояло еще осмотреть ведущий в аннекс коридор, но тут ему под руку попался забытый им бутерброд, и вдруг страшно захотелось есть. Он начал было разворачивать оберточную бумагу, чтобы наспех откусить кусочек безвкусного английского хлеба с размокшим от помидор яйцом, как внезапно сверху раздался звук отворяемой двери и голос Брайана сказал:
– Осторожно, здесь крутые ступеньки.
Ури замер с бутербродом в руке. Затем, быстро оценив ситуацию, неслышно закрыл сумку и в два мягких прыжка достиг двери в коридор, которая, к счастью, находилась под лестницей, и была не видна сверху, с площадки, выводящей в часовню. Пока Брайан не спеша сходил по ступенькам вниз, по всей видимости, предоставляя своему спутнику возможность осмотреть хранилище сверху, Ури успел не только выскользнуть из зала, но и выяснить, кто же был этот спутник. Осторожно прикрывая за собой дверь, он услышал, как голос Яна спросил:
– Здесь что, всегда горит такой яркий свет?
Закрытая дверь не помешала ему расслышать ответ Брайана:
– Нет, обычно по ночам горят только охранные лампы дневного света, а верхний плафон должен погасить тот, кто уходит последним.
И вдруг выпалил единым духом, так что Ури прямо-таки увидел сквозь дверь обиженную складку его по-детски припухлого рта:
– Бьюсь об заклад, что сегодня последней здесь была иерусалимская красотка Клара.
– Брайан, за что такая немилость? – расхохотался Ян.
– Никакая не немилость. Просто мне кажется, что мысли этой прекрасной дамы заняты решением каких-то личных, весьма далеких от науки проблем.
– Вы что, умеете читать не только старые тексты, но и мысли молодых дам?
– Не такая уж она молодая, – буркнул Брайан и Ури невольно пожалел мать, предвидя, как Брайан сейчас и Яна начнет уверять, что Клара годится ему в матери. Однако Ян не позволил ему перевести разговор на Клару.
– Брайан, голубчик, – сказал он мягко, почти вкрадчиво, – разве вы не предупредили меня, что мы можем провести в этом подземном святилище не более пятнадцати минут?
Ури с облегчением подумал, что пятнадцать минут это ничего, пятнадцать минут он, пожалуй, может простоять в темном коридоре, но уж никак не больше.
– Да, да, пятнадцать минут это крайний срок! – спохватился Брайан. – Ведь если кто-нибудь узнает, что я приводил вас сюда во внеурочное время…
– … так вас выгонят в три шеи. Знаю, знаю, вы мне это уже сто раз повторили, – перебил его Ян. – Зачем же мы тогда тратим драгоценное время на обсуждение недостатков какой-то не имеющей отношения к делу прекрасной дамы?
– Сам не знаю, как это получилось, – застеснялся Брайан и вспомнил. – Ведь это вы меня втравили, вы спросили, кто мог оставить тут свет.
– Бог с ним, со светом, – отмахнулся Ян. – Покажите мне уже, наконец, это восьмое чудо света. Ведь меня тоже могут выгнать в три шеи, если кто-нибудь узнает, что я тут ни разу не побывал.
– Знаю, знаю, вы это тоже сто раз повторили, – не удержался от упрека Брайан, в ответ на что Ян опять засмеялся и сказал:
– Так что же вы тянете, если вы уже сто раз слышали, что меня могут выгнать?
Тут Брайан невнятно залопотал, что он постарается добыть для Яна внеочередной пропуск в хранилище на всю будущую неделю, а Ян отверг это предложение, приведя свой любимый довод, что он из Чехословакии и потому никаких будущих недель у него нет и быть не может. Но Брайан продолжал настаивать, что он все уладит и выхлопочет для Яна не только пропуск, но и специальную стипендию, которая обеспечит Яну недельное пребывание в библиотеке. В конце концов Ян прервал его лепет и твердо объявил:
– Ладно, мы посмотрим, что будет потом, а сейчас я хочу посмотреть на ваши хваленые рукописи.
И решительно затопал куда-то в глубину зала, а Брайан торопливо засеменил ему вслед. Теперь их голоса звучали уже не так явственно, но это было неважно, потому что говорил в основном Брайан. Он похвалялся рекордными достижениями местных реставраторов и архивариусов, для чего, судя по долетающим сквозь дверь звукам, снимал с полок особо выдающиеся экземпляры и с гордостью демонстрировал их Яну. А Ян, похоже, действительно знал в этом деле толк, – так, во всяком случае, показалось Ури по обрывкам долетающих до него вопросов, сути которых он, впрочем, не мог по-настоящему уловить.
Потеряв интерес к их беседе, Ури опустился на холодный каменный пол и вспомнил про свой бутерброд. Стараясь не шуршать бумагой, он развернул его и с наслаждением впился зубами в его пропахшую раздавленными помидорами мякоть. На миг перед глазами возникло видение дымящейся тарелки с овсянкой, которую ему не суждено завтра получить, и он, смирившись, начал было откусывать второй кусок бутерброда, как вдруг голос Яна произнес прямо у него над ухом:
– А куда ведет эта дверь?
Непрожеванный кусок застрял в горле Ури, – как это он прозевал момент, когда они закончили свою экскурсию и двинулись к выходу? Он скорее почувствовал, чем услышал, как рука Яна легла на ручку двери, а ведь Ури, выскальзывая в коридор, не успел ее запереть. Загнав за щеку склизкий комок хлебного мякиша, он проворно повернулся к двери спиной и, прижавшись к ней изо всех сил, уперся ногами в пол. Дверь чуть качнулась, но не поддалась.
– Тут когда-то был вход в хранилище, до того, как построили новый, через часовню, – голос Брайана долетел откуда-то сверху, вероятно он был уже у выхода. – Что вы там застряли, нам пора!
Рука Яна отпустила ручку, и он спросил, уже поднимаясь по лестнице:
– А куда же она ведет, на кладбище, что ли?
Брайан ответил не сразу, слышно было, что он возится с замком:
– Да нет, в аннекс. Вернее, она вела в аннекс, а теперь там все перекрыли, так что она не ведет никуда.
Клара
Все было не так, все было неудобно – кровать слишком твердая, подушка слишком плоская, одеяло слишком теплое. Она то и дело обливалась потом. Несмотря на свинцовую усталость Клара металась на узкой монастырской койке, не находя удобной позы для сна, ажурная ночная сорочка, купленная в Лондоне за безумные деньги специально для Яна, прилипала к ее влажному телу. А сон все не шел и не шел. Но все же, в конце концов, она, наверно, задремала, потому что не слышала, как Ян вошел в комнату и сел на пол возле кровати. Она только почувствовала внезапный электрический толчок, когда его теплые губы прильнули к ямочке в сгибе ее локтя и начали мучительно медленно подниматься вверх, к плечу и шее. В этот миг невыносимое напряжение, сковывавшее ее тело весь этот ужасный день, отпустило ее, она притянула его к себе и прошептала:
– Наконец-то! Я уже перестала надеяться, что ты придешь!
Ури
Закрыв за собой все попутные двери, Ури посветил вокруг фонариком – в аннексе было холодно и пусто. Ури хотел уже закрыть зазор между полками, скрывающий вход в хранилище, как вдруг ему вспомнился тот первый раз, когда он неосторожно открыл его, не заметив преподобного Харви, приютившегося в соседнем зазоре. С тех пор прошло всего несколько дней, но напор событий в эти дни был так велик, что память о том случае почти стерлась. Однако сейчас Ури ясно вспомнил красивый том с золотым обрезом, который старик утащил с полки, отчаянно сопротивляясь попытке Ури вытеснить его обратно в аннекс. Куда он с тех пор делся? Хорошо было бы вернуть его обратно на полку, – ведь именно в борьбе за этот том нордических саг застиг их тогда Ян.
Том должен был быть где-то поблизости, так как выносить книги из аннекса было строго запрещено. Светя себе фонариком, Ури бегло оглядел рабочие столы с наваленными на них кипами книг и довольно быстро обнаружив знакомый позолоченный корешок, извлек нордические саги с чьего-то стола. Жаль, что нет ни сил, ни времени не то чтобы почитать, но хоть полистать эти древние сказки, которыми так увлекается бедняга Брайан.
Ури положил книгу на ее законное место, точно обозначенное регистрационным номером, и с облегчением сдвинул полки. Теперь ничто не мешало ему подняться в читальный зал, где не было окон, а значит можно было сесть за стол, спокойно зажечь настольную лампу и почитать дневник Карла. Раздобыть бы еще чашечку-другую горячего кофе, чтобы прогнать сон, и наступившее состояние можно было бы назвать блаженством. Ури вынул из сумки скопированные странички дневника и нашел ту, на которой остановился в прошлый раз. Когда это было – месяц назад или даже год? На миг перед глазами замелькали образы этих насыщенных событиями суток, среди которых особенно обжигали два: острые соски Лу, агрессивно нацеленные на него из-под прозрачной черной сорочки, и седой затылок Яна, украдкой уходящего по темному коридору из комнаты матери. И от того, и от другого на душе становилось неуютно и хотелось поскорей выключить назойливый экран памяти.
Но проклятый экран никак не выключался, так что надо было его чем-то заткнуть, ну хотя бы чтением дневника. «Вот и почитаем», – скомандовал себе Ури вслух и стал искать то место, на котором остановился. Это оказалось не так-то просто. За прошедшие дни он утерял столь чудесно обретенную им беглость чтения зашифрованного текста. И потому он начал где-то посреди страницы с абзаца, который уже читал раньше.
Итак, они меня заполучили, черт бы их побрал! Не знаю, зачем я им понадобился – ведь я для них старик, все они моложе меня почти вдвое. О моем высоком положении в организации им наверняка ничего неизвестно, да и не все ли им равно? Однако они зачем-то остро жаждали вовлечь меня в свои игры, а я не поддавался, все сильнее разжигая этим их жажду. Почему я так упирался? Я думаю, дело в том, что они мне просто физически неприятны: они все как на подбор некрасивые и редко моются, причем девки не лучше парней. Мне трудно переносить их дурацкие ссоры, когда они в плохом настроении, но еще хуже, когда они в хорошем, – их бездарные шутки могут кого угодно свести с ума. Мне с ними скучно, я терпеть не могу пустых занятий, задача которых – как-нибудь убить время. Хотя, по совести, в условиях заточения – это единственное, что можно со временем сделать.
Что до их эротических забав, то несмотря на длительное воздержание, мне было легче уклониться, чем присоединиться. Я не чистоплюй, но ведь потом надо будет дальше жить с ними бок о бок в той же грязной берлоге. Я чувствовал, что мне это будет нелегко. Что ж, теперь я смогу проверить, прав я был или неправ.
Это случилось прошлой ночью, когда я, наконец, закрыл кухонную дверь и погасил свет. У меня последнее время разыгралась изрядная бессонница и мне не хотелось сразу забираться в спальный мешок. Я чуть-чуть сдвинул ставни, и приотворив окно, выглянул на улицу. Свежий ночной воздух ошеломил меня, и сердце подкатило под горло при виде двух рядов цветущих каштанов, отделяющих наш дом от погруженных в сон домов на другой стороне улицы. Мне вдруг захотелось спуститься вниз и пробежаться по узкой полоске асфальта, вьющийся между каштанами, – как будто не я, а кто-то другой сочинил инструкцию для обитателей тайных квартир!
Я давно уже понял, что мне нескоро предстоит пройтись по городской улице. Просто бесцельно пройтись, как ходят все нормальные люди, не опасаясь, что их заметят и узнают. Но только сейчас, волевым усилием подавляя в себе безумное желание выскочить из окна и пробежаться под каштанами, такими близкими и такими недоступными, я ощутил всем телом то, что раньше сознавал только разумом.
Это физическое ощущение оказалось настолько болезненным, что я застыл в каком-то смутном ступоре и даже не заметил, как кухонная дверь тихонько отворилась. Я очнулся, только когда сильные руки обхватили мои колени и потянули меня вниз. Я покачнулся, пытаясь сохранить равновесие, но другая пара рук толкнула меня сбоку, и я упал на сплетение голых тел, копошащихся у моих ног. Хоть я отчаянно старался вырваться из паутины цепких рук, мне это не удалось. Меня быстро и ловко раздели донага, бесцеремонно перекатывая по полу, как свернутый в трубку ковер.
– Что вы делаете? – довольно глупо спросил я, не слишком повышая голос, так как вовремя вспомнил о приоткрытом окне. Но даже в моем приглушенном голосе зазвучали непривычно визгливые нотки – я сам их услышал и испугался, что теряю контроль над собой.
В ответ раздалось дружное хихиканье, и несколько пар жадных ладоней, начали шарить по моему телу, щекоча, лаская и раздражая. Я сделал еще одну попытку встать, но кто-то прижал меня под горло волосатым коленом, давая возможность голому женскому животу распластаться на мне с недвусмысленным эротическим намерением. В нос мне шибануло сладковато-селедочным запахом давно немытого тела, – последнюю неделю обе наши девицы демонстративно отказывались принимать душ. Когда женский живот начал ритмично елозить по мне вверх и вниз, помогая себе охватившими мою голову твердыми коленками, какая-то стенка во мне рухнула и я перестал сопротивляться.
Не знаю, сколько времени длился этот всеобщий экстаз, помню только, как меня перекатывали с одного тела на другое, пока я не перестал отличать мужчин от женщин. Ребятишки, конечно, чего-то накурились и были поддатые, однако моя трезвость легко растворилась в их опьянении, и я превратился в такое же счастливое безмозглое животное, как они.
Когда опьянение прошло, и мы все, наконец, устали, я задремал было среди голых тел на полу, но быстро проснулся оттого, что меня начало знобить. Оглядевшись, я сообразил, что мы в какой-то момент выкатились из кухни в большую комнату, а я даже этого не заметил. Я сбросил с себя пару чужих конечностей и пошел в душ. Содрогаясь под сильной струей горячей воды, я старался подавить нарастающее в глубине души отвращение к себе, остро приправленное несказанным облегчением, разлившимся по всей моей физиологической сущности.
«Что, теперь всегда так будет?» – спрашивал я себя, ясно сознавая, как трудно устоять тому, кто однажды сдался. У меня даже мелькнула подлая мыслишка, как хорошо было бы, чтоб нас арестовали. Это на миг показалось мне освобождением. От этой мыслишки мне тут же стало не по себе. На душе муторно, в теле пусто-пусто. Завалюсь-ка я лучше спать!
Еще один день я спал так крепко, как не спал уже много месяцев. Когда я вынырнул, наконец, из глубин небытия и открыл глаза, я увидел, что кухонный пол расчерчен косой штриховкой солнечного света, проникающего сквозь щели приотворенных ставень. Значит, я проспал все утро – окно нашей кухни выходит на юго-запад, и солнце посещает ее не раньше полудня. За закрытой дверью в салоне царила могильная тишина, мои со… что!? Ума не приложу, как их назвать – собутыльники, но мы ведь не пили, сопостельники, но мы кувыркались на полу. Может, соратники? Мои соратники спали, как убитые, и даже не храпели.
Я был так рад этому неожиданному одиночеству, что не пошел через салон в туалет, а, не испытывая никакой неловкости от своего антиобщественного поступка, воспользовался кухонной раковиной, – только бы их не разбудить! Потом заварил себе стакан крепкого чаю и принялся за книгу о Бакунине. Я был прав: этот русский романтик уже более ста лет назад четко обозначил основные принципы нашего движения:
«Всецелостное разрушение государственно-юридического мира и всей так называемой буржуазной цивилизации посредством народно-стихийной революции, невидимо руководимой отнюдь не официальною, но безыменною и коллективною диктатурою друзей полнейшего народного освобождения из-под всякого ига, крепко сплоченных в тайное общество…»
«Мы – отъявленные враги всякой официальной власти. Единственная армия – народ. Важнейшая наша цель – создание тайной организации, которая должна быть только штабом этой армии, а не навязывать народу свою мысль, чуждую его инстинктам».
Ну не про нас ли это?
А вот еще более интересная мысль:
«Этот мир действительно надо морализовать. Как же его морализовать? Возбуждая в нем прямо, сознательно и укрепляя в его уме и сердце единую, всепоглощающую страсть всенародного общечеловеческого освобождения. Это новая, единственная религия, силою которой можно шевелить души и создавать спасительную коллективную силу».
За дверью началось движение – шорох, топот, смех, сердитая перебранка. Это означает, что там проснулись и моему одиночеству конец (через десять минут). Как только мои полуодетые соратники ворвалась в кухню пить кофе, я взял свое барахло и выскользнул в большую комнату. Книгу и дневник я успел сунуть в спальный мешок. У меня есть укромный уголок между диваном и журнальным столиком, где мне порой удается ненадолго сбросить оковы коммунального бытия. Пока ребята шумно завтракали, я успел сделать еще несколько выписок:
«Отвергая всякую власть, какою силою будем мы сами руководить народной революцией? Невидимой, никем не признанной коллективной диктатурой нашей организации. Эта тайная организация должна разбросать своих членов мелкими группами, сплоченными единой мыслию единой целью, – организацией полнейшей народной свободы».
«Кто на своем веку занимался составлением заговоров, тот знает, какие страшные разочарования встречаются на этом пути: вечная несоразмерность между громадностью цели и мизерностью средств, недостаток людей – сто промахов на один порядочный выбор, вечная игра самолюбий, маленьких и больших честолюбий, претензий, недоразумений, сплетен, интриг…»
Как мне все это знакомо!
Из кухни донесся звон разбитого стекла и душераздирающий женский визг. Неужели кто-то из придурков пробил окно собственной башкой? Следовало бы пойти проверить, что они там натворили, но меня охватило какое-то ватное безразличие. Мной владело одно единственное желание – удрать из этой мрачной ловушки, пожирающей мою волю. Клянусь, я бы так и поступил, если бы не последние остатки здравого смысла, – ведь мои портреты развешаны на всех столбах и меня бы схватили в первые же полчаса. Уж что-что, но свой немецкий народ я знаю! Так что не бу…
Еще один день с большим перерывом.
Не могу точно сосчитать, сколько дней прошло с последней записи. То ли пять, то ли шесть. За это время много чего произошло, всего не перескажешь. Меня тогда по-хамски прервали на полуслове. Людвиг по-пластунски выполз из кухни, неслышно подкрался ко мне сзади и выхватил дневник. Я вскочил и бросился на него, но он увернулся. Тут в салон с хохотом вломилась остальная братва и стала подначивать нас в надежде на развлечение. Людвиг бросил через мою голову дневник Курту, я подпрыгнул, пытаясь перехватить его в воздухе, но дневник пролетел под самым потолком, так что даже мой рост не помог. Курт ловко схватил тетрадь и опять через мою голову швырнул ее Эрику. Я сделал было рывок вверх, все радостно загоготали, тогда я волевым усилием затормозил себя на излете, развернулся, поднял с пола свои вещи и, не говоря ни слова, вышел на кухню.
На секунду-другую они застыли в обалдении, молча осознавая мой отказ от их игры, а потом залопотали, загрохотали стульями, заспорили о чем-то и сделали вид, что забыли обо мне. Черт их знает, может, и вправду забыли. Но тетрадь они не вернули.
На кухне был полный разор: в раковине гора грязной посуды, на столе хлебные крошки, огрызки сыра и чашки с недопитым кофе. Так что сесть к столу я не мог. Со спальным мешком мне тоже некуда было приткнуться, потому что пол был усеян лужицами пролитого пива и осколками разбитых пивных кружек.
Мне, конечно, следовало бы немедленно выйти в салон и ледяным тоном приказать им привести кухню в порядок. Но я не был уверен, что они послушаются: мое вчерашнее приобщение к их свальному греху сравняло меня с ними. Я сложил грязные чашки в раковину, все остальное смахнул на пол, сел к столу, и, стараясь не обращать внимания на окружающее меня свинство, опять раскрыл книгу о Бакунине.
Поначалу мне было трудно сосредоточиться – обрывки вчерашнего буйства сплетались перед глазами с моими унизительными прыжками вслед за пролетающей над головой красной тетрадью. Но постепенно подробности жизни этого фанатика свободы из прошлого века захватили меня. Я ведь почти забыл, что он был приговорен к смертной казни у нас, в Германии, в чужой ему стране. Его, правда, не казнили, а выдали русскому царю, – это было хуже всякой казни, потому что царь его ненавидел. Семь лет его держали в одиночке ужасной подземной тюрьмы, и это, пожалуй, было пострашней смерти. Потом его сослали в Сибирь, но он умудрился убежать из ссылки и удрать из России в Европу. Он поселился в Швейцарии и, хоть после тюрьмы и ссылки был страшно болен, опять взялся за старое.
Я вчитывался в его мысли и узнавал свои. Уже полтора века назад он понял, что наша цивилизация обречена и наш долг способствовать ее гибели, ибо чем скорее она погибнет, тем лучше. Я перелистнул несколько страниц и увидел старинную карту Дрездена, где прошло мое детство. От знакомых названий улиц в памяти открылась какая-то давно заржавевшая дверца, и из нее хлынули воспоминания о тех глупостях, которым меня учили в гедеэровской школе. Среди них нашлось и кое-что любопытное – наш знаменитый композитор Рихард Вагнер во время революции в Дрездене вел народ на баррикады рука об руку с русским богатырем Мишелем Бакуниным, с которым они были неразлучны. Только счастливое бегство сохранило для Германии этого великого человека, потому что он тоже был приговорен и провел в изгнании шестнадцать лет.
Я просмотрел еще несколько страниц – в противовес тому, чему меня учили, автор книги не столько восхищался революционным пылом Вагнера, сколько удивлялся, зачем ему понадобилось участвовать в восстании, когда он был главным дирижером королевской оперы. В верхней части страницы горделиво красовалось здание этой оперы, весьма роскошно расфуфыренное в модном тогда стиле позднего барокко, и действительно становилось непонятно, зачем из этого здания нужно было бежать на баррикады. Впрочем, лукаво отмечал автор, есть свидетельства, что на баррикадах Вагнера никто никогда не видел, он только ошивался вокруг, не в силах оторвать взгляд от синеглазого русского красавца.
От книги меня отвлек шорох робко отворяемой двери. Она нерешительно затрепыхалась под давлением чьей-то нетвердой руки и остановилась на полпути. В салоне было тихо, похоже, мои соратники опять накурились травки и заснули, – все, кроме того или той, чье напряженное дыхание доносилось из-за полуоткрытой двери. Я сжалился и сказал:
– Ну ладно, хватит там дышать. Или заходи или закрой дверь.
В щель просунулась кудлатая голова Людвига, отдельные пряди свисали до плеч сальными спиральками пшеничного цвета, – удивительно, почему они все так редко моют головы? Не входя в кухню, он молча шмыгнул носом и затих.
– Ну, чего тебе? – спросил я, начиная раздражаться, но Людвиг продолжал молча смотреть на меня из-под странно темных, может быть подкрашенных, ресниц. Я вспомнил, что именно он выхватил у меня дневник, и рявкнул:
– Вот что, или говори, или убирайся прочь!
И тут он заплакал. Заплакал беззвучно, я даже не представлял, что мужчина может так плакать. Слезы безостановочно текли по его совсем юным, едва тронутым бритвой щекам и обильным дождем орошали грязную, некогда розовую рубашку. Я не выдержал и, вскочив из-за стола, с силой тряхнул его за плечо:
– Перестань реветь! Чего ты хочешь?
Людвиг покачнулся и, гибко изогнувшись, прижался мокрым подбородком к моему запястью. Я невольно отдернул руку.
– Я вас люблю! – пытаясь вернуть мою руку на свое плечо, жарко зашептал он. – Я не сплю по ночам и мечтаю о вас. Пустите меня к себе, и я добуду у них вашу тетрадь.
Я попятился и постарался ногой вытолк…»
На этом месте страница кончилась, Ури потянулся за следующей, но там было что-то совершенно несоответствующее:
«…Рихард замечал, что на него все чаще находит угрюмость. Обычно это случалось в дождливую осеннюю пору, когда тягуче ныла все та же точка слева под ложечкой и в голову лезли мысли о смерти. Но иногда тоска наваливалась на него и в светлые дни, полные солнечных зайчиков, зеленого шелеста деревьев и лукавого переплеска струй в фонтане за окном. А когда уж на него находило, все вокруг затягивалось глухой черной пеленой – и свет, и зелень, и плеск фонтана.
В такие дни все становилось ему противно, даже собственная музыка, равной которой, – он знал, был уверен, – не мог создать никто из живущих. И надеялся, верил всей душой, что никто из грядущих вслед тоже не сможет. То, что сделал он, было подобно созданию новой религии: в его музыке пространство превращалось во время».
Ури с разбегу подумал – что за чушь? Но тут же сообразил, что он, не очень-то надеясь на успех расшифровки, копии с дневника снимал второпях, по нескольку страниц в разных местах. Значит, на предыдущей странице первая порция кончилась, а на этой началась вторая – какая жалость! – на самом интересном месте. А то, что он прочел сейчас, похоже скорей на прозу, чем на дневник. Неужто Карл с тоски начал писать прозу? Почему не стихи – стихи было бы естественней! И кто этот Рихард? Уж не Вагнер ли? Вагнер был Рихард, и его имя упоминалось на последней странице – в связи с Бакуниным и с баррикадами. Ладно, Вагнер, так Вагнер, тоже интересно.
«…Он садился за рояль, но пальцы теряли беглость и черная пелена угрюмости искажала любимые прозрачные звуки, делала их вялыми и пустыми. Тогда он звал Козиму…»
Раз Козиму, значит, точно, о Вагнере. В ранней юности Ури как-то купил у букиниста потрепанную биографию композитора и прочитал ее от корки до корки, – назло матери, которая требовала, чтобы он немедленно унес из дома «эту мерзость». Теперь он вспомнил, что вторую жену Вагнера, дочь его друга, великого пианиста Франца Листа, звали Козима, – она была на двадцать с чем-то лет моложе мужа и, пережила его на полвека, хоть всегда мечтала умереть с ним в один день.
«…Если она не являлась немедленно, он начинал сердито стучать по столу костяшками пальцев и раздраженно кричать: «Козима! Козима!», потом замечал, как хрипло звучит его голос, пугался и умолкал.
Тут, запыхавшись прибегала Козима, взъерошенная и несчастная, – она, как всегда, была занята с детьми или по хозяйству. У нее вечно что-нибудь выкипало или кто-нибудь плакал и не хотел принимать лекарство. Но Рихард был неумолим, он говорил: «Пусть себе плачет и выкипает», и просил ее сыграть ему что-нибудь самое дорогое его сердцу, вроде хора пилигримов из «Тангейзера». Она со вздохом садилась к роялю и начинала играть. Всегда, когда на него находило, она играла из рук вон плохо, или, может, она играла хорошо, а музыка его никуда не годилась – откуда он взял, что в мире нет ему равных? Впрочем, так оно и было – они не были ему равны, все эти еврейско-итальянские скорописцы, они не были ему равны, они были гораздо лучше.
И тогда вспоминалось все обидное, что с ним случилось за его долгую, полную горечи жизнь – как неотступные венские кредиторы гонялись за ним по всей Европе и как надменно улыбнулся ему Мендельсон, когда «Тангейзера» освистали в Париже. Но чаще всего из глубин памяти выплывали строки из недавно пересланного ему каким-то доброжелателем письма директора Берлинской оперы: «Вы, я надеюсь не ослепли настолько, чтобы не заметить провала в Байройте и провала в Лондоне, где публика толпой бежала вон из зала во время исполнения отрывков из Кольца Нибелунгов?» Публика бежала толпой, а толпа как бежала, публикой? Тоже мне, ценители музыки!»
После этих слов шел небольшой пробел и какой-то невнятный рисунок, – то ли чей-то профиль, то ли силуэт летящей птицы, перечеркнутый косой решеткой. Под рисунком – загибающаяся книзу размашистая черта, а под ней – тоже размашистый абзац:
«Интересно, когда они принесут мне, наконец, дневники Козимы? Что-то они стали лениться и хуже выполнять мои приказы. Может быть, стоит объявить голодовку? То-то они забегают! Кто бы мог подумать, что даже в тюрьме есть свои положительные моменты? Ведь иногда трудно понять, кто от кого больше зависит – они от меня или я от них. Тогда в глубине души начинает шевелиться подленькая мыслишка: а стоит ли суетиться и искать пути бегства? Не проще ли спокойно догнить в этом комфортабельном бетонном мешке, упражняя свой ум необъятным простором чтения и интеллектуальных игр? Конечно, порой бывает одиноко, но разве когда-нибудь я мог найти себе более интересного собеседника, чем я сам?»
Абзац отчеркивала снизу еще одна размашистая черта, а под ней опять шел текст, очень плотный, – плотней, чем предыдущий. Ури уже приноровился к шифровке, и чтение пошло легче; однако прежде, чем приступить к дальнейшей расшифровке, он расправил затекшие ноги и глянул на часы. Еще не было пяти, а читальный зал откроют только в девять. Хоть во рту пересохло и глаза начали уставать, сюжет в дневнике развивался гораздо увлекательней, чем Ури мог предположить. Ури постепенно проникался истинным, а не спровоцированным ревностью интересом к своему отталкивающему и притягательному сопернику. Впрочем, мог ли он назвать Карла своим соперником? Ведь их пути и в жизни, и в душе Инге даже не пересекались? Ури снял кроссовки, принес еще один стул, положил на него ноги в носках и погрузился в полный неожиданностей мир, созданный чужой, очень чуждой, фантазией.
«Когда нарочный привез посылку от Шнапауфа, Рихард велел принести коробку к нему в кабинет на третий этаж и оставить на угловом столике под стоячей лампой. Горничная зажгла лампу и принялась суетиться вокруг коробки, нацеливаясь ножницами разрезать веревки. Но он цыкнул на нее, чтоб скорей убралась прочь и закрыла за собой дверь. Скользнув взглядом вслед ее обиженно уплывающей спине, он заметил затаившееся в полутьме галереи бледное лицо Козимы, молящее впустить ее и приобщить к церемонии вскрытия коробки. Но он не снизошел, дверь захлопнулась, и лицо исчезло. Ему даже привиделось, что когда дверь почти коснулась косяка, лицо Козимы дрогнуло, как от пощечины, но это дела не меняло – Рихард хотел открыть посылку в одиночестве, чтобы никто не помешал ему насладиться вволю.
Он подхватил коробку и спустился по винтовой лесенке на второй этаж, в свою гардеробную комнату, обе двери которой можно было запереть изнутри. Винтовые лесенки, соединяющие спальни третьего этажа с умывальными и гардеробными второго, были его личным изобретением, которым он гордился. Лесенки были встроены во внутренние углы комнат и напоминали ему хитроумное строение человеческого тела, в котором все грязное и низменное спрятано глубоко под кожей, так что для обозрения остается лишь красивое и возвышенное. В его доме гости видели только высокий, уходящий под крышу сводчатый зал и грациозные галереи, окаймляющие второй и третий этаж, тогда как интимная жизнь обитателей дома была скрыта от чужих глаз.
Рихард запер обе двери и, быстро разрезав веревки, жадно запустил руки в прохладную глубину коробки. Пробежав кончиками пальцев по ласковым складкам шелка, он собрал их в тугой жгут и быстрым коварным движением выплеснул на пол полдюжины отороченных кружевами сорочек и три атласных халата – розовый, лиловый и абрикосовый, – украшенных ажурной вышивкой по вороту и у запястий. Потом поспешно сорвал с себя стеганую домашнюю куртку и, секунду поколебавшись, с какого халата начать, набросил на плечи лиловый, сунул руки в рукава и чуть покачивая бедрами, пошел к высокому стенному зеркалу. Подобрав фалды подола округлым движением согнутой в локте руки, он привстал перед зеркалом на цыпочки и залюбовался трепетными бликами света на фиалковой глади атласа. Хоть до вечера было далеко, за окном стоял белесый зимний сумрак, и свет лампы у него за спиной скрывал его черты в дымчато-сиреневой тени. Небольшая фигурка перед зеркалом просеменила балетным шагом вправо, потом, высоко взметнув расклешенный подол, сделала мелкий пируэт влево и засмеялась, откинув назад большую кудрявую голову на тонкой шее. Рихарду определенно нравился этот, отраженный в зеркале полутенями хрупкий силуэт неопределенного пола. Именно этого Козима и боялась.
Козима вообще имела склонность к самым разным страхам и тревогам. Она боялась детских болезней, неуклонно растущих долгов и причуд короля Людвига – как его немилости, так и его чрезмерной милости. А уж в прошлом году из-за открытия фестиваля причин для страхов и тревог было хоть отбавляй. Король дал знать, что прибывает августа третьего, в полночь, нужно было среди ночи ехать его встречать. Козима ни за что не хотела отпускать Рихарда одного, она увязалась за ним на станцию, но ему в конце концов удалось отправить ее домой, ссылаясь на то, что дети там одни и могут внезапно проснуться. Она нехотя уехала, все озираясь на них с королем, который хоть уже не сверкал былой юной прелестью, но все еще был молод и хорош собой.
Она уехала, а Рихард последовал за королем в загородный дворец Эрмитаж, полный романтической прелести, особо неотразимой при свете луны. Король прибыл налегке, без свиты, с ним были только денщик и адъютант, которые, устроив комфорт короля, скромно удалились и оставили их наедине. Прошлое, конечно, уже отошло, уже не было той страсти, того опьянения, но все же славно было провести с королем несколько ночных часов в память о былой любви.
Домой Рихард вернулся уже на рассвете и, секунду поколебавшись, приоткрыл дверь в спальню Козимы. Она, как он и ожидал, не спала и плакала, но он уже давно научился справляться с ее настроениями. Он стал на колени у ее постели, взял ее ладонь в свои и прижался к ней щекой. Она слабым голосом спросила:
– Что так долго?
– Король хотел знать все подробности про фестиваль. Ты же понимаешь, что я не мог ему отказать. Наши дела так зависят от его щедрости.
Последняя фраза была чистой правдой, но именно на нее Козима быстро нашла возражение:
– Мы можем обойтись без него, если возьмем деньги, оставленные мне мамой, и заложим дом.
Как будто Рихард только и мечтал заложить дом и истратить деньги, оставленные ее матерью! Но он подавил раздражение и прошептал, поглаживая ее мокрое от слез лицо:
– Я знаю, что тебе ничего для меня не жаль. Я только не понимаю, чем я заслужил такую любовь. Ты настолько лучше, прекрасней и благородней, чем я!
Она тут же ему поверила и вспомнила, наконец, что должна заботится о нем:
– Иди, ложись, ты ведь, наверно, страшно устал. А завтра такой тяжелый день – репетиция «Валькирий» в присутствии публики.
Публика, о Боже! Толпа! Она видит только то, что представлено на сцене, не в состоянии понять глубинных смыслов и страстей, таящихся за внешним фасадом. Но без публики никакой успех невозможен.
Рихард сбросил на пол лиловый халат и надел розовый. Этот был совсем другого фасона, широкий в плечах, он далеко запахивался на талии и сужался книзу. В нем Рихард казался гораздо выше и уже не чувствовал себя таким крошкой. Кто знает, может, будь он чуть богаче и выше ростом, он бы не боролся с таким упорством за воплощение своих замыслов? Не боролся бы и не добился бы своего – не построил бы собственный театр в Байройте и не осуществил бы там прошлым летом свой первый фестиваль. И какой фестиваль – «Кольцо Нибелунгов» было сыграно три раза подряд, все четыре части, про которые музыкальные жиды заранее присудили, что поставить их невозможно!
Однако он совершил невозможное, он собрал вместе сто пятьдесят выдающихся музыкантов и посадил их в оркестровую яму, какой больше нет нигде, ни в одном театре в мире. Тому, кто не присутствовал при этом, трудно представить, какой вдохновляющий эффект производит на слушателей невидимый оркестр. Ах, продолжить бы это, продолжить, но, увы! – в этом году фестиваль провести не удалось. Честно говоря, Рихард не знал, огорчаться этому или радоваться, – слишком уж много сил ушло тогда на организацию спектаклей и на постоянную борьбу с трудностями, особенно с финансовыми. Ведь им до сих пор не удалось расплатиться с прошлогодними долгами. Он лично не страдал от безденежья так, как Козима, он с юности привык, что денег всегда не хватает, однако обидно, что, несмотря на успех, дефицит после фестиваля, оказался непомерный. Покрыть его можно только, если пойти на поклон к сильным мира сего.
И он не почел за стыд, он, Рихард Вагнер, пошел и поклонился. Поклонился раз, и другой, и третий. И где же они, эти богатые покровители искусств? Что-то не бегут они на подмогу, протягивая свои туго набитые кошельки. Только один нашелся, граф Магнис фон Уллерсдорф, прислал пять тысяч марок, впрочем, неправда, не один – еще какая-то старая дама из Нюренберга отвалила от своей пенсии сто марок. Но что такое пять тысяч марок при дефиците в сто пятьдесят тысяч, даже если к ним добавить оторванную от старушечьего убожества сотню? А других благодетелей пока не видно. Впрочем, это неудивительно, ведь богатые люди – в большинстве евреи, чего же от них ждать? А остальные, если и не евреи, так верят в жалкую ненавистную ложь газет.
Рихард набросил абрикосовый халат поверх розового и присел на край ванны. Ванна тоже была построена по его проекту. В стену над ней была впрессована огромная перламутровая раковина, напоминающая о морских тайнах. Слава Богу, он не водит сюда журналистов, а то бы они обязательно настрочили очередные памфлеты о том, как он, жалуясь на неподъемный дефицит, только и делает, что балует себя роскошью. На прошлой неделе он прочел объявление в «Новой Свободной Прессе», в котором они обещают опубликовать его давние письма к одной венской модистке, разоблачающие его расточительство. Они не пожалели денег, чтобы выкупить у нее эти письма и напечатать в своей жалкой газетенке длиннющий список его заказов и капризов, всех этих халатов, жакетов, панталон и башмаков.
Да, он расточителен и балует себя роскошью, ему это необходимо, чтобы воссоздать в музыке несуществующий мир своей фантазии. Его фантазия нуждается в этой роскоши, в этом баловстве! Разве можно кому-нибудь объяснить, какой это адский труд – писать музыку? Этому нельзя научиться, это каждый раз надо начинать сначала. Для этого ему нужно полностью оградить себя от внешнего мира, с помощью вышитых подушек, бархатных гардин и пряных благовоний, не допускающих до него пошлые, будничные запахи реальной жизни.
Он раздраженно сорвал с себя оба халата и сделал несколько мелких шажков вдоль линии паркета, представляя себя на месте юного канатоходца, искусство которого недавно так восхитило его. В тот день они с Козимой во время прогулки случайно зашли в бродячий цирк, разбивший свой шатер на базарной площади. Стоя в толпе, глазеющей на представление, Рихард с увлечением следил, как юноша грациозно идет по канату до самой крыши, бесстрашно улыбаясь глядящим на него снизу людям. Вдруг Рихард заметил, что Козимы нет рядом с ним. Он протиснулся сквозь толпу и нашел ее снаружи, за деревом. Плотно закрывши глаза ладонями, она стояла, прижимаясь лицом к морщинистому стволу. «Я не могу спокойно смотреть, как человек так отчаянно рискует жизнью в борьбе за свое жалкое существование». «При этом ты имеешь в виду меня?» – спросил ее тогда Рихард, а она зашептала испуганно, словно опасаясь, что кто-нибудь их подслушает: «Нет, нет, что ты!». А на днях кто-то рассказал Козиме, что отважный юноша погиб в Регенсбурге, сорвавшись с каната во время представления.
Вешая халаты в шкаф, он услышал, как Козима тихонько поскреблась в дверь, соединяющую ее гардеробную с его, и тревожно спросила:
– У тебя все в порядке?
Он глянул за окно, на улице уже сгущались сумерки. Сколько же времени он провел тут, погруженный в свои мысли?
– Да, да, я скоро выхожу! – неохотно отозвался он, не желая чрезмерно огорчать ее, ведь он и так был перед нею виноват. Чтобы скрыть от нее часть присланных ему из Парижа вещей, он начал торопливо убирать сорочки в комод и только тут заметил эту газету. Он, наверно, видел ее и раньше, но не обратил внимания – обыкновенная старая газета, которой было устлано дно картонной коробки.
А сейчас вдруг увидел! С пожелтевшего скомканного листка на него глядело обведенное траурной рамкой лицо Мишеля Бакунина. Нет, не то лицо, которое он так хорошо знал и много лет после тех событий часто видел во сне, а другое, отечное, тяжелое, больное, но все же узнаваемое. Потому что этого человека ни с кем нельзя было спутать. Рихард схватил газету, – была она парижская, не газета даже, а газетенка, вроде той, что грозится опубликовать его письма к венской модистке. Жалкий листок какого-то международного Альянса на убогой дешевой бумаге. Боже мой, с каким только отребьем водится Джудит!
Несмотря на то, что газетенка была сильно смята и топорщилась бахромой по углам, Рихард все же разглядел верхнюю строчку слева: она была от четвертого июля семьдесят шестого года. Почти от того самого дня, когда в его жизнь непредвиденно ворвалась Джудит. Выходит, со смерти Мишеля прошло уже полтора года, а он и не знал. Даже и не почувствовал, что Мишеля нет в живых, а ведь в каком-то затаенном уголке души тот присутствовал всегда, время от времени покалывая и садня, как больной зуб. Рихард попытался прочесть то, что было написано под фотографией, хоть кое-какие фразы стерлись до полной неразборчивости, а кое-какие он не смог понять из-за своего французского языка, прихрамывающего даже после того, как он изрядно ему подучился переписываясь с Джудит:
«Вчера, 3 июля 1876 года, на православном кладбище швейцарского города Берна были преданы земле останки покойного Мишеля Бакунина. Навсегда ушел от нас мятежник, вагабунд, прирожденный партизан революции. Не забудем его слова:
«…буду счастлив, когда весь мир будет стоять в пламени разрушения…и чтобы легко вздохнуть наследникам, надо хоронить мертвеца. Это буйство похорон и есть моя жизнь…
…ни смертный приговор, ни годы тюрьмы не смогли сломить…»
Похоже, Мишель мало изменился за эти годы. Все тот же фейерверк лозунгов и парадоксов. «А ведь как он тогда увлек меня, как окрылил!» – подумалось, пока глаза искали смысл, скрытый в наполовину стершихся строчках:
«…в истории дальше уходит тот, кто не знает, куда идет… Страсть к разрушению – это созидательная страсть…»
Рихард явственно, со всеми тончайшими модуляциями, услышал, как Мишель мог произнести эти слова, – голос у него, небось, остался все тот же, громовой, от такого голоса рушатся стены. И вспомнилось, как Мишель поразил его при первой встрече. Могучий, синеглазый, незнающий страха, он говорил возвышенно и блестяще, уверенно рассекая воздух крупной ладонью с красивыми длинными пальцами. Рядом с этим гигантом Рихард почувствовал себя совсем крошкой, и сердце его сперва сжалось в комок, а потом до невозможности расширилось, готовое взорваться. Перед ним был подлинный Зигфрид, прекрасный, синеглазый, не знающий страха. Сам Рихард хорошо знал страх, и потому бесстрашие Мишеля так его увлекало.
Он расправил газету. Следующий абзац был почти в сохранности:
«Свои последние дни М.Б. провел в городской больнице Берна, куда попал сразу после своего приезда из Лугано, где он проживал в последние годы на принадлежащей ему Вилле Брессо».
Значит, Мишель жил в Швейцарии, совсем неподалеку от тех мест, где и Рихард провел много лет. Да и часто с тех пор часто бывал наездами. Он ведь, собственно, знал об этом, – то ли слышал, то ли читал в газетах. Знал, наверняка знал, но как-то изловчился вытолкнуть из памяти, чтоб не давило, не напоминало, не беспокоило уколами совести. И ни разу не попытался найти Мишеля, черкнуть ему письмишко, условиться о встрече. Но и Мишель тоже хорош, – предположим, у Рихарда были причины избегать Мишеля, но ведь и Мишель не попытался с ним связаться. А не мог не знать, что Рихард живет в Байройте. Последние годы он стал знаменит, о нем много и зло писали жиды и журналисты, что, в сущности, одно и то же. Особенно после успеха прошлогоднего фестиваля, который они стремились объявить провалом. Что ж, возможно, и у Мишеля были свои причины избегать Рихарда. Например, эта Вилла Брессо, якобы принадлежащая ему. Ему, человеку, страстно отвергавшему саму идею собственности? Впрочем, журналистам ни в чем нельзя верить, равно как и жидам. Очень может быть, что такой виллы вообще нет на свете, – интересно, кем подписан этот некролог?
Рихард перевернул смятый листок и поглядел на подпись – «группа друзей», и прямо через абзац над подписью вдруг увидел свое имя. Сердце на миг екнуло – «неужто пронюхали?» – и он стал торопливо читать:
«Последний раз М.Б. покинул стены больницы, чтобы посетить своего друга, пианиста Адольфа Райхеля, который сыграл ему несколько вещей его любимого Бетховена. «Наш мир погибнет, – сказал Мишель, слушавший музыку стоя, поскольку сильные боли не позволяли ему сидеть, – и только Девятая Симфония останется». И он вспомнил, как в 49 году в Дрездене, прямо накануне восстания, ему посчастливилось присутствовать при необыкновенном исполнении Девятой Симфонии Бетховена. Дирижировал ныне прославленный композитор Рихард Вагнер. И, перейдя к последним произведениям своего бывшего соратника и друга, Мишель, превозмогая боль, высказал неодобрение по их поводу».