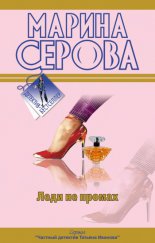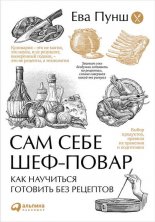Двухмерный аквариум для крошечных человечков Йегерфельд Йенни

Без фамилии, просто Томас.
Немного поколебавшись, я нажала на кнопку «Вызов».
Напряженная, как струна, я стояла, прижав трубку к уху, слушая монотонные гудки. Я понятия не имела, что делать дальше, что сказать, если он ответит. Томас. Я почесала большой палец, и боль тут же пронзила руку до самого предплечья.
Но волновалась я напрасно. После ожидания, показавшегося мне бесконечным, внезапно включился автоответчик.
«Здравствуйте, вы позвонили Томасу. Оставьте свое имя и номер и телефона, и я вам перезвоню. Чао!»
Прозвучал сигнал автоответчика. Я продолжала молча стоять, как парализованная. «Чао». Кто вообще в наше время говорит «чао»?! Мне нужно было что-то сказать, но я молчала, а секунды все шли. В трубке раздался повторный сигнал, за которым последовали короткие гудки. Я слишком долго ждала. После мучительных раздумий я решила так легко не сдаваться. Я снова набрала номер. Гудки. Автоответчик.
— Здравствуйте, меня зовут Майя. Я… дочь Яны, возможно, вы ее знаете — Яна Мюллер?
Я попросила его мне перезвонить, второпях перепутав цифры своего телефона, так что мне пришлось повторить номер еще раз. Потом я положила трубку и вышла из кухни.
Я выпила маминого травяного чаю с привкусом соломы, поела рисовых крекеров с сырным вкусом и даже выкурила одну из вонючих сигарилл, найденных в кухонном шкафу над плитой.
Так вот, значит, что ей нравится, констатировала я некоторое время спустя, выблевывая пропахшие табаком и набухшие от травяного чая остатки рисовых крекеров в фарфоровое чрево унитаза. Все эти чуждые мне вкусы были для нее вполне привычны.
А может, она вообще случайно купила эти крекеры — скажем, на них было спецпредложение, или она задумалась и взяла первую попавшуюся упаковку.
А я тут делаю свои поспешные выводы, как какой-нибудь новичок-археолог.
Что я знала?
Что я знала о ней?
Что я вообще знала о жизни?
Да ничего.
Мне хотелось навсегда остаться тут, в надежных объятиях фарфорового нутра. И все же я встала, стараясь не задеть головой стенок унитаза. Я же все-таки не совсем чокнутая. Честное слово. Я опустила сиденье и спустила воду. Облокотилась на крышку унитаза, как алкаш на барную стойку, оторвала кусок туалетной бумаги и вытерла рот.
Ну что же. Может, я и вправду узнала ее чуточку лучше.
Но я все равно не понимала, почему она меня бросила.
Вымыв лицо, я услышала, как наверху тренькнул мобильный. СМС!
Может, это от мамы?
Я преодолела лестницу в пять прыжков и бросилась к кровати. Сообщение было от Энцо, и я испытала укол разочарования. Но, прочитав СМС, я приободрилась. Оно напомнило мне о другой жизни в другом городе. Там, где у меня были отец и друг. Там, где я была не одинока.
Салют! Чем занимаешься? Как твой палец? Как жизнь в провинции? Хотел просто рассказать — я наконец купил «Контроль»! Мои неотпиленные пальцы так и тянутся открыть коробку и поставить фильм, но я, так и быть, дождусь твоего возвращения. Посмотрим в понедельник вечером? Умоляю, скажи «Да»! Э.
Я улыбнулась и провела рукой по волосам. Челка была мокрой, и я сообразила, что окунула ее в унитаз.
Салют, компадре! Отвечаю на твои вопросы: а) я блюю, б) палец болит, поскольку какой-то кретин отпилил от него кусок, в) провинция… странно. Увидимся в понедельник, заодно поможешь мне постричься… М.
Мне пришлось выйти подышать свежим воздухом. Отойти от этой дурацкой сигариллы оказалось непросто. Волны тошноты то и дело сотрясали мой желудок, подкатывая все выше. Усевшись на верхнюю ступеньку, я пыталась надеть ботинки без помощи левой руки, когда из-за живой изгороди вынырнула знакомая голова. Джастин.
Он помахал мне рукой. Я встала. Спустилась по лестнице и в нерешительности остановилась на нижней ступеньке. Я вдруг вспомнила, что не переодевалась со вчерашнего вечера. Ярко-зеленые треники в карман не спрячешь, хорошо еще, что я успела снять подтяжки.
— Привет, — сказал он, переводя дух.
Его щеки были красными от напряжения, а глаза сияли ледяной голубизной. У него были такие светлые ресницы, что их почти не было видно.
— Привет… Джастин, — ответила я и подошла к дороге. Меня снова поразило то, какой он длинный.
— Вообще-то, я не Джастин, — сказал он, и мои щеки мгновенно покрылись румянцем, став того же цвета, что и его. Я ждала продолжения, но его не последовало. Мы так и стояли, молча глядя друг на друга, и лишь его дыхание нарушало тишину. Ну, если, конечно, не считать всего остального, вроде шума проезжающих машин, птиц и моего колотящегося сердца.
— Ну как ты? — спросил он.
На нем были те же штаны, что и вчера: значит, не одна я не успела переодеться. Хоть что-то общее. Мне нравилось, что у нас есть что-то общее. И румянец ему к лицу.
— Да так, ничего.
— Как нога?
Я удивилась: «Нога? А что с ногой?» — в то время как он затянулся сигаретой, зажатой, как в гангстерских фильмах, между большим и указательным пальцами. И тут в памяти всплыло его лицо, склонившееся над моей ступней; я вспомнила, как это было приятно, и внутри разлилось тепло. Что в принципе, конечно, странно.
— Ах да, нога! Нормально, все хорошо, — ответила я и задрала ногу, как последняя дура, но тут же опустила. Он смотрел на меня, не отрываясь. Я улыбнулась.
— Ну а ты как? — спросила я.
— Хорошо. Убрался в доме. Не мог заснуть.
Он сделал еще одну затяжку, выпустив несколько колечек дыма.
— Что-то я не видел, как ты вчера ушла.
— Нет.
Он удивленно поднял брови.
— Что нет?
— Я… просто ушла, — сказала я.
— Да?
— Да.
— У вас в Стокгольме все так делают?
— Нет. Ну или не знаю, не думаю. Я… э-э…
Он исчез за изгородью, и мои «я…» и «э-э…» повисли в воздухе, как назойливые насекомые. Через просвет между кустами, где было меньше веток и листьев, я разглядела, как он тушит сигарету о подошву. Я пожалела, что у меня нет фотоаппарата. Тлеющий окурок, его белые кеды, рыжая челка — все это сквозь фильтр ярко-зеленой листвы. Он снова вынырнул из-за кустов и зашелся в кашле, спрятав лицо в сгибе локтя.
Мы продолжали стоять по разные стороны изгороди, дожидаясь, пока кашель уймется. Интересно, это у него от курения или от простуды? Прокашлявшись, он сказал:
— Мне надо съездить в пункт вторсырья.
— Окей…
Он кивнул на вишневый «вольво», на который я обратила внимание вчера вечером.
— Мама скоро приедет, она меня убьет, если увидит столько бутылок. Хочешь со мной?
Этот вопрос привел меня в замешательство.
— Прямо сейчас?
— Ну да.
Я пытливо посмотрела на него, отыскивая в его взгляде скрытую насмешку или какие-нибудь тайные намерения. Но напрасно. Ничего такого я не увидела. Правда, особой проницательностью я никогда не отличалась. Я пожала плечами.
— Ладно.
Водил он как профессиональный угонщик, и мне это нравилось. Мне сейчас нравилось все, что могло отвлечь от тягостных мыслей. Аляповатая Дева Мария, болтающаяся на зеркале заднего вида, тряслась при каждом рывке и резком торможении. Мы молчали. По радио передавали Blumchen «Heut’ ist mein tag»[12], и я уже заранее знала, что мотивчик привяжется надолго, но даже это меня не беспокоило.
Мы отлично работали в паре, он и я. Эффективно, как слаженная команда.
Я выбрасывала металл, он — картон.
Он пластмассу, я — стекло.
Я специально выбрала стекло. С грохотом швыряла бутылки в черное жерло. Слышала, как они разбиваются друг о дружку. Пролила пиво на повязку и мечтала об одном — чтобы тишина никогда не наступила. Мне хотелось быть среди грохота и звона, но бутылок оставалось все меньше — и вот разбилась последняя: моя работа окончена. Стало тихо.
— А твоя мама, вообще-то, не хочет провести с тобой время, пока ты здесь? — спросил он.
— Не думаю, — честно ответила я.
Он вопросительно поднял брови.
— Не знаю, в чем фишка, но какая-то ты на редкость честная. Это даже как-то освежает. Ты всегда такая?
— Нет, — ответила я со свойственной мне освежающей честностью, и он рассмеялся.
— Как-то не хочется домой, — продолжил Джастин. — Такая отличная погода.
— Хочешь покататься на байдарке? — предложил он и закашлялся прямо мне в лицо, забрызгав мою щеку слюной.
— Ой, прости.
Я подняла было ладонь, чтобы вытереться, но он меня опередил.
— Дай я, — он улыбнулся и вытер мне щеку рукавом своей куртки. Ткань была жесткой, а его запястье — теплым и мягким.
Несколько черных волосинок моей челки зацепились за кнопку на его рукаве, и он случайно выдернул их, но я промолчала, наблюдая, как они плавно следуют за рукой, словно изысканный шлейф.
Интересно, он всем так мило улыбается? Наверное. Но какая разница?
Мы поехали на озеро Огельшен на окраине Норрчёпинга. Он курил в машине, я такого не видела с тех пор, как пять лет назад побывала в Германии, так что мне пришлось дышать через шарф. Заметив это, он открыл окно, велев мне сделать то же самое. Машину продувало насквозь, поэтому расслышать что-то, кроме шума ветра, было совершенно нереально. Зато сигаретным дымом не пахло.
Берег озера оказался холмистым и заросшим деревьями. По словам Джастина, с северной стороны берег был скалистым, и скалы уходили отвесно в воду, но этого отсюда было не разглядеть.
Он хранил байдарку рядом с маленьким домиком с облупившейся серо-голубой краской, на деревянной стойке под большим куском брезента. Джастин отцепил резиновые петли, привычным жестом сунув их в задний карман, и откинул брезент. Ткань с оглушительным хлопком упала на землю, открывая желтую, как одуванчик, одноместную байдарку. Довольно длинную — пять-шесть метров, не меньше. Он поднял ее и потащил к воде.
— Похожа на большой банан, — сказала я, и он остановился с тяжеленной байдаркой в длинных напряженных руках.
Я догнала его — он так ослепительно улыбался моей убогой шутке, что я не выдержала и обняла его. Я изо всех сил обхватила его правой рукой, чуть щадя левую, потом запустила пальцы в его рыжую челку и закрыла глаза — волосы его оказались необычайно мягкими. Сначала я обнимала его поверх свитера, потом запустила ладони под свитер, всей кожей ощущая теплое, напружиненное тело человека с тяжелой байдаркой в руках.
Черт, да что я творю?! Он же для меня слишком взрослый. Слишком взрослый, слишком длинный, я его вообще не знаю. К тому же не мой тип.
Впрочем, кого я обманываю. Как будто у меня есть любимый тип.
В конце концов он застонал, но не от страсти, а от напряжения — байдарка весила довольно прилично. И я опомнилась:
— Ой, совсем забыла… Байдарка…
Хотя ничего я, конечно, не забыла. Как можно забыть, что человек, на которого ты смотришь, держит здоровенную желтую байдарку?!
Я разжала руки, не зная, куда их девать, и они повисли плетьми. Он посмотрел на меня как-то странно, с прищуром, но ничего не сказал. Щеки мои запылали — я уже не понимала, что со мной происходит, может, я схожу с ума? Мне не хотелось так думать, но в голову закралась мысль: может, это наследственное?
Сошла с ума?
Или просто немного влюбилась?
Он отнес эту здоровенную желтую дуру по ухабистому откосу к кромке воды, я попыталась было возразить, что все равно не смогу грести с забинтованной рукой, но он только пробурчал что-то невнятное, я так и не поняла, что он хотел этим сказать. У меня почти не было опыта общения с людьми, занятыми физическим трудом. Да и опыта физического труда у меня было маловато. Да что там, любого физического, телесного опыта. Он бережно опустил байдарку на воду, закрепив ее у причала при помощи тех самых резиновых петель.
Потом он осторожно сел в байдарку, закачавшуюся на волнах.
— Это морской каяк, — сказал он. Я понятия не имела, что мне делать с этой информацией, поэтому промолчала.
Он показал, как нужно сидеть, с прямой спиной и полусогнутыми ногами. Показал, как грести, как наваливаться всем телом на весла, как использовать пресс и даже мышцы ног. Пока он все это объяснял, над нами собрались тучи. Он показал, как удерживать равновесие. Я отнекивалась, как могла. Не хочу, не могу, у меня не получится. Да и вообще, как я буду грести, когда у меня палец разрывается от боли?
Но он сказал:
— Если проплывет другая лодка, не пугайся. Могут подняться волны, так ты просто плыви на них. Прямо против волн. Греби изо всех сил и иди против волн.
Как ни странно, это мне понравилось. Вот это мне понравилось. Я быстро выдавила четыре таблетки из упаковки и мгновение спустя уже стояла напротив него в неоново-оранжевом спасательном жилете со свистком, болтающимся на груди, пока он обвязывал мне руку полиэтиленовым пакетом, чтобы не намочить повязку. Он помог мне сесть в байдарку, приобняв за спину, — в эту минуту голова у меня слегка закружилась, ну или просто каяк был «верткий», по его выражению.
Вначале байдарка шла без моего участия, мне было тяжело держать весло из-за пальца и скользкого пакета, рука чертовски болела, но вскоре я приноровилась и научилась управлять, придя к выводу, что опрокинуть каяк куда сложнее, чем мне казалось. Джастин орал, сотрясая скалы, что у меня талант, но мне в это не верилось. И все же я улыбалась, когда он не видел, и упорно гребла против волн.
Поверхность воды была зеркально гладкой, в мраморных серых разводах от отражающихся облаков. Было тихо, словно ночью, и я слышала лишь плеск весел и собственное дыхание. Я наблюдала, как от капель с весел расходятся круги по воде. Проплыла мимо мостков, мимо дерева, ветви которого спускались к самой воде, мимо кирпично-красного лодочного домика, погладила рукой поверхность мутной зеленоватой воды, и она сомкнулась над моей ладонью, ответив мне ледяной лаской. Я никого не видела, никого не слышала — ни других лодок, ни людей. Каяк медленно плыл вперед, мимо небольшого острова со скалистыми берегами и стройными соснами. Большие желтые кувшинки с длинными стеблями до самого дна. Я попыталась сорвать одну, но стебель оказался таким крепким, что байдарка опасно закачалась, и мне пришлось его отпустить.
Я ни о чем не думала. Ничего не чувствовала. Ни боли. Ни тоски.
Я отпустила весла и зажмурилась, дыша полной грудью, скользя по воде. Я устремила взгляд в небо, где светло-серые тучи нависали воздушным потолком.
— Так где же все-таки твоя мама? — спросил Джастин, подъезжая к дому своих родителей.
Он повернул ключ зажигания, и мотор смолк, но радио продолжало играть. В салоне звучал сингл Майкла Джексона «Smooth Criminal», только в ускоренном темпе и с бешеными басами и барабанами.
- Annie, are you okay?
- So, Annie, are you okay?
- Are you okay, Annie?[14]
Я взглянула на мамины окна, за которыми было темным-темно. Дом из-за отсутствия штор выглядел крайне негостеприимным, почти заброшенным. Джастин проследил за моим взглядом.
— Не знаю, — честно ответила я.
— Не знаешь?
— Нет.
— Ну хорошо, а когда она вернется, знаешь?
— Не знаю.
- Annie, are you okay?
- So, Annie, are you okay?
- Are you okay, Annie?
Он развернулся ко мне и легонько погладил по руке, ласково и чуть щекотно. Я посмотрела на его руку, на широкую ладонь, длинные пальцы с траурной каймой под ногтями. Зачем он меня гладит? Зачем обо мне беспокоится? Что это — братские чувства? Приглашение к сексу? Однако тут я вдруг вспомнила, что случилось у озера, и кто там кого трогал и к чему приглашал.
— Слушай … мне жутко неудобно, что все так вышло… ну там… у озера… что я тебя обняла, пока ты… держал каяк.
Он рассмеялся, запрокинув голову. Видимо, он хотел изобразить непринужденность, однако выглядело это так, будто у него шею свело. Его ладонь как бы нечаянно соскользнула с моей руки.
— Да ладно тебе, — сказал он. — Мне не привыкать. Шучу, шучу.
Он смущенно кашлянул и отвернулся к окну, я же продолжала украдкой его разглядывать. Он покраснел, и я невольно улыбнулась. Мысль о том, что мне удалось его смутить, почему-то наполняла меня торжеством.
Он снова прочистил горло и вдруг закашлял в полную силу. Его театральное покашливание превратилось в самый настоящий приступ, со слезами на глазах и клокочущей в горле мокротой. Теперь наступила моя очередь отвернуться — смущать его мне понравилось, однако всему есть предел. Когда приступ прошел, Джастин высморкался в салфетку, выуженную из кармана куртки, и сказал:
— Ну, слушай… Она же, наверное, должна скоро вернуться? Вечером-то уж точно?
Голос его при этом звучал до странного напряженно.
Свет погас, так что теперь мы сидели в темноте, и я наблюдала, как на зеркале заднего вида раскачивается силуэт Девы Марии.
— Я не знаю. Правда.
Я открыла дверь и вышла из машины — потому что мне стало стыдно. Стыдно за маму, которой нигде нет. Стыдно за себя, потому что я — дочь матери, которой нигде нет. Стыдно, что она мной пренебрегла.
Не-Джастин так и сидел в машине с прижатой к лицу салфеткой, пока я захлопывала дверцу, шла по шуршащему гравию, поднималась по лестнице и подходила к двери. Так и сидел, пока я возилась с замком, входила в дом и тщательно закрывала за собой дверь.
Ну а что уж он там делал дальше, я не знаю.
Я осторожно улеглась на пол, уткнувшись лицом в коврик с надписью «Добро пожаловать». Жесткая щетина покалывала щеки. Пахло пылью.
Добро пожаловать. Ха-ха.
Я так тосковала по человеческой близости, мне так хотелось, чтобы кто-то меня обнял, утешил.
Я так ужасно тосковала — сама не знаю по кому или чему. Да только пользы от этой тоски…
Не знаю, сколько я так пролежала — может, десять минут, может, час. Я не засекала, а никого другого, кто мог бы засечь, рядом не было.
И тут зазвонил телефон.
Я вздрогнула, как от удара током, перевернулась на спину и выудила телефон из влажного кармана джинсов. Звонила не мама. Папа. Мой достойный восхищения папа. Мой внушающий уважение, ответственный папа. Разочарование лишило меня последних сил.
— Алло.
— Алло! Как там моя Майюшка? — сказал папа чуть громче обычного, как всегда бывает после того, как он пропустит пару бокалов.
Мой пьяный вспотевший папа.
— Нормально, хорошо, — ответила я хриплым голосом, как будто только что проснулась.
Я повернулась на бок и поняла, что вся моя одежда промокла до нитки. Куртка, штаны, ботинки. Натекло с весла.
— А как твой палец?
— Ну, так…
— Болит?
— Не без этого.
Я прекрасно понимала: он хочет от меня услышать, что все нормально, все в порядке, чтобы он спокойно мог вернуться к тому, к чему ему не терпится вернуться, — однако я не смогла себя заставить произнести нужные слова. Моего запаса щедрости сейчас на это не хватало. Прежде чем он успел продолжить, я спросила:
— А ты что делаешь?
— В смысле?
— Ну, что ты делаешь, когда я уезжаю? Вот сейчас, например?
— Сейчас? Прямо сейчас?
— Ага.
Он откашлялся. На заднем плане играла музыка, какая-то певица с тоненьким девичьим голосом. Дебби Харри, что ли? Я вспомнила хищную блондинку — поклонницу Тимберлейка и ее благодарный поцелуй в щеку, перепачкавший меня помадой и слюной.
— Да вот, с Улой сидим за пивом, разговариваем. А что?
Произнес он это настороженно, почти вызывающе. Ему явно не хотелось говорить о себе. Он бы предпочел простой и короткий разговор. Возможность продемонстрировать свою отцовскую заботу, чтобы потом с чистой совестью вернуться к своим делам. Я испытала разочарование. Мне хотелось, чтобы он ответил честно. Что он собирается на вечеринку к Дениз. Что собирается напиться, как свинья, выпрыгивая из штанов на танцполе какого-нибудь клуба, для которого он уже слишком стар, и в конце концов, если повезет, трахнуть Дениз или другую двадцатипятилетнюю жертву современной культуры со стрижкой «паж». В общем, кого-то, кто будет сражен тем, что он — широко известный в узких кругах музыкальный критик и при этом в одиночку растит эмоционально нестабильную дочку-подростка. Может, конечно, стоило радоваться, что он обо мне рассказывает, однако у меня порой возникало чувство, будто он просто рисуется, рассказывая обо мне и «моих проблемах», чтобы добавить себе очков. Использует меня, чтобы показать, какой он со всех сторон положительный парень, как не боится брать на себя ответственность и не растворяется с этой ответственностью в тумане. Дело же не только в том, что написала Дениз, до нее были и другие, и их было немало. Однако эти отношения всегда завязывались и развивались где-то за пределами моего мира, в его «свободные» выходные, в обеденных перерывах, посредством писем и СМС. Он никогда о них не говорил, делая вид, что их не существует, — но у меня, к счастью, были свои способы добывания информации. Вернее, именно поэтому мне и пришлось эти способы найти.
— Да нет, ничего, интересно просто.
Сейчас была моя очередь что-то сказать. Сказать, что мамы тут нет, что она не пришла меня встречать, я здесь одна, одна, одна. Я открыла было рот, но услышала в трубке смех Улы и начала размышлять, что же это, интересно, могло его так рассмешить.
— Ну ладно, Майя, — произнес папа тем резюмирующим тоном, которым всегда закругляет разговор, но я его перебила. Нет уж, первой буду я.
— Слушай, пап, мне бежать нужно, — сказала я. — Яна пришла, мы… мы ужинать сейчас будем, наверное.
— Вот и ладненько, Майя! Хорошо! Увидимся завтра тогда, да? В семь.
Уж не облегчение ли я слышу в его голосе? Как же я ненавижу это облегчение, что порой чудится мне в его интонациях.
Я сказала: «Пока», — но нажала на отбой, не договорив: мне хотелось дать ему понять, что я расстроилась, что меня это уязвило. Хотелось, чтобы он перезвонил, но он, конечно же, не стал перезванивать. Глупо было на это надеяться, он никогда таких намеков не понимал.
Яна пришла.
Сказала я ему.
Яна пришла.
Я попыталась представить, что это правда. Что я действительно слышу шаги ее босых ног по паркету, шлепанье влажных ступней по лакированному дереву. Представила, как она выходит из коридора с танцующими по плечам волосами. Видит меня лежащей на полу, распахивает глаза от удивления, наклоняется, протягивает мне руку и говорит мягко и сочувственно: «Ты что, тут лежишь?»
Да, я тут лежу.
Лежу, уж можешь не сомневаться.
Я не без труда поднялась (пришлось оттолкнуться от пола левым локтем) и направилась в ванную. Там я разделась и сняла с руки пакет. Повязка под ним оказалась рыхлой и мокрой — пакет, естественно, протек. Я забралась в ванну, уселась на упаковку туалетной бумаги, повернула кран. На меня полилась вода. Я сидела, а вода лилась на меня прохладным апрельским дождем. В большом пальце пульсировала боль. Перед глазами снова встала предельно четкая картинка — как будто все это происходит прямо сейчас, и никуда от этого не деться.
Пила. Пронзительный оглушительный визг.
Стук металлических зубцов о камень.
Плоть. Обнаженная, беззащитная.
Кровь — ручьем, струей, брызгами.
Взрыв снаряда. Боль.
Я замотала головой, прогоняя воспоминания, картинки, звуки, боль. Подставила лицо струям воды, будто солнцу, и осталась так сидеть, мотая головой в бесконечном отрицании. Вода лилась в глаза, лилась из глаз. Лилась до тех пор, пока бумажная кипа не размокла и не начала оседать.
Потом я как была, нагишом, поднялась в свою комнату и принялась сушить повязку феном. На это ушла целая вечность, и все равно внутри, там, где повязка прилегала к коже, бинт оставался мокрым.
Я вывернула содержимое сумки на кровать, вывалив всю одежду на покрывало, и выудила из черно-белой кучи черные бриджи и белую блузку с оборками, у которой были такие длинные рукава, что папа называл ее смирительной рубашкой. Вообще-то, можно было подвернуть манжеты и закрепить их запонками, но их я забыла в Стокгольме. Застегнуть рубашку без помощи большого пальца левой руки оказалось до смешного трудно. Я снова пристегнула к поясу свои прекрасные черные подтяжки, над которыми так потешался дебил Ларс, обернула шею черным же шелковым шарфиком, тщательно накрасилась и вдела в уши крупные блестящие серьги. Для кого это, интересно, я так стараюсь?
Я спустилась на кухню, открыла кухонный шкаф и закинула в рот две пригоршни мюслей прямо из пачки. На вкус точь-в-точь сухой корм. Пока жевала, еще раз окинула взглядом кухню: крошки под обеденным столом, стопка пожелтевших газет, переполненная раковина. Подумала, не вымыть ли посуду, но не стала. В конце концов, у меня было отличное оправдание.
Я заглянула в холодильник, в котором не было ничего, кроме пары бутылок минералки с газом, экологически чистого молока и открытого пакета густого, мутного и наверняка очень полезного йогурта, вытащила бутылку воды и выпила почти пол-литра в три ледяных глотка. Пузырьки щекотали гортань. Я вынула молоко и проверила срок годности на упаковке — пахнет вроде нормально, хоть и просрочено на два дня. Ни масла, ни сока, ни сыра — никаких продуктов к завтраку, которыми она обычно запасалась к моему приезду.
Можно ли считать это обстоятельство ключом к разгадке?
В то время как холодильник зиял тоскливой пустотой, морозилка была забита прямоугольными упаковками всевозможных цветов. Полуфабрикаты. Пицца, пироги, лазанья. Съедобное дерьмо. Ни уму, ни сердцу.
Я окончательно потеряла аппетит и захлопнула дверцу.
Какой кошмар. Какое жалкое убожество. Маму настолько не интересовала еда, что, будь это возможно, она наверняка предпочла бы питаться внутривенно. Впрочем, в данный момент я бы, пожалуй, предпочла то же самое.
Я допила воду и улеглась на диван. Нужно разработать план действий. Нужно что-то сделать. Может, стоит все-таки позвонить в полицию? В больницу? На телевизионную программу, в которой ищут пропавших родственников?
Все эти варианты я отбросила — нет, не стоит. Она подала признаки жизни. Она жива. То, что сейчас ее здесь нет, — ее собственный выбор.
Я быстро встала, в несколько шагов преодолела лестницу и зашла в мамин кабинет, где включила компьютер и еще раз просмотрела ее почту. Как знать, может быть, в этот раз я смогу вычитать из ее письма нечто большее. Хоть какое-то сожаление.
Приношу свои извинения, что ставлю вас в известность в последний момент, но я не смогу принять Майю в эти выходные…
И тут я обнаружила еще одну странность. Адрес, с которого отправлено письмо, был незнакомый, не ее обычный рабочий. Какой-то новый почтовый ящик на Gmail, которого я раньше никогда не видела. Почему она не написала с рабочего адреса? Почему не написала с рабочего адреса, как делала всегда?
Сумерки сгущались, но фонари еще не зажглись. Я вышла из дома и присела на крыльцо, ощущая сквозь бриджи холод ступенек. Закрыла глаза и попыталась сосредоточиться. Как же я завидовала сейчас курильщикам, которые могут просто выйти покурить и обдумать все в тишине за сигаретой. Сколько времени нужно на то, чтобы выкурить сигарету? Пять минут? Я просидела на ступеньках пять минут, затягиваясь воображаемой сигаретой и прислушиваясь к ходу своих мыслей. Не исключено, что это помогло, поскольку по прошествии этих пяти минут я решительно встала и прошла к засыпанной гравием площадке перед гаражом, где подобрала горсть камешков. Чтобы остаться незамеченной, я пролезла сквозь дыру в изгороди, крепко прижав к груди свою несчастную левую руку. Встречаться с чужими мне сейчас абсолютно не хотелось. Острый гравий покалывал ладонь.
Вот они. Его окна. Горят теплым желтым светом. Несколько секунд я колебалась, но потом подумала — черт с ним, в самом деле.
Прицелившись, я бросила гравий в окно — и в то же мгновение увидела, как оно широко распахивается. Створка с силой отбила пущенные в нее камни, и они полетели обратно, обрушившись на меня метеоритным дождем. Один из них угодил мне прямо в лоб. Заваливаясь на спину, я подумала с подобающим моменту пафосом: «Ну все, умираю!» Но умереть я, конечно, не умерла. Умирают вообще не так уж часто.
— Ого! — прокричал сверху Джастин.
Я в ответ смогла лишь простонать нечто нечленораздельное.
Да я просто какой-то персонаж из анекдота. Анекдота, в котором я постоянно занимаюсь членовредительством, подвергаюсь побоям, отпиливаю себе части тела, вгоняю в ноги занозы и получаю камнем по башке. Я ощупала лоб и поднесла руку к глазам: ну конечно, кровь. Естественно, лоб разбит в кровь, как же иначе.
— Я сейчас спущусь, — крикнул он. — Никуда не уходи.
Я, в общем-то, никуда и не собиралась, так что осталась лежать на месте, глядя на покачивающуюся над головой темно-зеленую крону какого-то дерева — дуба, что ли. Я лежала и прислушивалась к себе. Мое дыхание, поначалу частое, становилось все тише и ровнее. Земля подо мной была холодной и влажной, пахло мокрой травой. Кровь не унималась, я чувствовала, как теплые струйки стекают по носу и щекам к самому рту. Я вытерла лицо рукавом, и белый как мел манжет тут же окрасился алым.
И вот я снова лежу в белой рубашке, а из меня хлещет кровь. Лежу и не могу встать. Как же мне это надоело.
Джастин вышел из-за угла все в тех же розовых штанах и грязно-белых кедах с развязанными шнурками.
— Привет, — сказала я, изо всех сил стараясь придать голосу беспечность.
Как будто я и не думала валяться в крови на газоне.
— О Господи, Майя! Как ты?
Я попробовала пожать плечами, но сделать это лежа оказалось не так-то просто.
— Какой у тебя голос простуженный, — заметила я, и с этим было сложно поспорить, «М» в его устах прозвучало как «Б». Красоты это моему имени не прибавило.
Он взял меня за правую руку и потянул, стараясь поднять, но никогда еще гравитация не казалась такой сильной, а мое тело — таким тяжелым. На какое-то мгновение я зависла в нескольких сантиметрах над землей, не в силах ни подняться, ни опуститься. Когда я наконец встала на ноги, Джастин мне улыбнулся. Теплой и — как мне показалось — ласковой улыбкой. Уголки его губ шевельнулись, как будто он собирался что-то сказать, но передумал. А мне бы так хотелось, чтобы он что-нибудь сказал. Что-нибудь хорошее.
Улыбка его погасла, и он наконец произнес:
— Ты на клоуна похожа.
Из гостиной, где я сидела меньше суток назад, доносился звук телевизора, но в комнате никого не было. Я успела разглядеть распухшее тело женщины-утопленницы, над которым бесцеремонно чавкал яблоком датский патологоанатом.
— А где твоя мама?