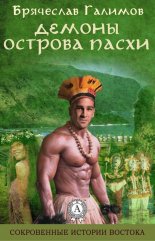Вышли из леса две медведицы Шалев Меир

— Она действительно хорошо выглядит, эта моя мамаша, — гнула свое Далия. — Но что ее сохраняет? Ее эгоизм и черствость, вот что. — Она сделала еще один маленький осторожный глоток лимончелло и добавила: — Она просто заспиртована в абсенте.
Красивое выражение: «заспиртована в абсенте». Привалила человеку удача. Я даже разозлилась, что это Далия изобрела его, а не я. Ну ладно, Эйтан изобрел «сороковее», а Офер придумал «по твоему скромному мнению». Но Далия?! Откуда она вообще знает слово «абсент»? Ну, не важно. Несколько лет назад Эллис умерла, и мы, Далия, Довик и я, поехали на ее похороны. Я не так уж люблю похороны, как вы сами понимаете, но я хотела посмотреть, будут ли там другие «Иth’н», которых она увела с других свадеб. Может, возьму себе одного из них по наследству. Но их не было, а моего (и ее) «Иth’н» не было тоже. Он не приехал и не проявил никакого интереса накануне, когда я сообщила ему о ее смерти.
Помню каждую деталь: я тогда спустилась в питомник и стала перед ним на дорожке. Он остановился, обнимая пятидесятикилограммовый мешок с гравием, как обнимают толстого и усталого ребенка.
Я сказала ему:
— Ты помнишь Эллис, мать Далии?
Он не ответил. Обнимал свой мешок и молчал.
— Она умерла.
Он не ответил. Сдвинулся вбок, обошел меня и понес свой мешок дальше.
Я пошла за ним:
— Эллис! Та, которая забрала тебя в свой дом в день свадьбы Довика и Далии.
Он молчал. Сколько сил собралось в этих руках, обнимающих и несущих такую тяжесть с такой легкостью!
— Так она умерла, ты слышишь?
Он не ответил.
Я сказала:
— Иth’н, мы едем на ее похороны. Может быть, ты помоешься, переоденешься и поедешь с нами? Я думаю, она это заслужила.
Он положил мешок возле тех, которые уже перенес, и повернулся, чтобы пойти за следующим. Я смотрела на него и не видела даже намека на какую-нибудь судорогу в его лице. Оно оставалось точно таким же, каким стало со времени нашей беды. Не злым, не встревоженным, не радостным, конечно, но и не грустным. Никакой перемены вообще. Физиономия занавески. Не темной занавески, но и не прозрачной тоже. Вот и все. Он остался отбывать свое наказание, свои каторжные работы, а я представляла его на ее похоронах. Ей причиталось. Она действительно сделала ему только хорошее и научила его тем вещам, которые потом сделали хорошее мне: варить мне, подавать мне, занимать меня, смешить меня, касаться меня — где, и когда, и как. Найдутся такие, которые скажут вам, что каждая женщина в этом плане особенная в своем роде: одной нужно в одном месте, а другой — в другом, одной подай трепетанье бабочкиных крылышек, а другой — энергичный натиск, одна — «не прекращай», а другая каждые полминуты — «не двигайся», и каждая со своим «теперь здесь» и «теперь там». Но в общем все мы довольно похожи. Скажу вам так, Варда, — ни одна еще не кончила от того, что кто-то ей погладил колено.
Я не ошибаюсь? Вы улыбаетесь? Вы даже смеетесь? Прекрасно. Теперь у меня будет письменное доказательство, что я еще могу кого-то рассмешить. Самой смеяться мне как раз удается, но только если меня удивляют. Я на миг забываю, что печальна, а потом, через секунду, мне становится больно. Как в анекдоте о том человеке в лесу, когда все вокруг него лежат мертвые, а он выжил, вот только нож торчит в животе. Ладно, оставим это, а то я еще, чего доброго, начну плакать от слишком сильного смеха.
Глава тридцать пятая
Нета и Ангел Смерти
(сказка для Неты Тавори, написанная для него матерью после его смерти)[128]
Был у меня когда-то мальчик по имени Нета.
Когда Нете исполнилось четыре года, он начал задавать мне вопросы:
— Почему темнота всегда приходит ночью?
А где она днем?
И:
— Какая разница между Ничто и Ничего?
И:
— Что такое Ничто?
И:
— Почему есть Ничего и нет Дачего?
И:
— Когда уже у меня будет маленькая сестричка?
И:
— Кто будет больше на нее похож — я, или ты, или папа?
И:
— Почему у дедушки Зеева нет жены, а у папы есть ты, а у дяди Довика тетя Далия?
На все вопросы я отвечала ему без труда, но над последним вопросом я думала немного больше, потом еще немного, и потом еще, и, наконец, ответила:
— У дедушки Зеева тоже была когда-то жена. Ее звали бабушка Рут.
Нета обратился к дедушке Зееву:
— Дедушка?
— Да, Нета?
— Где твоя жена, которую звали Рут?
— Ангел Смерти забрал ее к себе, — сказал дедушка Зеев.
Нета спросил:
— Что, теперь она его жена?
— Хватит, Нета, — сказал дедушка Зеев. — Есть вещи, о которых не следует говорить. А ты задаешь слишком много вопросов.
Назавтра, по дороге в школу, Нета спросил своего отца:
— Кто такой Ангемерти?
— Анге — кто? — спросил отец.
— Ангемерти, — повторил Нета.
— Понятия не имею, — сказал отец. — Я не знаю такого имени.
— Дедушка Зеев сказал, что Ангемерти забрал бабушку Рут, — сказал Нета.
— А-а! — сказал отец. — Он имел в виду Ангела Смерти. Это тот ангел, который забирает к себе людей, когда им приходит время умереть.
— Настоящий ангел? — обрадовался Нета. — С большими белыми крыльями? Он забирает их полетать с ним?
— Нет, — сказал отец. — У этого ангела нет крыльев, а уж тем более белых. У него есть громадная острая коса и черный балахон с большим черным капюшоном, который скрывает его лицо.
— Но если у него нет крыльев, как же он летает?
— Он не летает, — сказал отец. — Он просто появляется. Появляется себе вдруг, и никто его не видит и не знает, только тот, кого он пришел забрать.
— Вот бы он появился сейчас тут, — мечтательно сказал Нета. — Мне хочется увидеть его балахон с капюшоном и его косу.
— Хватит вам говорить об этом! — рассердилась я. — Есть вещи, о которых не говорят, и ты задаешь слишком много вопросов.
— А о чем говорить? — спросил Нета.
— Скоро твой день рождения, — сказала я. — Может быть, ты скажешь нам, какие подарки ты хочешь?
— А вы дадите мне все, что я попрошу? — спросил Нета.
— Если ты попросишь слона, тогда нет, — сказал отец.
— Очень хорошо, — сказал Нета. — Я хочу громадную острую косу и длинный черный балахон с большим черным капюшоном.
Я была недовольна его просьбой.
Но отец сказал:
— Я обещал. А мы, мужчины, должны выполнять обещания.
Он купил черную ткань и сшил из нее балахон с капюшоном.
А дедушка Зеев вытащил из сарая старую косу и почистил ее от ржавчины.
И в субботу мы устроили Нете день рождения, и мужчины дали ему этот подарок.
Нета надел балахон.
Покрыл голову капюшоном, посмотрел в зеркало и сказал себе:
— Я настоящий Ангел Смерти.
Он схватил косу, и вышел на улицу, и увидел людей, и побежал за ними вдогонку.
Все испугались, все разбежались, все раскричались:
— Ой, мамочка, Ангел Смерти пришел!
— Сейчас он нас всех заберет!
— И мы все умрем!
Нета положил на землю косу, которую до этого держал на весу.
Потом отбросил свой черный капюшон и снял с себя свой длинный балахон.
А потом что есть силы закричал:
— Извините, если я вас всех напугал. Пожалуйста, успокойтесь, тети и дяди! Это я просто в таком наряде. Прошу вас, пожалуйста, поверьте, я мальчик Нета, а не Ангел Смерти.
Так он выходил на улицу день за днем.
И на пятый день люди уже не разбегались.
А на шестой день все ему улыбались.
А на седьмой день — потому что у Ангела Смерти нет выходных — они уже просто смеялись:
— Он вовсе не Ангел Смерти! Он просто он и больше ничего.
Но в понедельник, когда Нета вышел опять, набалахоненный, закапюшоненный и очень косоватый, кого он встретил, тоже в балахоне с косой?
Ну конечно, настоящего Ангела Смерти!
— Поди сюда, мальчик, — сказал он Нете. Вернее, прошептал. Потому что у Ангела Смерти голос похож на шипенье змеи. — Подойди поближе, не бойся. Еще ближе… и еще… и еще. Вот так. Теперь стой. И объясни мне, что здесь случилось и что это все означает?
— Это просто игра, — сказал Нета. — Сейчас я просто играю в тебя. Как хорошо, что ты пришел! Теперь мы сможем поиграть вместе.
— Играть вместе? — прошептал Ангел Смерти. — Я и ты? Тебе до смерти этого хочется?
— Конечно, — сказал Нета. — Будет кайфово, ты обхохочешься.
— Я не играю в игры! — сказал Ангел Смерти. — Ни с людьми, ни сам по себе.
И рассердился:
— Из-за тебя ко мне перестали относиться серьезно.
И сказал печально:
— Теперь они все думают, что я просто мальчик, который нарядился Ангелом Смерти. А сейчас — извини меня, Нета, — у меня много неотложной работы.
— Как? — удивился Нета. — Ты знаешь, как меня зовут?
— Конечно, — сказал Ангел Смерти. — Я знаю все имена. И все сроки. И все адреса. И твой адрес тоже.
— Откуда? — спросил Нета.
— Я уже бывал здесь не раз. И я очень аккуратный ангел. Так что не делай больше глупостей и до свиданья, до следующей нашей встречи.
И он исчез, как будто его и не было и не будет опять.
И только слова остались:
«До следующей встречи».
И:
«Я уже бывал здесь».
И:
«Нета».
И:
«До свиданья».
Глава тридцать шестая
Роды
За несколько дней перед родами в поселок приехали две женщины. Они спустились с телеги, которая медленно тащилась по топкой дороге, и пошли пешком по тропке через поля.
Вначале они казались просто двумя черными точками, большой и маленькой, потом превратились в две человеческие фигуры — взрослого человека и подростка, если судить по размерам, или двух взрослых, если судить по походке, — и наконец стали двумя женщинами среднего возраста. Одна оказалась высокой, костлявой и широкоплечей, а вторая — маленькой и полной, но, несмотря на это и на совершенно разную одежду, походку и телосложение (большая была матерью роженицы, еврейкой родом из Румынии, а маленькая — бедуинской акушеркой из вади Эль-Тамасиах), были очень похожи друг на друга: обе веселые и болтливые и у обеих широко расставленные глаза и грубые ладони. Заметно было, что совместная поездка уже сблизила их, потому что они обменивались только им понятными взглядами и жестами и время от времени взрывались дружеским смехом, который постороннему человеку мог бы показаться лишенным всякой причины и полным каких-то загадочных намеков.
В их приезде, как со временем выяснилось, не было никакой нужды, потому что роды, хоть и были первыми, прошли легко и быстро, словно роженица знала, что настоящие муки ждут ее лишь потом. Она даже не кричала, только стонала от большого напряжения, и лоб ее покрылся испариной. Может быть, она хотела, чтобы никто не услышал ее и не понял, что происходит. А может, действительно не чувствовала боли, потому что, как и ее муж, знала, что забеременела не от него, и поэтому страх смерти наполнял все ее существо, вытесняя всякое иное чувство.
Она не размышляла ни о том, какого пола ее ребенок, потому что была уверена, что это будет девочка, ни о том, будет ли она здоровой и сколько будет весить, ни о том, что вот-вот станет матерью, — она думала только о нем, о своем муже, и о том, что он с ней сделает.
С последним ее стоном крошечный ребенок выскользнул в руки акушерки, и новая бабушка, улыбнувшись, сказала:
— Поздравляю, Рут. Ты была права. У тебя родилась дочь. Теперь надо выбрать ей имя.
Но Рут — так звали роженицу — сказала:
— Я еще не думала об имени, мама, — потом шепнула: — Нет, еще не надо, имя может подождать, — и вдруг вскрикнула: — Пусть еще не плачет, мама, пусть еще не кричит! Пусть она ее не шлепает!
Но опытная рука акушерки словно бы сама собой уже опустилась на маленькую попку, и ребенок заплакал первым плачем всех новорожденных, которого ничто не может ни остановить, ни утишить. А мгновенье спустя раздался громовой удар в дверь, едва не сорвавший ее с петель, и в комнату ворвался муж роженицы. Вместе с ним в спальню ворвался и дневной свет, очертив темноту его могучего тела сверкающим прямоугольником дверной рамы и пройдя меж его широко расставленных ног. Его огромная дрожащая тень нарисовалась на стене в изголовье кровати.
— Не нужно врываться с такой силой, — испуганно сказала мать роженицы. — Еще несколько минут, и мы бы сами пригласили тебя войти. — И хотя сердце говорило ей, что не все здесь так просто, рот ее продолжал выговаривать те слова, которые всегда говорят в таких случаях: — Поздравляю, Зеев, у тебя родилась дочка.
Зеев — так звали мужа роженицы — сделал еще один шаг вперед, и тогда Рут в ужасе закричала: «Дайте ее мне! Дайте ее мне!» И, несмотря на боль, приподнялась на кровати, широко распахнув руки. Акушерка, которая уже приготовила было тазик с теплой водой и две пеленки, сухую и мокрую, чтобы помыть и высушить новорожденную, испугавшись, протянула ей ребенка, как он был, — в каплях крови и родовой жидкости. Но Зеев молча шагнул к кровати, схватил маленькое тельце за ногу и вырвал его из рук акушерки. Девочка, закачавшись вниз головой в его руке, на миг замолчала, но тут же снова зашлась в отчаянном плаче.
Зеев повернулся, все так же держа ребенка в одной руке, рванул дверь и вышел наружу. Его теща, которая ничего не знала и не поняла, что происходит, бросилась следом за ним, восклицая:
— Что ты делаешь, Зеев?! Младенца нельзя так нести! — Но, видя, что он идет и не оборачивается, со страхом закричала: — Верни ее матери, девочке нужна грудь!
Большая и быстрая, она в три шага догнала зятя и схватила его за полу куртки. Но Зеев гневно обернулся, с силой толкнул ее так, что она упала, и страшным голосом закричал:
— Ни за что!
По-прежнему неся ребенка в руке, он прошел к сараю, что стоял на задах двора, к тому деревянному сараю, в котором он уже несколько месяцев подряд спал один, без жены, и положил девочку, которая все еще захлебывалась в плаче, на свою застеленную кровать. Не бросил ее и не швырнул, а положил мягко и осторожно, как отец укладывает своего младенца, но не из отцовской любви, а для того, чтобы она не ударилась или не поранилась. Ибо в те длинные бессонные ночи, когда лежал на этой кровати, задыхаясь от ненависти и продумывая отмщение, он назначил ей другую судьбу.
Малютка кричала и захлебывалась в плаче. Зеев укрыл ее, достал с полки жестяную коробку, которую приготовил себе незадолго до родов, и вынул из нее хлеб, горсть маслин, помидор и арабский сыр — тот соленый и твердый сыр, который можно хранить долгое время, а для еды нужно размачивать в воде. Все это он разложил на деревянной доске. У него были еще две джары с питьевой водой, несколько пит, овощи, несколько банок консервов — сардин и мяса, банка тхины и бутылка оливкового масла[129]. Все это он приготовил себе заранее, чтобы иметь под рукой достаточно еды и не нужно было бы отлучаться из сарая.
Он взял свое ружье и верную палку, вышел, запер за собой дверь и уселся на большом деревянном ящике, который поставил перед своим сараем за несколько дней до родов. Тогда никто не понял, что он замышляет, и никто не знал, что находится в этом ящике, но теперь Зеев вытащил из него большую вышитую подушку и подложил ее под себя. Подушка цвела радостными птицами и растениями и тоже была приготовлена заранее — для долгого и удобного сидения.
Стоял теплый весенний день. Ружье и палку Зеев прислонил возле себя, а деревянную доску положил себе на колени. Потом он принялся есть и пить. Солнце грело его кожу, и приятный запах цветения стоял в воздухе. Но ребенок за его спиной, в сарае, заходился от крика и слез, и деревянные стены нисколько не приглушали эти звуки, потому что голос ребенка, который жаждет еды или прикосновения, — голос пронзительный, он проникает сквозь стены и слышен на большом расстоянии.
Мать роженицы поднялась тем временем с земли и беспомощно металась по двору, ломая пальцы от ужаса и горя. Потом, словно на что-то решившись, снова подошла к зятю и тихо сказала: — Что ты делаешь, Зеев? Ведь это твоя дочь и твоя жена. Что случилось? — И, помолчав, прошептала: — Девочка должно сосать грудь. Ей нужна мать… — А затем вдруг схватила его за руку, потянула изо всех сил и закричала: — Встань! Открой немедленно свой сарай! Я хочу отнести ее к матери. Это моя внучка. Ты слышишь?!
Зеев снял с колен деревянную доску, отложил ее в сторону, медленно встал, снова с силой толкнул тещу на землю и опять опустился на вышитую подушку.
— Ты права. Это твоя внучка, — сказал он. — Но это не моя дочь! Это дочь другого мужчины, порождение распутства! Это выблядок, а не моя дочь.
— Но это всего лишь младенец! Чем она виновата? Что она тебе сделала, эта малютка? Она же только что родилась! Дай ей сначала пососать, а потом мы все выясним и все уладим.
— Это порождение распутства! Пусть себе орет и плачет в сарае. А ты, и твоя дочь, и вся мошава пусть знают, почему и за что.
Он затолкал себе в рот хлеб с сыром и маслину, откусил острый перец и принялся неторопливо жевать.
С трудом поднявшись с земли, бедная женщина выбежала со двора на улицу с криком: «Спасите! Помогите! Он забрал младенца!» Из дома ей отвечали страшные рыдания Рут. Несколько человек выскочили на шум из своих домов и бросились за нею ко двору Тавори. Но, увидев Зеева, сидящего с ружьем у входа в сарай, они тут же повернули обратно. Несчастная мать побежала вдоль улицы, бросаясь от дома к дому и призывая на помощь. Но никто уже больше не вышел ей помогать. Только там и сям выглядывало из-за сдвинутой занавески чье-нибудь лицо, да кое-где мелькала прячущаяся спина и слышался стук испуганно захлопнутой двери. Не докричавшись, она в конце концов вбежала во двор к соседу. Соседа она нашла в коровнике. Он кормил красавицу телку, которую недавно родила ему голландская корова, купленная им по дешевке минувшей осенью на зависть всему поселку.
— Помогите, скорей! — взмолилась она. — Моя Рут родила девочку, а Зеев забрал у нее ребенка. Он просто спятил. Он запер малютку в сарае и не дает ей сосать материнскую грудь.
— Поздравляю вас с внучкой, — сказал сосед. — Но мы здесь не суем нос в дела других семей.
— Но я умоляю! — закричала она в отчаянии. — Он не дает мне подойти к сараю! Он хочет убить свою дочь!
— А ты уверена, что это его дочь? — спросил сосед.
Рот ее онемел. Колени подогнулись. Ей с трудом удалось доковылять обратно. Но когда она вошла во двор, Зеев грубо схватил ее и втолкнул в дом к дочери. Потом силой выволок оттуда акушерку и крикнул ей:
— Чтоб твоего духу здесь не было!
И бедуинка тотчас исчезла.
Зеев закрыл обе двери и все окна в доме, вернулся к своему сараю и снова сел на ящик. Он сидел перед сараем на ящике, заряженное ружье в одной руке, верная палка в другой, и молча ждал своего часа.
Этот плач, который длился — кто бы мог себе представить? — целую неделю подряд, слышала вся мошава. Слышала — и молчала. Сначала люди думали, что девочка поплачет день-другой, пока Зеев придет в себя и вернет ее матери. Но она все плакала и плакала, день за днем, и первый день, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и мошава слушала, слышала и молчала. Молчала, но не забыла.
И еще видела: мужчина сидит на большом ящике, на вышитой подушке, с ружьем и палкой, перед закрытой дверью сарая. Видела, слышала, молчала и не забыла. Из сарая часами раздавались жуткие голодные крики ребенка, взывающего к материнскому молоку, к материнским рукам и к материнскому теплу, а из дома им вторили жуткие крики молодой матери. В один из дней ей удалось наконец выбраться из запертого дома, и она бросилась на своего мужа, пытаясь его ударить. Но он поднялся, схватил ее одной рукой за затылок и поволок к дому, слабую и измученную родами, ужасом и виной. Никто из мошавных не пришел к ней на помощь. Муж силой втолкнул ее в дом, и там она упала на кровать и провалилась в глубокий сон.
Младенец — ему даже имени не успели дать — плакал и кричал. Мошава — у которой имя уже было и есть по сей день — слышала и молчала.
Но вопли умирающего от голода ребенка привлекли внимание соек, которые издавна жили в этих местах.
Эти крылатые обитатели близлежащей рощи уже успели за минувшие годы понять все выгоды соседства с людьми и, будучи существами смелыми и дерзкими, начали регулярно навещать новое человеческое поселение и высматривать любые остатки пищи, которые можно было бы склевать или унести. И когда подросли деревья, посаженные людьми вокруг своих домов, они построили на них свои гнезда и стали выращивать там новое поколение. Прошло немного времени, и они совсем перестали бояться человека и начали вести себя, как хозяева. Они орали, воровали, дразнили животных и людей и, как свойственно сойкам, научились подражать крикам взрослых, свисту подростков, визгу кошек и лаю собак, не переставая радоваться тому переполоху, который этими своими подражаниями поднимали.
Теперь несколько соек появились над домом Зеева Тавори. Они расселись на ближайших деревьях, прислушались к крикам и плачу ребенка и через полчаса начали кричать и плакать в точности таким же голосом. Вначале они кричали неуверенно, словно пробуя силы, но потом их крики и плач обрели абсолютное подобие. Дети стали швырять в них камни, но птицы перелетали с дерева на дерево и уклонялись от попаданий. И все это время они продолжали кричать голосом младенца. Под конец от них негде уже было укрыться. Казалось, что ребенок кричит в каждой кроне и над каждой крышей, — и мошава все это слышала — слышала и молчала.
На третий день, когда сойки снова завели свои детские крики, Зеев Тавори поднял свое ружье и двумя точными и быстрыми выстрелами свалил на землю двух птиц. Их товарки тотчас в страхе взметнулись в воздух. А когда они успокоились и, вернувшись, снова взялись за свое, он убил еще двух, и тогда остальные исчезли совсем и больше уже не появлялись. С этого времени в мошаве слышны были только крики умиравшего в сарае ребенка, да и эти звуки с каждым днем становились все слабее. В субботу, в полдень, ровно через пять дней после родов, они сменились непрерывным слабым попискиванием, а когда и оно перестало слышаться тоже, жители мошавы стали собираться у забора Зеева Тавори, выжидая, что произойдет сейчас. До той минуты они держались подальше от этого дома и даже от этой улицы, и только один человек все время оставался там — сосед, владелец великолепной голландской коровы и ее новорожденной телки. Этот сосед время от времени приносил Зееву Тавори кувшины кипящего чая и даже куски пирога, сидел возле него, как собака сидит возле хозяина, и охранял за него, когда Зеев засыпал на несколько минут или уходил по нужде.
Мало-помалу крики ребенка прекратились, и снова воцарилась тишина. Зеев Тавори сидел на своей вышитой подушке, прикрыв глаза, с ружьем на коленях, его сосед сидел рядом с ним, то и дело поглядывая вокруг, а по улице проходили люди, и одни убыстряли свои шаги, а другие, напротив, останавливались в ожидании у забора. Прошла уже неделя, и всем было ясно, что этому кошмару вот-вот придет какой-то конец.
Солнце поднималось, укорачивая тени на стене сарая, и, когда его лучи легли на веки Зеева Тавори, он открыл глаза, встал, подошел к поилке для коров и сполоснул лицо. Потом он снова сел, и, когда прошло около получаса, а голос ребенка по-прежнему не был слышен, он встал опять, вынул ключ, открыл замок и распахнул дверь сарая. Но не успел он войти, как из глубины сарая послышался еще один громкий крик — последний. Сойки ответили на него из леса страшным хором умирающих младенцев. Вскрики ужаса и жалости послышались среди собравшейся у забора толпы. Люди стали переступать на месте, но никто не отважился шагнуть вперед и никто не произнес ни слова.
Зеев Тавори на мгновенье отшатнулся, словно от удара. Но он тут же пришел в себя и исчез внутри сарая. Несколько минут спустя он вышел оттуда, неся в правой руке мешок, а в левой — лопату. Он оседлал лошадь, вскочил в седло и ускакал. Через час он вернулся, вошел в дом и, не обращая внимания на людей, все еще стоявших у забора, силой выволок из дома свою несчастную тещу.
— Возвращайся домой, — сказал он ей. — И лучше помолчи, иначе и там все узнают, какую дочь ты вырастила для меня.
Рут сидела неподвижно на кровати, не говоря ни слова. Зеев поел и отправился на работу, а вечером перенес свою кровать из сарая в дом, поставил ее в кухне, лег и стал ждать.
Целый год подряд они жили вдвоем в одном доме, ночь за ночью спали в нем и не говорили друг другу ни слова. Двенадцать месяцев подряд, день за днем, Зеев вставал раньше Рут, готовил ей завтрак — нарезанные овощи, маслины и сыр, крутое яйцо, иногда открывал также коробку сардин, оставлял все это на столе и уходил на работу во дворе или в поле. А каждый вечер, закончив работу, возвращался домой, убирал в кухне, наводил порядок и раз в неделю подметал пол. И каждый день Рут выходила из дома и всюду, где кто-нибудь пахал или рыл яму или траншею, останавливалась и смотрела — не здесь ли ее муж похоронил ее маленькую дочь?
Так прошел год, и как-то ночью Зеев Тавори поднялся со своей постели, вошел в комнату Рут, лег в ее кровать и поднял ночную рубаху на себе и на ней. Рут не шевельнулась и не издала ни звука. В ту ночь она забеременела их старшим сыном, а еще через два года — вторым. Она родила ему двух сыновей, которые выросли и поторопились покинуть отчий дом, как только смогли это сделать. Один из них позже стал моим отцом и умер преждевременной смертью, когда я была еще маленькой девочкой.
А тем, кто недоумевает, как я могла сочинить такой страшный рассказ, скажу: вы были бы вправе задать мне этот вопрос, если бы я его выдумала. Будь этот рассказ детищем моего воображения, мне было бы легче его написать. Но эта страшная история — история подлинная: Зеев Тавори — это мой дед, Рут — это моя бабка. Таков мой ответ.
Глава тридцать седьмая
— Когда Нете исполнилось пять лет, мы пригласили детей из его садика, их родителей и даже ухитрились уговорить дедушку Зеева, в порядке исключения, надеть в честь праздника повязку, на которой я вышила Микки-Мауса. Нета попросил, чтобы мы подарили ему длинный черный балахон. «С капюшоном, который скрывал бы лицо», — так он уточнил. Понятия не имею, откуда у пятилетнего ребенка слово «капюшон», но в любом случае балахон мы ему не купили, а подарили ящик для работы, как у его деда и отца, с настоящими инструментами внутри. Не с теми детскими игрушечными подобиями из пластика, а с настоящими рабочими инструментами, как подобает внуку дедушки Зеева и сыну Эйтана: маленьким степлером для забивания скоб, и такими же маленькими пассатижами, и настоящим, но маленьким молотком, и ключами разного размера, и кучей гаек и винтов. Ничего режущего или колющего, разумеется, потому что Эйтан сказал — какой грустной иронией это звучит сегодня: «С детьми нужно быть осторожней, у них в руках любой предмет может стать опасным».
Я помню, с какой радостью Нета раскрыл свой подарок. На какое-то время он даже забыл о черном балахоне, который он у нас просил, потому что тут же принялся что-то строить, собирать, завинчивать и развинчивать и был этим совершенно увлечен. Можно было видеть, сколько в этом ребенке терпения и серьезности, сколько доверия к правилам окружающего мира и его орудиям. Не слепого, наивного доверия, а доверия, покоящегося на уверенности. Конечно, эту уверенность он получил от нас с Эйтаном, но ведь в каждом ребенке есть и что-то новое, не унаследованное от отца с матерью, и уверенность Неты была спокойнее и серьезнее нашей.
Я не знала Эйтана ребенком, и это до сих пор вызывает мое любопытство. И я уже не узнаю Нету юношей или мужчиной, и это для меня мучительно. Я, естественно, представляю себе, что он был бы похож на Эйтана — того Эйтана, каким я его увидела впервые, на свадьбе Довика и Далии. И не только в силу генетики, но и потому, что он хотел походить на отца, а я уверена, что такое желание влияет на характер. Я видела все это в его походке, в той смешинке в глазах, которая выдавала семейную склонность к подражанию, в том, как они вместе орудовали этими маленькими детскими инструментами.
Нета следил за Эйтаном, всматривался в него, учился быть таким, как он, почти во всем. Я помню, как Эйтан учил его разжигать костер — крайне важное умение в нашей семейной пещере. Не помню, говорила ли я вам, а если говорила, то насколько убедительно, но в семье Тавори мой первый муж был Прометеем, который каждое утро приносил нам огонь. Я помню: зимой наш двор по утрам просыпался от ударов топора — это он рубил дрова для наших комнатных печей. Наших с ним, дедушки Зеева и Довика с Далией. Далию этот грохот раздражал, Довик говорил, что это самый приятный из всех существующих будильников, а дедушка Зеев изрекал: «Для настоящего мужчины работа — это еще и утренняя зарядка». Наш дедушка, кстати, терпеть не мог зарядку как таковую, саму по себе. Точно так же он терпеть не мог велосипедистов, которые приезжают сюда каждую субботу в своей смехотворной одежде, и фитнес-клуб, который основали у нас в поселке две дамы, одна из наших и одна из Тель-Авива: «Тьфу на них! — говорил он. — Настоящему мужчине все эти глупости ни к чему».
Я любила смотреть на Эйтана из окна нашей спальни, на его точные движения, на идеально законченный круг, который описывало лезвие, поднимавшееся из-за его спины и затем опускавшееся с огромной скоростью на полено. Я стояла в окне, полураздетая — сиськи наружу, и он кричал мне: «Накинь что-нибудь, даже отсюда видно, как тебе холодно!»
Наколов дрова, он разжигал огонь в яме для своих котелков, и примерно через полчаса там уже были угли для всех наших печей. Он появлялся в дверях, балансируя багровой шипящей кучей на лопате:
— Привет, красотка, я принес огня, чтобы тебе было хорошо и тепло, пока я снаружи.
Он бросал угли в печь, укладывал на них несколько брусков, сосновые шишки, две ветки и деревянное полено, закрывал железную дверцу и выпрямлялся:
— Когда разгорится как следует, закрой дымоход наполовину.
Еще одну лопату углей он приносил в дом Довика и Далии, а третью — дедушке Зееву, где его уже ждала чашка черного кофе, ломоть хлеба, брынза и Нета, который прибегал туда, чтобы сидеть с отцом и дедом и смотреть на пламя, взвивавшееся над углями, как только на них клали дрова.
— Ну, что ты скажешь, Эйтан? — спрашивал дедушка Зеев. — Не пришло ли время научить и нашего Нету разжигать огонь, как ты думаешь?
— А не слишком ли он мал еще? — отвечал Эйтан с интонацией, которая говорила: «Ты совершенно прав, но давай немного его подразним».
— Я совсем не мал, — очень серьезно и слегка обеспокоенно возражал Нета.
— Ну, раз так, я научу тебя, только не здесь в комнате. Сделаем это в яме возле шелковицы.
Самое главное, — объяснял он ему во дворе, — это приготовить все заранее, до того, как зажигать спичку.
И они вместе — опять это их проклятое «вместе»! — начинали готовить бумагу, и щепки, и хворост, и ветки, средней толщины и потоньше, и совсем толстые поленья, и все это — сложенное и готовое присоединиться к огню именно в этом порядке, каждое в свое время и каждое в свой черед.
— Хорошо начинать с сосновых щепок, — объяснял Эйтан. — Щепки очень легко загораются. Потом мы кладем тонкие бруски и сосновые шишки, они быстро схватывают пламя и дают очень большой жар. А уже тогда можно класть толстые поленья. Будь мы с тобой сейчас в пустыне, то положили бы еще несколько сухих веток ракитника. Как-нибудь я возьму тебя в пустыню и покажу тебе его. Ракитник дает самый сильный жар, какой только бывает. А потом мы вернемся домой к маме, и ты сможешь рассказать ей, что мы там делали.
Он скомкал несколько газетных страниц, положил на них несколько тонких щепок, поверх них — хворостинки, а на хворост водрузил строение из досок, когда-то устилавших площадку для разгрузки товаров, которую он разобрал.
— Можно построить это в виде маленькой палатки, а можно так, как я сейчас сделал, видишь? Это называется «алтарь»[130]. И обязательно нужно оставлять промежутки для воздуха. Огню нужен воздух. Он дышит, как мы.
Глаза Неты были прикованы к лицу Эйтана. Им очень подходило слово «изумленные».
— Потрогай свою кожу, Нета. Чувствуешь, какая она теплая? Потрогай меня. Ты чувствуешь, какие мы с тобой теплые? Это от огня, который горит у нас внутри. Для этого мы дышим. Чтобы у нашего огня был воздух, чтобы он не погас вдруг. Не бойся, наш огонь не такой, как огонь костра. Он не такой горячий, а кроме того, его не видно. Огонь костра горит быстро и умирает тоже быстро, а мы горим медленно и живем много лет.
Глаза изумленные, серьезные, горящие верой, той верой, больше которой не бывает, — верой ребенка в своего отца. Я помню: «Идем, Нета, я поведу нас до вершины вон того холма, а ты поведешь нас обратно». Я записываю: «Идем, Нета, поднимемся по диагонали и сядем там, чтобы нас не увидел тот, кто не должен нас видеть».
— Сейчас мы зажжем наш костер, но при одном условии: ты пообещаешь мне, что никогда не зажжешь огонь один, без того чтобы сначала сказать мне и попросить у меня разрешения. Обещаешь?
— Да.
— Ни дома, ни во дворе и ни в каком другом месте, да?
— Да.
Эйтан зажег спичку, поднес ее к комку бумаги. Появился язычок пламени, сопровождаемый тонким завитком дыма, который зачернил и сморщил бумагу, скользнул меж щепок, обвился, посветлел, поднялся к более толстым поленьям.
— Он всегда поднимается вверх. Видишь, как он пробирается? От тонкого к толстому.
Глаза Неты, подобно глазам великого множества детей до него, от древних детишек в пещере, что в нашем вади, и до него самого сейчас, в пещере нашего дома, неотрывно следят за танцем маленьких язычков пламени. Он берет палку и двигает ею одну из горящих веток, чтобы ее огонь приблизился к другому концу постройки, и Эйтан улыбается — еще один мальчик попал в древнюю мужскую ловушку.
— Еще немного, и все упадет, — сказал он. — И если мы построили наш костер правильно, все упадет в маленькую кучку углей внизу, и тогда уже все займется огнем и загорится без труда, даже дубовые дрова, и тебе останется только кормить его дровами. Потому что огонь любит поесть.
— Как дядя Довик, — сказал Нета, и Эйтан засмеялся.
Почему-то именно этот обычай — приносить нам всем угли каждое утро зимой — сохранился и после нашей беды, но уже безо всяких разговоров. Я однажды устроила засаду у дедушки — посмотреть, молчит ли он в его комнате так же, как в нашей. Эйтан пришел, все с той же пылающей лопатой в руках, бледный, с онемевшими губами, положил угли в печь и собрался уйти.
— Ты мне не разожжешь печь? — спросил дедушка.
Эйтан не ответил, но дедушка Зеев сказал мне, и Эйтан это слышал:
— У него внутри еще остался огонь. Угли под его пеплом живы. Ты еще увидишь, Рута, как что-нибудь разожжет его. Нужно только, чтобы кто-нибудь дунул. — И, помолчав, добавил: — Кто-нибудь или что-нибудь. Что-нибудь, что может дунуть.
Эйтан не сказал ни слова.
— Спасибо за угли, Эйтан, — сказал дедушка Зеев. — Иди в питомник и продолжай работать, я приду попозже посмотреть.