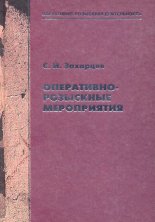Путешествие Руфи. Предыстория «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл Маккейг Дональд

Перл, Долли и миссис Раванель стояли и глупо улыбались. Руфь тоже устало, умиротворённо улыбнулась.
– Имя пришло ко мне, – произнесла Руфь. – Она будет Мартиной. Малышка Мартина.
Солнце было уже высоко, когда Перл с миссис Раванель вышли во двор, где прачка ворочала бельё в дымящемся котле, а конюх кормил лошадь, приговаривая ей что-то успокаивающее. Перл подняла над головой тонкие руки и потянулась.
– Полковник должен вернуться домой завтра. Возможно, с одной-двумя новыми лошадьми, – сообщила миссис Раванель. Она покрутила головой, с хрустом разминая шею, и пошевелила занемевшими пальцами. – Пенни, наверное, так и не поняла, куда я подевалась. Перл, разыщи, пожалуйста, мужа Руфи. Когда Долли уедет домой, вы с ним должны позаботиться о Руфи. И когда появится свободная минутка, смени мне постельное бельё.
– Да, миссас.
Фрэнсис Раванель обхватила себя руками:
– Милость Божья.
– Да, миссас.
После её ухода Перл прислушалась, не кричит ли Мартина, но наверху всё было тихо. Волнение, несмотря на усталость, ещё не улеглось. Ей не терпелось сообщить новость Джеху. В это мягкое, тихое воскресное утро на улицах было очень мало цветных, и они старались вести себя осторожно. Перл тоже насторожилась. По дороге она остановила знакомую женщину:
– Я всю ночь провела с роженицей и ничего не знаю. Что случилось?
Та тихо и быстро рассказала о том, что минувшей ночью около девяти часов, когда только началась служба, в церковь на Кау-элли ворвались стражи порядка, взломав вишнёвую дверь, сделанную Джеху, и всех арестовали.
В городе существовал закон, запрещающий цветным собираться после заката и до восхода солнца, но за его соблюдением обычно не особенно следили. Приехавших из Филадельфии священников, отца Брауна, Денмарка Веси, Джеху Глена и ещё сто сорок человек заперли в работном доме.
– О, боже, – выдохнула Перл и поспешила назад к Раванелям.
Она с трудом решилась сообщить Руфи, что её муж арестован.
Городской совет Чарлстона приговорил отца Брауна и четырёх свободных чернокожих стариков «к одному месяцу исправительных работ или выезду из штата». Браун и Веси выбрали тюрьму. Приезжих священников выслали обратно в Филадельфию.
Десять прихожан, в том числе и Джеху Глена, приговорили уплатить штраф пять долларов или получить десять ударов плетьми.
– У меня только что родилась дочь, – сказал Джеху экзекутору, – поэтому я не могу тратить деньги на штраф.
– Угу, – ответил тот, разматывая плеть.
Пока преподобного Брауна не освободили, воскресную утреннюю службу проводили дьяконы, а когда он снова приступил к своим обязанностям, Джеху починил дверь в храме.
Всё встало на свои места, и Чарлстон наслаждался спокойным летом. В воскресенье после обеда, когда погода была хорошей, Глены спасались от городского зноя, катаясь на лодке Томаса Бонно. Несмотря на то что судёнышко крепко пропахло рыбой, Руфь с Мартиной на руках чувствовала себя благородной дамой, когда лодчонка скользила меж баркентин, кечей, шхун и ботов всех мастей, которые даже ходили по океану. Течение несло их к поместью, которое белый отец Томаса отписал ему. Бонно так гордился своим каменистым участком в пол-акра, словно это были владения господина. Причалив к берегу, Томас привязывал лодку и помогал Джеху, Руфи и Перл сойти на пирс.
– Добро пожаловать в мой дом, – говорил он каждый раз.
Томас жил в рыбацкой лачуге, но строил более солидное жилище. Четверо друзей обжигали раковины устриц, а затем, раскрошив их, смешивали с песком и водой и возводили из них стены маленького квадратного домика.
– Этот дом простоит сто лет, – хвастался Томас. – Ни ветра, ни приливы, ни ураганы не опрокинут дом Бонно.
– Сто лет, – повторила Руфь. – Даже трудно представить, как долго.
– А мои лестницы… – подхватил Джеху, но вспыхнувшая на лице Руфи улыбка заставила его умолкнуть.
Пока родители весело трудились, Мартина лежала под карликовой пальмой в чудесной колыбельке, которую сделал Джеху. Мартина лежала там и весело гулила.
Белые шрамы от побоев пересекали мускулистую спину Джеху.
– Единственная белая часть Джеху Глена, – шутил он.
В обед Руфь доставала зелень, а Перл – батон хлеба к улову Томаса. После еды они разделялись на пары и отдыхали. Томас с Перл удалялись в лесок позади нового дома, а Руфь с Джеху усаживались на причале Томаса, свесив ноги в прохладную воду, наблюдая, как вдали парусные суда входят в Чарлстонскую бухту и выходят из неё.
– Ты когда-нибудь хотел побывать где-то ещё? – спросила Руфь.
– Меня больше нигде не знают. О Джеху Глене наслышаны только в Низинах.
– Не понимаю, как белые женщины могут отдавать своих детей на воспитание няни. Нет создания прекраснее, чем ребёнок.
– Оттого, что дети – ещё не господа. Они ещё не в силах хлестнуть никого кнутом.
При этих словах Джеху солнце, ярко светившее с неба, спряталось за тучу.
В будние дни Руфь приносила корзинку с обедом в дом Батлеров и приводила Мартину, чтобы порадовать папашу.
Племянник старика, Лэнгстон Батлер, должен был стать хозяином после смерти Миддлтона, взяв на себя управление плантацией и городским домом. Он полагал, что, как только это случится, он перестанет пользоваться услугами «чересчур дорогого плотника, чтобы сдирать «вполне годные» сосновые панели и заменять их «очень ценными» вишнёвыми с рейками для стульев из гондурасского красного дерева. У дяди Миддлтона полно «причуд».
Джеху и Руфь с Мартиной часто обедали с Геркулесом, усевшись на перевёрнутые корзины во дворе. Геркулес был сыном Миддлтона, но никто не знал подробностей этой истории. Его мать продали в рабство после отлучения мальчика от груди – то ли в Джорджию, то ли в Алабаму.
– Господин Лэнгстон только и ждёт, когда же умрёт старик. Каждый день, пока его дядя ещё дышит, он считает прожитым впустую. Вот так. Будь я на месте массы Миддлтона, – Геркулес понизил голос, – то опасался бы глотать кусок, который давал бы мне Лэнгстон. – Он подмигнул своим слушателям с самым невинным видом. – Если вы понимаете, что я имею в виду.
Слуги замечают всё, что от них не прячут, ведь утаивание будет означать признание слуг равными себе и не заслуживающими своего положения. Геркулес открыто описывал намерения Батлера в таких выражениях, что, будь он ровней и белым, знание таких подробностей могло бы встревожить молодого хозяина.
– Мастер Лэнгстон перевернёт весь дом вверх дном. Мастер Миддлтон любит тратить деньги. А мастер Лэнгстон готов тратить деньги только на лошадей, но он совсем не похож на полковника Джека. Полковник Джек любит лошадей. А мастер Лэнгстон покупает лошадей потому, что так делают все джентльмены в Низинах.
Лэнгстону Батлеру была ненавистна дядина расточительность и небрежное отношение к Броутону, их плантации на реке Эшли. Лэнгстон пытался расширить производство риса, но, когда предложил своим соседям, Раванелям, продать их участок, полковник Джек спросил:
– А твой дядя Миддлтон знает об этих планах?
Миддлтон ничего не знал – что было прекрасно известно Джеку. Он с удовольствием наблюдал расстройство Лэнгстона.
– Белые люди – жадные, – сказал Геркулес. – Они были чёрными, пока жадность их не выбелила.
Джеху согласился с этим:
– Господин Лэнгстон всё спрашивает, сколько стоили эти доски. И на что пойдут остатки? Ну я и свалил все обрезки в кучу. Пусть делает с ним, что хочет.
Геркулес рассмеялся:
– Кухарка бросит отличное вишнёвое дерево в печку, чтобы приготовить ужин.
– Этот человек вечно твердит, что его то один обманул, то другой, но на самом деле мошенник – он сам, – сказала Руфь. – Он похож на скорпиона, который размахивает хвостом.
– Девочка, – широко улыбнулся Геркулес, – кто вложил такие идеи в твою прелестную головку?
– А ты отчего такой нахал?
– Да уж такой, как есть. Меня за сахарком не посылают, потому что я умею разговаривать с лошадьми.
Руфь полагала, что Геркулес просто важничает, как все красавчики, но Джеху уже стал ревновать, поэтому они прекратили вместе обедать во дворе.
Мастер Лэнгстон Батлер прощал Геркулесу его нахальство, но смутно чувствовал в Джеху нечто такое, что ему решительно не нравилось. Он тщательно, придирчиво проверял его работу:
– Этой комнатой будут пользоваться дамы.
– Да, сэр. (Джеху терпеть не мог называть кого-то «господин».)
– Они не заметят плохую работу в отличие от меня.
Молодой Батлер, ползая на коленях, изучал обшивку, постукивая по пятнышкам, где лак блестел чуть менее ярко, и пытаясь поддеть ногтём рейки для стульев. Поднявшись, он с улыбкой отряхнул брюки.
Джеху так и хотелось спросить: «Чего тебе от меня надо? Зачем так придираешься?»
Но, конечно, он таких вопросов задать не смел.
– Твоя работа почти так же хороша, как у какого-нибудь ирландца.
– Цветные тоже хотят высоко держать голову, – не сдержался Джеху.
Молодой Лэнгстон надменно улыбнулся взрослому человеку одного с ним возраста, мастеру своего дела, с которым сам Батлер никогда бы не справился; женатому человеку, уже имеющему ребенка, человеку с добрым именем. В его улыбке было столько ненависти, что Джеху подумал – сейчас Лэнгстон Батлер ударит его. Допустим, кочергой – он стоял очень близко к ней, – или вытащит пистолет и убьёт на месте, и единственное, что останется после смерти Джеху – пятно крови на паркете и трудности, связанные с тем, что придётся тащить тело мёртвого негра по улице.
Но всё же, невзирая на ужасную ухмылку Батлера, Джеху, облизав губы, повторил:
– Цветной человек тоже хочет держать голову высоко.
Слова повисли в воздухе.
– По крайней мере, не ниже ирландца, – попытался он закончить шуткой.
Когда Джеху пересказал этот разговор Руфи, она содрогнулась:
– Тебе нельзя дерзить, Джеху. Ты же не сынок его дяди, и к лошадям никакого подхода не знаешь. У тебя есть только я и Мартина.
Джеху позвенел монетами в кошельке:
– Но он мне платит, не так ли? Всё по-честному, без обмана.
После того как Томас Бонно выкупил Перл у миссис Раванель, она осталась работать у прежней хозяйки за двадцать пять центов в день. Отец Браун обвенчал Перл с Томасом, и хотя Фрэнсис Раванель присутствовала на службе, на свадебный пир не осталась.
Законное освобождение было нелёгким делом, но полковник Раванель помог Томасу сделать невесту свободной. Когда Перл спросила Джеху, почему он не сделал свободной Руфь, Джеху пошутил:
– Не могу тратить свой Капитал.
Почти месяц Руфь отказывалась спать с ним, пока её собственные желания не возобладали над обидой.
«Быстрый рост числа свободных негров и мулатов в этом штате из-за миграции и освобождения целесообразно и необходимо сдержать путём введения законодательных мер, препятствующих освобождению рабов… С этой целью почтенный Сенат и Палата Представителей постановили совместно на Генеральной Ассамблее, чтобы ни один раб в дальнейшем не мог получить свободу вне судебного постановления».
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЮЖНОЙ КАРОЛИНЫ,
20 ДЕКАБРЯ 1820 ГОДА
Геркулес сообщил Руфи плохие новости прямо на Митинг-стрит, не обращая внимания на повозки, которым он мешал проехать, и на крики разъярённых извозчиков. Сняв шляпу, он даже не мог флиртовать, как обычно.
– Мамуся, ты заболела? – спросила Мартина.
Ужин в этот вечер прошёл в молчании. По дороге на библейские чтения к Денмарку Веси Руфь также не проронила ни слова, и Джеху как ни пытался взять её за руку, так и не смог. В маленьком каркасном домике Веси было тихо. Снаружи не толпились цветные, только на крыльце сидел Галла Джек, обстругивая палку.
– Чудесный вечер, – приветствовал его Джеху.
– Вот на случай, если явятся стражники. – Джек смешно пошевелил густыми бровями. – Послушай-ка, мамаша. Духи уже спрашивали о тебе.
Руфь, поджав губы, отмахнулась. Дверь и окна были завешаны одеялами, в комнатку набилось слишком много народу. Джеху с Руфью нашли местечко в задних рядах. Было тесно, жарко и душно.
Денмарк Веси, положив Библию на табурет, читал, беззвучно шевеля губами. Интересно, подумала Руфь, почему одни, когда читают, шевелят губами, а другие – нет.
Некоторые пришли в шляпах и косынках. Другие явились с непокрытой головой. У одних блестели лысины, у других чёрные и седые волосы тускло светились. Руфь подумала: несвободные теперь никогда больше не смогут освободиться.
Она никак не могла сосредоточиться, даже когда Денмарк Веси, приложив палец к строке, где он остановился, сказал:
– Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя[28]. – Он постучал толстым указательным пальцем рабочего человека по странице. – Вы думаете, Захария обращается к нам, неграм? Думаете, Бог смотрит вниз и видит, сколько чёрные награбили? Нет, Он не говорит с нами; Он говорит это господам. «Вот наступает день Господень». Как вы будете готовиться к этому дню? Останетесь стоять или протянете ему руку? «Вот наступает день Господень…»
Несмотря на духоту и жаркий, спёртый воздух, Руфь почувствовала, как по плечам прокатилась волна холода. День Господень.
Денмарк Веси внимательно вчитывался в текст, водя пальцем по строкам.
– Внемлите, – прошептал он.
В комнатке было так тихо, что его шёпот скользнул по рядам, как старый добрый друг.
– Скажите мне, братья… Многие ли из вас кланяются господам на улице? Многие?
Одни опустили головы. Другие отвели глаза.
– Значит, никто не кланяется?
Он облизал губы.
– Так? И вам, и мне отлично известно, что белые господа – жестокие пропойцы, прелюбодеи и неверующие. Мы знаем, кто они такие. Но всё равно вы продолжаете им кланяться, потому что они – я так понимаю – лучше вас. Х-м-м-м.
Он в задумчивости приложил палец к подбородку.
– Боже милостивый! Цветные хуже прелюбодеев, неверующих и пропойц. Я подозреваю, что вы все прокляты. И обречены на вечные муки.
Притворное изумление промелькнуло на его суровом лице.
– Иисус Христос спасает господ, но ему нет никакого дела до нас. Тот господин, которого вы встречаете на улице, вообще замечает ли, что вы раскланиваетесь и расшаркиваетесь перед ним, или проходит мимо, словно вы всего лишь торчок для коновязи или лошадиный помёт в грязи? Поднимите руки, кто из вас кланяется? На сколько шагов вы отступаете в сторону, пропуская господ?
Мартина завозилась на руках у Руфи.
– Больше всего Господь ненавидит обманщиков!
Головы опустились ещё ниже, словно им больше ничего не оставалось, когда поднялись руки.
– Почти все. Ну-ну… – опять неискренне удивился Веси и покровительственно улыбнулся, словно любящий дядюшка.
Он продолжил читать, погрузившись в себя и шевеля губами, и всё постукивал пальцем по строчке, после чего поднял глаза, будто поражённый, что в его дом набилось столько людей.
– Сколько из вас, «чернокожих джентльменов», притворяется, что он не умнее бессловесной старой коровы, которую белый господин посылает вас доить? Сколько женщин закатывают глаза и вздыхают: «Масса, я всего лишь цветная девушка, мне это слишком сложно понять»?
В комнатке поднялись гул и приглушённый говор, как в гудящем улье.
– Сколько из вас поучают своих детей: «Когда господин что-то спрашивает у тебя, опусти глаза и смотри на свои стопы. Если знаешь, то ответь. Если не знаешь, всё равно ответь! Негров высекут скорее за незнание, чем за ошибку». И вы говорите своим детям: «Не смотри на этого белого человека и, что бы он ни делал, не смей перечить». Сколько из вас?
Он снял очки и потёр переносицу.
– Матери и отцы, многие ли из вас так говорят?
– Детям придётся плохо, если они не послушаются, – сказал Томас Бонно, поднявшись.
– А, мистер Бонно. Рад слышать вашу интерпретацию Библии. Но вы правы, господин может схватить раба и под дулом пистолета отправить его в работный дом повидаться с мистером Кнутом. Но «наступает день Господень», мистер Бонно. Внемлите…
Он сжал большой кулак и пристально посмотрел на него.
– Я долгое время был плотником. Ставил ровные балки, совсем как какой-нибудь белый. Я знаю, как установить отвес или проверить уровень. А вон тот темнокожий, Джеху Глен, лучший строитель лестниц в Низинах, он делает это лучше любого белого. И вы это знаете, и он сам это знает, и белый тоже. Почему тогда Джеху должен кланяться на улице? Вы слышали о Томасе Джефферсоне, белом господине, который был президентом? Так оно и было. Президент всех Соединённых Штатов. На прошлой неделе я чинил веранду господину Би, потому что там стены сгнили изнутри! Белые плотники проложили водосточные трубы внутри стен; внутри, а не снаружи! Полагаю, что и у Томаса Джефферсона всё сделано точно так же. И держу пари на десять центов, что у него стены тоже гниют. Ни один чернокожий плотник в Низких Землях не будет настолько глуп, чтобы засовывать водосточные трубы под стены, где они могут забиться, а прочистить их не удастся. Вот как делает дело белый человек!
Он горестно покачал головой:
– Мне иногда кажется, что это господа должны кланяться нам.
В задних рядах засмеялись, но смех застрял у людей в горле прежде, чем Веси призвал к тишине.
– Я принялся выдирать из стен трубы, намереваясь установить их так, чтобы можно было до них добраться, если они засорятся, но слуга старого массы Би Архимед – ну, вы знаете его: этот темнокожий ходит в Епископальную церковь Святого Филиппа – напустился на меня. «Не стоит так делать. Белые прячут трубы в стены. Так правильней». Значит, если трубу повесил белый человек, она не протечёт? Бог мой! Архимед уставился на меня, совсем как вы сейчас. Он понял, что усвоил эти правила с молоком матери. То, что говорит господин, не подвергается сомнению. А господин говорит Архимеду: «Ты ничего не смыслишь, а тот, кто спорит с хозяином, получит пулю или отправится на порку в работный дом!»
Он сделал многозначительную паузу с видом человека, владеющего истиной, и шёпотом добавил:
– Если ты хозяин, это ещё не значит, что ты всегда прав! А если ты раб, это не умаляет в тебе человека!
Веси поднял глаза к низкому дощатому потолку и продолжил, словно ни к кому не обращаясь:
– Я не буду уступать дорогу ни одному белому. И вам это известно. Меня уже отправляли «отведать сахарку». Я уже знаком с кнутом. Но я не глуп, и не ленив, и давно уже не мальчишка. Я – мужчина в расцвете сил.
И, фыркнув, добавил:
– Ну, может быть, расцвет остался чуть позади.
Все рассмеялись от этого признания. Кто-то сменил позу, разминая затёкшие мышцы, какой-то старик закашлялся.
Веси ткнул в собравшихся пальцем, словно перед ним собрались евреи, бегущие из Египта.
– Не надо притворяться мальчишкой, если ты уже вырос. Не притворяйтесь глупее белого, если это не так. Кем притворяешься, тем и становишься. Негр, который кланяется господину на улице, который ведёт себя как дурак и забывает, кто он на самом деле, – раб.
Он захлопнул Библию.
– Он заслуживает быть рабом!
И прошептал в тишине:
– Близится День Господень.
Собравшиеся начали расходиться по двое-трое. Томас Бонно, едва завернув за угол, схватил Джеху за руку.
– Мы вынуждены притворяться, – проговорил он. – Если мы не будем этого делать, нас высекут или ещё что похуже. Мне иногда кажется, что Денмарк Веси подталкивает нас к смерти.
– Кем притворяешься, тем и становишься, – с уверенностью ответил Джеху, самодовольно, как показалось Руфи.
Томас, выпустив из пальцев рукав Джеху, изучающе посмотрел ему в лицо, а затем медленно, без всякого раздражения кивнул. Больше Бонно с женой не приходили ни на чтения Библии, ни в церковь на Кау-элли, а Гленам уже не пришлось кататься с ними на лодке или вместе обедать, и свой полосатый домик Бонно достраивали без чьей-либо помощи. По воскресеньям после службы Джеху с Руфью и Мартиной обедали на берегу реки, не приближаясь, впрочем, к Уайт-Пойнту, куда вход был разрешён только белым.
Праздничные дни этой зимой принесли одно разочарование. Деньги таяли, цены на рис падали. У Раванелей стало меньше работы для Руфи. Хотя Фрэнсис Раванель рекомендовала её миссис Перье, а та после длительной беседы принялась учить Руфь экономии.
– Не каждый вечер на столе должно быть мясо, – советовала она. – Дырявые носки можно заштопать.
Миддлтон попросил Джеху составить план восстановления Броутонского загородного дома, над чем Джеху просидел несколько недель, но Лэнгстон Батлер не принял проект и, поскольку работа не началась, не заплатил ни цента. Когда Джеху стал возражать, молодой Батлер сказал, что, если Глен прекратит канючить, возможно, он вновь обратится к услугам плотника, когда вырастут цены на рис.
Теперь никакая работа не мешала библейским чтениям, и Джеху часто являлся домой за полночь. К дому Веси приходил и дозор, чтобы знать слушателей в лицо, но не требовал разойтись.
Геркулес не посещал эти собрания.
– Этот Веси слишком много рассуждает, – говорил он Руфи. – То, что он говорит, может быть, верно и в то же время неверно. К тому же мне надо сейчас объезжать жеребца; он будет победителем.
– Геркулес… – начала Руфь.
– Я хочу сказать, что жеребёнок – особенный. Он совсем как я, мы будто близнецы с ним.
В феврале у Перл подошёл срок родов. Руфь, Долли и миссис Раванель помогли малышу явиться на свет, но через несколько часов младенец умер. Близкие отношения Руфи и Перл умерли вместе с бедняжкой. Перл ушла от Раванелей, переехав за реку в их полосатый домик. Больше Руфь не виделась с семейством Бонно.
Поздние занятия у Денмарка были слишком утомительны для Мартины, и Руфь с дочерью перестали на них ходить.
Женщин и так было немного, а Руфь бросила занятия последней. Джеху вздохнул с облегчением.
– Изучение Библии, – изрёк он, – занятие для мужчин.
Когда Джеху возвращался домой, Руфь притворялась спящей. Она делала вид, что не слышит, как муж ходит в другой комнате, бормоча что-то невнятное.
И всё же она была благодарна ему за приход, который нарушал один и тот же извечный сон о том, как она прячется под корзиной для маниоки, а сквозь лозу просачивается кровь.
Воскресные туфли
Солнце стояло высоко в небе, лучший товар был распродан, и рыночные торговцы начали собираться по домам.
Внимание Руфь привлёк крепкий ямс, который более ранние покупатели не заметили. Иногда под товаром похуже скрывался хороший; а порой какой-нибудь торговец, замешкавшись, слишком поздно убирал хороший ямс. Тот, на который Руфь положила глаз, был без единого пятнышка и пореза. Значит, его правильно выкапывали.
– Решай-ка побыстрей, – сказала торговка, укладывая пустые корзины в повозку. – А то пока я до дома доберусь, солнце уж сядет.
– Сколько хотите за этот мелкий, недозрелый ямс? – в третий раз спросила Руфь.
– Пять центов.
– За пять центов я найду и получше.
Торговка зевнула, похлопав ладонью по рту. Она поставила корзину с непроданными перцами поверх пустых.
– Сейчас, миссас, трудные времена, – сказала Руфь. – У мужа с самого Рождества работы нет. Могу заплатить за ваш ямс только два цента.
Поджав губы и стараясь не встречаться с Руфью глазами, женщина положила три кочана капусты в корзину с перцами, сунув их так, что перцы оказались сверху. Она добавила туда же два не очень хороших ямса.
– Я каждый день до свету должна возить эту тележку на рынок и обратно домой. Этот ямс до завтра не испортится. Утром за хороший можно пять центов получить. А дома у меня дети и голодный муж. Лучше я сама из него что-нибудь состряпаю.
Руфь перебирала монеты в кармане передника. Сварить бы этот ямс да накормить Джеху и Мартину, а очистки съесть самой. Этот ямс нужен как воздух.
Поэтому она не стала переходить на крик. Что толку скандалить? Но внутри у неё всё кричало от Ужаса, который давно подбирался к ней. И вот он здесь! Страх подступил так близко!
Пригнувшись, он мчался белым всадником по проходам между прилавками. Когда его конь перескочил через тележку, он задел её ногой, тележка опрокинулась, красные картофелины раскатились по мостовой. Цветные спасались бегством. Погонщик дёргал за поводья мула, рвущегося из оглоблей и лягающего фургон.
А всадник, схватившись одной рукой за гриву, а другой – сжимая саблю, скакал галопом прямо на Руфь, словно он явился сюда именно за ней. В последнюю секунду он ударил каблуками коню по бокам, натянул узду, и откормленный белый конь, едва не упав, остановился. Белый человек на белом коне. Конь был весь в мыле, глаза у всадника бессмысленно вращались.
– Хо! – выкрикнул он высоким, надтреснутым голосом. – Хо! Возвращайтесь к своим хозяевам! Хо! Приказ губернатора Беннета!
Зелёный мундир Чарлстонских рейнджеров был застёгнут на все пуговицы, кроме одной, а револьвер с птичьей головкой[29], висевший на портупее, при случае был готов выскочить из кобуры.
– Возвращайтесь к хозяевам! – выкрикнул он ещё раз. – Негр, попавшийся на улице, будет считаться честной добычей!
Он привстал в стременах, размахивая саблей над головой.
Внутри у Руфи всё сжалось, но она заставила себя улыбнуться.
– Как поживаете, господин Перье?
Кэткарт Перье ощетинился, словно она сбросила с него маску.
– Я Руфь, молодой господин, няня мисс Пенни Раванель.
Он не расслышал. Если вообще что-нибудь слышал. Его глаза блуждали повсюду, ничего не видя. Рука с побелевшими костяшками сжимала эфес блестящей сабли, которая жаждала проткнуть чью-нибудь плоть.
– Почему вы хотите убить нас? – спросил он с ужасающей бесстрастностью.
– Убить вас, господин? Да я вас почти не знаю.
– Я был хорошим хозяином, – упорно продолжал Кэткарт. – Я ни разу, ни разу не отправлял слуг «отведать сахарку». Никогда. Я не склонил ни одну служанку к близости против её воли.
Пот блестел на его щеках. Изогнутый конец сабли вспыхивал, как змеиный язык. Руфь почувствовала за спиной холодную пустоту. Торговка сбежала, бросив свою тележку.
Руфь не решалась отвести глаза от молодого военного. Его сытый конь неосторожно переступал с ноги на ногу, но Руфь, стоя в опасной близости от его копыт, не осмеливалась убежать.
– Хо! – крикнул Кэткарт Перье на весь опустевший рынок. – Возвращайтесь к своим хозяевам!
Повсюду валялись опрокинутые тележки. Какой-то мул, впряжённый в повозку без погонщика, подошёл к рассыпавшимся бобам и принялся их поедать. Листья карликовой пальмы поникли от жары.
У Руфи все подмышки промокли от пота. Струйки, стекая по бокам, холодили тело.
– У вас нонче что-то стряслось, господин Кэткарт? – участливо поинтересовалась она.
– Стряслось? Да, так и есть, черт побери! – выкрикнул он и осёкся. – Простите за грубость.
Он спрятал саблю в ножны и судорожно, глубоко вздохнул.
– «Солдат встречает смерть для славы»[30], – процитировал он.
Его пальцы бесцельно блуждали по незастёгнутому мундиру.
– Возвращайтесь к хозяевам, – повторил он уже спокойно.
– К миссис Раванель?
– К кому? К своей чёртовой госпоже, кто бы она ни была. Любой негр, оказавшийся на улице, будет приговорён к… наказан.
Он нервно расстегнул и застегнул пуговицу.
– Вы бы лучше начали заново, господин, – сказала Руфь.
Он посмотрел на неё невидящим взором.
– Застёгиваться, я имела в виду. Нужно застегнуть все пуговицы по порядку, снизу вверх.
Её рука скользнула в карман передника и сжала ямс.
– Я заплатила за него, – солгала Руфь. – Это мой ямс.
– Ямс, – задумчиво повторил Кэткарт и через секунду пробормотал: – В тот день, в былом великолепии, ямс…
– Господин?
– Стихи. Великий Байрон, подпорченный смиренным чарлстонским рифмоплётом.
– Господин, вам бояться нечего. У меня и в мыслях не было вам навредить.