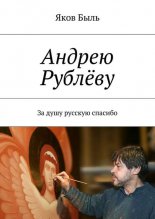Муза Кормашов Александр

– Покаяться в грехах?
– Что-то в этом роде.
Она нашарила в темноте его ладонь.
– Я с вами.
Позже, когда Олив, лежа в постели, вспоминала эти события, она все списала на алкоголь. Позировать было выше ее сил. Она не считала себя достойной моделью и не могла соперничать с матерью. А тут они оказались на равных, она и Исаак. Уже не наблюдающий и наблюдаемая. В темноте она была самой собой, женщиной, которая брала мужчину за руку и уводила куда-то.
– Вы, наверно, замерзли, – сказал он, и она поняла, что он тоже довольно пьян. Когда он снял пиджак и накинул ей на плечи, у нее кожа сладко заныла и все тело погрузилось в нирвану от такой заботы и внимания.
Через десять минут они достигли церкви Святой Руфины, примыкавшей к главной площади Арасуэло. Площадь обезлюдела, после того как почти все жители перекочевали на холм, чтобы наслаждаться музыкой и «мансанильей», доставленной бочками в качестве подарка хозяину. Олив и Исаак обернулись – начали взрываться фейерверки, в небо взлетали огромные красные, зеленые и оранжевые морские ежи и превращались в каскады. Он с силой приоткрыл дверь и прошмыгнул в церковь. Последовавшая за ним Олив задохнулась от затхлого запаха ладана и оробела. В окно лился лунный свет, падая на скамьи цвета пчелиного воска, на злобных святых в простенках. Он высвободил руку и ушел в сторону нефа.
– Исаак…
Раздался выстрел, потом еще один и еще. Олив так испугалась, что даже не смогла закричать. Извне по-прежнему долетал треск фейерверка. Она вросла в пол, цепенея от ужаса, и вдруг почувствовала прикосновение.
– Нам надо уходить, – сказал Исаак.
Он взял ее за руку, и они выбежали из церкви.
– Что вы натворили? – прошипела она. – Священника… боже, что вы натворили?
Они бежали до самой финки. Олив, скинув туфли и оставшись в чулках, то и дело ранила ноги об острые камни. У ворот они остановились перевести дух. Все еще рвались петарды, и в воздухе стоял серный запах пороха.
Олив привалилась к воротам.
– Я пособница убийцы? – прошептала она. – О господи, это ведь даже не шутка.
Исаак коснулся ее щеки.
– За Адриана.
– Что вы этим хотите сказать?
Он начал ее целовать, обхватив лицо ладонями, перехватывая за талию. В том, как он перебирал ее волосы, как покрывал шею поцелуями, спускаясь до самой груди, где вместе с ее кожей горели изумруды, сквозила гордость. Она доказала ему свою значимость наконец-то.
Исаак прошелся пальцами по ожерелью.
– Откуда оно у вас?
– От друга, – и поцелуем остановила новые вопросы. Она и не подозревала, что ее тело способно на подобные отклики и что она может вдохновлять мужчину на такое.
Он снова ее поцеловал, а Олив раскрыла губы и погрузила пальцы в гриву его волос, а ржавые прутья впивались ей в спину. Они целовались, целовались, целовались, все глубже проникая друг в друга, а за ними уже какое-то время наблюдал некто, чей силуэт был очерчен на фоне входной двери, в то время как пожилая дама опять затянула свою жалобную мелодию.
Олив попробовала сесть, но мозг пробила адская молния. Полость рта превратилась в пустыню, шея – в слиток свинца. Лежа в неразберихе простыней, с протухшими кишками и головой, провонявшей от сигаретного дыма, она ощупала себя. Она лежала голая. О боже, где ее одежда? Она скосила глаз налево. Кто-то аккуратно сложил ее платье на стуле; чулки, с пятнами крови на подошвах, свисали с одного подлокотника, а лисий палантин – с другого. Похоже на охотничий трофей, ночью освежеванный и выпотрошенный. Глаз мертвый, стеклянный, зубы слипшиеся. Она потрогала шею. Изумрудное ожерелье на месте, змея на ключицах.
В памяти снова прозвучали выстрелы. Темная церковь, фейерверк, ржавые ворота – это был сон? Столько всего за один день! В отдалении зазвонил телефон. Что, если гражданские гвардейцы уже у дверей и собираются ее увезти?
Исаак. Как, спрашивается, она до сих пор жила без этого поцелуя? Сквозь ночную мглу ее приволокли в церковь, где прогремели пистолетные выстрелы, а затем поцеловали. Ради еще одного такого поцелуя она готова была перестать дышать.
Она словно расширилась, как будто сокрытую в ней дверцу наконец открыли ключиком и обнаружился петляющий коридор, по которому она побежала. С первой же встречи этот человек захватил ее воображение. И сразу ее чувства разрослись, ее горизонты раздвинулись. Впервые она ощутила себя великаншей. Нервозность по поводу будущего шла рука об руку с влечением к нему столь сильным, что его, пожалуй, не утолил бы даже Исаак, если бы он ею овладел.
Только сейчас Олив заметила Терезу, которая поправляла простыни у нее в ногах.
– Я приготовила для вас ванну, – сказала та и отвернулась, чтобы не видеть ее наготы.
– Кто звонил?
– Никто.
– Никто?
Тереза помедлила в легком замешательстве.
– Я не знаю.
– В доме полиция?
– Нет, сеньорита.
– Больше я не пью.
– Вас ждет стакан молока.
– Не могу.
– Под кроватью стоит ведро.
Олив перегнулась и заглянула в ведро, на дне которого валялись ошметки земли из сада. Ее стошнило, и она испытывала одно желание – изгнать из себя всю боль. Зрачки словно окаменели.
– Сеньорита, сегодня мой брат собирается показать свою картину.
– Ммм? – простонала Олив, снова распластываясь на постели. – Скажи, Тере… из деревни дошли… какие-нибудь слухи?
– Вчера ночью кто-то залез в церковь и расстрелял статую Девы Марии.
– Что?
– Отец Лоренцо вне себя, – продолжала Тереза. – Поставил ее в центре площади и изрыгает проклятья.
Олив пыталась собраться с мыслями.
– Кого поставил?
– La Virgen, – повторила Тереза по-испански. – Она дорогая, из старого дерева. В нее три раза выстрелили. Сначала ее отнесли к доктору Моралесу. Как будто он способен вдохнуть в нее жизнь, – Тереза фыркнула. – Знаете, о чем говорят люди, сеньорита? «Кто мог прострелить Мадонне грудь?»
Олив промолчала, закрыв глаза.
– Моему брату сегодня еще хуже, чем вам, – сказала Тереза.
– Хорошая была вечеринка.
– Ну да. Я уже четыре часа убираюсь. Пойдемте в ванну, пока вода совсем не остыла.
Тереза развернула большое купальное полотенце, и Олив пришлось подчиниться. С помощью укутавшей ее Терезы она поплелась в ванную комнату.
В саду Терезины семена пошли в рост; из голых борозд, мимо которых в январе она и Олив так часто прохаживались, проклюнулись ростки. Пробковые дубы и милые каштаны налились зеленью, а солнце на несколько градусов потеплело. Хотя цветы еще не распустились и воздух был разреженный, Тереза улавливала запахи уходящей зимы, и тело загадочным образом тянулось к уже замаячившему, самому обнадеживающему времени года.
Сидя в гостиной на потертом зеленом диване, она слышала, как наверху Олив спускает воду в ванне. Она подумала об Адриане; гибель этого мальчика не укладывалась у нее в голове. Подумала о безумной шлоссовской вечеринке, о взбалмошном Исааке и о мрачном отце, о расстрелянной Мадонне. Все было так зыбко. А при этом, держа в уме предстоящую демонстрацию картины, еще никогда Тереза не испытывала такой уверенности. Ее вопрос, жалеет ли брат о том, что больше не будет писать портрет Сары и Олив, он проигнорировал и зашагал вниз по склону в сторону деревни, чтобы одолжить у доктора Моралеса столы и стулья для вечеринки.
Сегодня утром, в коттедже, Тереза заглянула к брату и предложила сама отнести картину в особняк и подготовить все для торжественной церемонии.
– Я поставлю ее на мольберт в восточной гостиной, – сказала она.
Исаак, лежавший в темной спальне, приподнял фланельку, прикрывавшую его лицо, и, поглядев на сестру, сказал:
– Хорошо. Я рад, что закончил. Только без меня никому не показывай.
Тереза охладила одну из оставшихся бутылок «Клико» и на ночь оставила на веранде. Все окна открыли настежь, чтобы проветрить комнаты, пропахшие сигаретным дымом. Основательные лужицы пролитого шерри притягивали к себе полчища муравьев. Тереза раздавила их подошвой, расставила диван и кресла полукругом с мольбертом в центре и задрапировала картину белой простынкой. Она поставила шампанское в ведерко со льдом и пошла на кухню. Никогда еще у нее не было такой ясной головы и такого всеобъемлющего ощущения цели. Возбуждение почти болезненное.
Через полчаса все были в сборе. Гарольд, быстрее других пришедший в себя, надел безупречно сшитый костюм. Ослабевшая Сара дрожащей рукой протянула бокал шампанского дочери, которая от одного вида спиртного позеленела. Исаак уселся на край дивана и глубоко затягивался сигаретой, покачивая ногой. Наступил его звездный час – его творение предстанет перед ликом знаменитого арт-дилера Гарольда Шлосса. Тереза перехватила взгляд, который он бросил на Олив, получив в ответ улыбку, выражавшую откровенную радость. А Гарольд озадаченно посматривал на жену, не понимая, что происходит.
Интересно, подумала Тереза, ответил ли он утром на телефонный звонок. Она дала себе слово никогда больше не поднимать трубку.
Сара встала.
– Дорогой Гарольд, – начала она. – Спасибо тебе от всех нас за прекрасную вечеринку. Похоже, что даже здесь, на краю цивилизации, ты не потерял хватку.
Все засмеялись, а Гарольд отсалютовал бокалом шампанского.
– Как ты знаешь, события в последнее время идут то вверх, то вниз, – продолжила Сара. – Но нам ведь здесь нравится, правда, дорогой? И у нас все хорошо. Словом, я… мы… решили сделать тебе маленький подарок, чтобы отблагодарить тебя за все. Это Лив и я, милый. – С этими словами она сдернула простынку с картины. – Мистер Роблес написал наш двойной портрет… для тебя.
Тереза осушила предложенный ей бокал. По внутренностям прокатилась болезненная непреодолимая волна страха, во рту забродили пузырьки, игристый напиток взбаламутил кровь. Исаак нервно взъерошил волосы, когда простынка каскадом упала на кафельный пол. У Олив же, вцепившейся в подлокотники кресла, побелели костяшки пальцев. Все так и ахнули.
Олив была напрочь выбита из колеи. Она не верила своим глазам. Разлитая синева, золотистая пшеница и две женщины: одна держит горшок, стоя посреди сияющего поля, а вторая обреченно свернулась калачиком среди осколков разбитого горшка.
Ее картина. «Святая Юста в колодце». Она перевела взгляд на Исаака; он тоже взирал на полотно в растерянности. Что оно делает здесь? Почему не лежит, спрятанное, наверху, в чулане? Олив посмотрела на Терезу, чье лицо выражало суровое торжество.
Вдруг раздались хлопки. Ее отец аплодирует. Он не отрывал глаз от картины.
– Браво, Исаак, – сказал он. – Браво. Вот так мастер!
Сара, положив руки на бедра, несколько насупилась.
– Это… не совсем то, чего я ожидала. Но мне нравится. Где тут кто, мистер Роблес? Гарольд, тебе правда нравится?
– Я давно не видел ничего подобного. Лив, у тебя такое лицо, будто ты столкнулась с привидением, – заметил отец. – Ты не расстраиваешься, что мистер Роблес еще не сделал тебя всеобщим достоянием?
Олив лишилась дара речи. Она только смотрела на свою картину, вокруг которой расхаживал отец.
– Это просто чудо, – продолжал он. – Я знал, что у вас за душой что-то есть, мистер Роблес. Какая, к черту, литография!
В голосе Гарольда чувствовались теплота и энтузиазм. Так было всякий раз, когда полотно находило с ним общий язык. Это был разговор без слов, картина его медленно разогревала, прокручивалась в голове, а сам он обходился с ней, как малое дитя с карамелью: обнюхивал, облизывал по краям, чтобы рано или поздно добраться до начинки.
Вот и Олив казалось, что ее сейчас высосут и от нее ничего не останется.
– Это настоящее. Как же хорошо. – Голос отца долетал до нее, словно со дна колодца. – Этот горшок… эти олени. Здорово! Просто класс.
Исаак не сводил с картины глаз, обшаривая ее всю, словно в надежде, что цвета, композиция и линии с ним тоже заговорят. Был ли он зол? Трудно понять. Как и Олив, он хранил молчание. А где же его картина, подумала Олив? И почему он молчит? Она поймала взгляд Терезы, вместо торжества теперь он выражал нетерпение.
– Мистер Роблес, вы звезда. – Сара положила руку ему на плечо. – Отличная работа.
Тереза поощрительно кивнула Олив – и тут до нее дошло. Тереза хотела, чтобы она сказала: «Это моя картина. Я ее нарисовала. Произошло недоразумение», хотя Олив и не понимала ее тайных резонов. Она уже открыла рот, и слова готовы были слететь с языка, но тут заговорил отец:
– Мы ее покажем в Париже. Я думаю, она может заинтересовать нескольких коллекционеров. Исаак, я готов выступить вашим агентом. Вам предложат хорошую цену.
– В Париже? – вырвалось у Олив, и она тут же прикусила язык.
– Как она называется? – поинтересовался Гарольд.
– У нее нет названия, – ответил Исаак.
Гарольд в задумчивости разглядывал полотно.
– Мне кажется, с учетом того, что я попробую ее продать, не стоит упоминать, кто изображен на картине. Как насчет «Девушек в пшеничном поле»?
– Гарольд, – вмешалась Сара. – Это наш тебе подарок. Ты не можешь вот так взять и продать ее.
Но он пропустил это мимо ушей.
– Нет, лучше, пожалуй, «Женщины в пшеничном поле».
– Бедняжка Лив, такой жалкий колобочек, – сказала Сара и, осушив бокал, снова налила себе шампанское. – Мистер Роблес, вы чудовище.
Исаак посмотрел на Олив и Терезу.
– Да, – согласился он. – Это правда.
Он поднялся. На их глазах в нем произошла почти алхимическая трансформация. Формировался новый Исаак, облако превращалось в золотой слиток. Перед ними настоящий художник, то, что можно ощутить, но нельзя потрогать, как бы они того ни желали.
– Тереза, – обратился он к сестре и словно бы споткнулся на своем английском, что прежде с ним не случалось. – Мне нужна на кухне твоя помощь. Я принес репу для супа, как ты просила.
– Что, твою мать, ты натворила? – прошипел Исаак и силой втолкнул сестру в кухню, ввинтив кулак ей между лопаток.
– Ничего я не натворила, – прошипела Тереза в ответ. – Надо же, приплел какую-то репу…
– Заткнись. Мне нужен был предлог. – Он затворил дверь. – Чья это картина?
Тереза вызывающе вздернула подбородок.
– Олив. И она лучше твоей.
– Олив?
– Она рисует каждый день. Ее пригласили в художественную школу, но она предпочла остаться здесь. Ты ведь ее про это не спрашивал, когда совал ей в рот свой язык?
Исаак сполз на стул и обхватил голову руками.
– О боже. Она подсунула свою картину.
Тереза покраснела.
– Это не она, а я.
– Ты? Но зачем?
– Не хочу, чтобы ты разбил ее сердце.
– Господи. Это все из-за одного поцелуя?
– Ты сюда пролез хитростью…
– А что сделала ты, притащившись со своим цыпленком в виде подношения, как какой-нибудь голимый индеец к Колумбу?
– Я им помогаю ежедневно. Без меня они бы пропали.
– Ты всего лишь служанка, а могла бы стать кем угодно.
– А от тебя одни неприятности.
– Сара Шлосс попросила меня написать ее портрет, что я и сделал. А еще, чтоб ты знала, Альфонсо прекратил финансовую помощь.
– Что?
– Ты слышала. Ему не нравится мой «политический запашок». Так что деньги Сары Шлосс позволяли нам держаться на плаву. Для меня это чисто профессиональная сделка, Тереза…
– И я должна тебе поверить?
– У меня есть дела поважнее, чем какая-то богатая guiri с ее слабостью к шумным вечеринкам.
– Это какие же, например? Палить из пистолета в церкви? Или задирать подол молодой хозяйке?
– Шпионка! Баламутка! – Он встал и злобно зашипел: – Ты пришла к этим людям, Тере, потому что тебе некуда было деваться. И так было всегда, с раннего детства. С таким-то папашей да с мамочкой-цыганкой… Так что не изображай тут передо мной святую. Думаешь, я не знаю, откуда у Олив это ожерелье? Мне все известно про твою коробочку, зарытую в саду. И что теперь? Что, спрашивается, мы будем делать?
– Ты признаешься, что это не твоя картина, – сказала Тереза, вся красная и основательно потрясенная, – и отдашь должное той, кто ее нарисовал.
– Нет, – раздался голос в дверях. – Ничего этого он делать не будет.
Олив тихо открыла дверь и слушала на пороге их разговор. Выражение ее лица было трудно прочесть. Она вся горела, но вот от чего – гнева, скорби или возбуждения – ни Исаак, ни Тереза ответить бы не смогли. Оба так и застыли в ожидании продолжения. Олив прошла в кухню и закрыла за собой дверь.
– Зачем ты это сделала? – спросила она Терезу.
У той на глаза навернулись слезы.
– Я хотела…
– Она хотела меня наказать, – оборвал ее Исаак. – Прошлой ночью она нас засекла у ворот. Этот маленький трюк – ее месть.
– Это не месть, сеньорита, – взмолилась Тереза. – Ваш отец должен был увидеть, какая вы талантливая, как вы…
– Это не твоя забота, – сказала Олив. – Тере, я тебе доверяла. Я думала, что мы подруги.
– Вы можете мне доверять.
– Каким образом?
– Простите меня, я не хотела…
– Теперь поздно, – вздохнула Олив. – Мы не можем устраивать здесь родительское собрание. Они что-нибудь заподозрят.
– Я им скажу, сеньорита, что я тут ни при чем, – встрял в их разговор Исаак. – Тереза не должна вводить в заблуждение ваших родителей, которые к ней так хорошо отнеслись. Тем более что моя картина готова. Сестра утром принесла ее сюда.
Олив стояла в задумчивости.
– Тереза, где его картина? Принеси ее.
Та молча ушла в кладовку. Они слышали, как она передвигает по кафелю бочки, и вот она вышла с большой картиной, поставила ее к стене и сорвала покров.
Олив молча ее разглядывала. Они с матерью были узнаваемы, только глаза затуманены и губы красные, как по предписанию. Вокруг голов непонятные нимбы, заурядно зеленый задний фон. Ни юмора, ни души, ни мощи, ничего необычного в цветовой гамме и линиях, никакой оригинальности и неуловимой магии. Ни намека на тайну, ни игры, ни истории. Нет, ее нельзя было назвать ужасной. Просто две женщины с рождественской открытки.
Олив покосилась на Исаака. Тот смотрел на свою работу, скрестив руки на груди, оценивая ее с серьезным видом. О чем он думает? Доволен ли сделанным? Считает ли ее хорошей? В таком искусстве нет ничего плохого – в конце концов, разве всякое произведение должно быть интеллектуальным, а? Картина радовала глаз, вот только она была совершенно ученическая. У отца она бы вызвала отвращение.
В эту минуту до Олив дошло, что, при всех неудобствах долгого позирования, в глубине души ей хотелось увидеть талант. Так ей было бы легче. Видимо, недооценивала, насколько она дочь своих родителей. Всегда легче восхищаться талантом, а жалость – это путь к безразличию. Олив закрыла глаза, дабы снизить потенциальный урон от этой живописи, от бесталанности автора. Но посчитала, что Исаак не заслуживает презрения ее отца. Когда она снова их открыла, он вопросительно смотрел на нее. Она ему ответила лучезарной улыбкой.
– Исаак, вы же слышали, что сказал мой отец. Он хочет показать эту картину в Париже. Он хочет ее продать.
– Сеньорита, – подала голос Тереза. – Я знаю, вы сказали, что вас не интересует признание окружающих, но вы же видели реакцию. Я рада, что ради вас рискнула…
Олив развернулась к ней:
– Я тебя не просила.
Тереза заупрямилась:
– Вы считаете, что это правильно?
– Тере, довольно, – вмешался Исаак.
– Но мы должны сказать ему правду, прямо сейчас, – возразила сестра.
– Мой отец считает Исаака автором «Святой Юсты в колодце» или «Женщин в пшеничном поле». Он хочет показать в Париже картину Исаака, а не мою.
– Вам нужно всего лишь сказать ему, что это вы нарисовали.
– Но останется ли она тогда той же самой картиной? – спросила у нее Олив.
Тереза нахмурилась:
– Я не понимаю.
Из гостиной, сквозь закрытую дверь, доносились восклицания и невнятный говорок.
– Я не думаю, что у моего отца был бы такой же энтузиазм, знай он, что это моя картина, – пояснила Олив.
– Неправда, – возразил ей Исаак.
– Откуда такая уверенность? – спросила она. – Я хочу, чтобы отец повез ее в Париж. Это будет любопытно. Отчего бы не посмотреть?
– Это нехорошо, – взмолилась Тереза. – Когда вы скажете отцу… да, он удивится, но потом он увидит другие ваши работы…
– Все. – Олив подняла руку, требуя, чтобы она замолчала, но Терезу это не остановило.
– Вы не знаете своего отца. Он наверняка…
– Я отлично знаю своего отца, спасибо за заботу. – Голос Олив звучал жестко. – Как и свою мать. Они поверили, что картину написал Исаак, а что еще имеет значение? Главное, вера. Истина не важна; во что люди верят, то и становится истиной. Это мог написать Исаак, почему нет?
– Он никогда бы такое не написал. – Тереза даже топнула ногой.
Олив досадливо хмыкнула.
– Ты во всем виновата, так что уж лучше помолчи.
– Но я же не хотела, чтобы вы оставались…
– Какое-то безумие, – заговорил Исаак. – Una locura. Вот моя картина.
– Да поймите же вы, это даже забавно.
– Это вам не игра. Моя картина вот…
– Исаак, ну пожалуйста. Ведь не обязательно он ее продаст. Тогда она останется в семье. Все забудется. И вы подарите ему свою.
– А если продаст? Что, если он продаст картину Исаака Роблеса, которую Исаак Роблес не написал?
– Если продаст… Мне деньги ни к чему, а вам они позарез нужны. Я слышала, как с вами поступил ваш отец. Если картина продастся, вы сможете поступить с вырученной суммой как вам заблагорассудится. Школьные учебники, экскурсии, еда и оборудование для школьников, для рабочих. – Олив помолчала. – Сами же, Иса, меня спрашивали: «Зачем вам эта жизнь?» Ну вот, я хочу приносить пользу людям.
– Искусство бесполезно.
– Тут я не соглашусь. Оно способно изменить мир. Помочь вашему общему делу.
– Я не могу на это пойти.
– Исаак. Признайте картину в соседней комнате своей. Она для меня ничего не значит.
– Олив, я вам не верю.
– Позвольте мне сделать что-то полезное. Почувствовать себя нужной. Я за всю свою жизнь не принесла никакой пользы.
– Но…
– Исаак, я не собираюсь говорить, что в гостиной моя картина. Во всяком случае, моему отцу… а в данном случае все решает он.
– Но ведь он ее расхваливал. Тереза права. Я не понимаю…
Олив собралась, она побледнела.
– Послушайте. Отец редко говорит такие слова, уж поверьте мне. Не стоит искушать судьбу. Признайте Исаака Роблеса, стоящего на подрамнике в гостиной, своим. Один раз.
С минуту Исаак молчал. Вид у него был жалкий, уголки рта опустились. Рядом Тереза нервно одергивала свой кардиган.
– Но это не его картина, – прошептала она.
– Если я ему отдала, то его, – отрезала Олив.
– Вы останетесь невидимой, сеньорита. Махнете на себя рукой…
– Наоборот. По мне, так я стану очень даже видимой. Если картина уйдет, то я буду висеть в Париже. В каком-то смысле я веду себя как эгоистка. Для меня ситуация идеальная: полная свобода творчества – и никакой мельтешни.
Исаак переводил взгляд со своей картины на дверь; за ней где-то там его поджидали на мольберте «Женщины в пшеничном поле», до сих пор вызывавшие радостные восклицания Гарольда. Вдруг выстрелила пробка от шампанского, принесенного Терезой, и послышался смех Сары. Взгляд Исаака метался между двумя сценариями будущего.
– Не делай этого, – прошептала брату Тереза. – Сеньорита, пойдите и скажите им, что это ваша картина.
– Исаак, это наш шанс сделать нечто исключительное.
Он толкнул дверь и тяжело зашагал по коридору. Олив повернулась к Терезе, глаза у нее светились.
– Отнеси это ко мне наверх и спрячь под кроватью. Не поджимай губы. Все будет хорошо. – Она еще раз вгляделась в свое лицо на картине, так неумело переданное автором. – Неужели он меня такой видит?
– Это же просто картина, – последовал ответ.
– Я знаю, что на самом деле ты так не думаешь, – сказала Олив с улыбкой.
Если эта улыбка была знаком прощения за совершенный проступок, то легче на душе у Терезы не стало. Она глядела вслед молодой хозяйке, полетевшей за Исааком. Дверь в гостиную открылась, и Тереза услышала смех и звон сдвигаемых бокалов.
Исаак шагал к своему коттеджу как в тумане. Жуткая усталость, да еще перебрал. Гарольд переговорил по телефону с какой-то женщиной, которая заинтересовалась картиной, и завтра утром он улетает в Париж. Шлоссы уговаривали Исаака остаться на праздничный ужин, но это было бы уже слишком. Он чувствовал себя получеловеком и почти желал, чтобы картина не продалась и вендетта Олив против родителей, следствие ее затянувшегося подросткового комплекса, поскорее забылась. Чтобы спустя годы этот эпизод вызывал у нее смех. Она хочет приносить пользу людям! Это себе она хочет принести пользу, и он, Исаак, сегодня предоставил ей такую возможность.
Он похлопал себя по карманам, проверяя, на месте ли сигареты, закурил, глубоко затянулся и вместе с тяжелым вздохом выпустил дым. Что он делает? В небе кружились коршуны. Вот и коттедж. Он толкнул дверь, и в голове снова пронеслось: вечеринка, поцелуй у ворот. Кажется, с тех пор полгода прошло. Настойчивость, с какой Олив увязалась за ним в церковь, показала ее спонтанность и бунтарство, что его восхищало. Вот только он до конца не понимал ее силы духа.