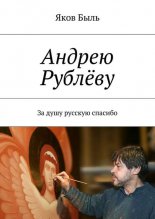Муза Кормашов Александр

Рид встал со своего места, потирая руки.
– Возможно. Возможно. Я на это очень рассчитываю. – Он улыбнулся. – Это было бы нечто из ряда вон выходящее. Вполне вероятно, что Роблес прекрасно знал о работах других художников на эту тему. Я сообщил тем коллекциям, где хранятся эти произведения, что меня интересует своеобразная испанская патологичность, окружающая легенду о Юсте и Руфине.
– Испанские художники всегда отличались особой провокационностью, – заметила Квик.
– Да, – согласился Рид, одной рукой опершись на каминную полку и глядя на Квик с большей теплотой. – Творческий бунт против статуса-кво. Возьмите того же Гойю: у него лев целует ногу святой. А представьте, что сделал бы Дали?
– Но почему картина Роблеса из коллекции Пегги Гуггенхайм называется «Женщины в пшеничном поле», и в названии совершенно не упомянута святая Юста, тогда как моя картина называется «Руфина и лев»? – допытывался Лори.
– Должно быть, название «Женщины в пшеничном поле» принадлежит Гарольду Шлоссу, а не Исааку Роблесу, – предположил Рид. – Вполне возможно, что сам Роблес назвал ее, к примеру, «Святая Юста». Этого мы никогда не узнаем. Допускаю, что он вообще ее никак не назвал.
При упоминании о Гарольде Шлоссе я бросила взгляд на Квик. Она склонила голову и массировала висок. Я подумала, что ей, возможно, снова требовалось принять болеутоляющее. Похоже, она старалась как можно лучше разведать планы Рида насчет выставки, хотя вся эта история явно причиняла ей боль.
– Коммерческая жилка в Шлоссе, – продолжал Рид, расхаживая вокруг нас, – возможно, подсказала ему, что нужно сделать картину более привлекательной для специалистов по закупкам в Гуггенхайме. Прежде Пегги мало что у него покупала, и он старался не спугнуть столь важную клиентку. Это сродни истории с Пикассо: тот хотел назвать свою работу «Авиньонский бордель», но галеристы изменили название на «Авиньонских девиц», чтобы повысить привлекательность картины. К тому же, Шлосс мог и не знать, что художник уже работает над парной картиной к Юсте и ее колодцу. Полагаю, где-то по пути было утрачено то, что Исаак Роблес хотел выразить своими полотнами.
– И что же он хотел выразить? – спросил Лори.
Я снова посмотрела на Квик: теперь она подняла глаза на Рида, но при этом лицо ее ничего не выражало.
– Мне кажется, эта легенда разожгла интерес Роблеса, – сказал Рид. – Обнаружив связь между Роблесом в фонде Гуггенхайма и суррейским Роблесом, мы сможем по-новому увидеть процесс художника, иначе взглянуть на его пристрастия – если хотите, изобрести его творчество заново. Хотя выставка называется «Проглоченное столетие», мы все еще пытаемся, так сказать, переварить его.
– Изобрести заново?
– Следующие друг за другом поколения постоянно этим занимаются, мистер Скотт. Это не должно вас так тревожить. Мы не можем допустить мысли, что не придумали чего-то нового. К тому же вкусы меняются – мы должны их опережать. Мы возрождаем художника к жизни, организуя его ретроспективу. Мой подход позволит нам рассказать о том, что Роблес видел себя в рамках славной национальной художественной традиции – включающей в себя Веласкеса и других, – а при этом был чем-то вроде международной звезды своего времени, чья карьера оборвалась на самом взлете.
– Я смотрю, вы уже все спланировали.
– Это моя работа, мистер Скотт. Хотя у меня нет для вас точной информации о том, что конкретно хотел рассказать художник своими работами, я бы отметил, что в особенности ваша картина имеет ярко выраженный политический оттенок. Руфина, эта святая, представляющая рабочий класс, вступает в схватку со львом фашизма. Вы только взгляните, – сказал Рид, протягивая Лори еще один документ. – Это мне прислал Бароцци из фонда Гуггенхайма. Послание Гарольда Шлосса, адресованное Пегги Гуггенхайм, когда он снова был в Париже, а она вернулась в Нью-Йорк.
– Мистер Скотт, – внезапно произнесла Квик, и оба мужчины подскочили на месте. – Будьте любезны, прочитайте письмо вслух. Ни у мисс Бастьен, ни у меня нет копии этого послания.
Лори выполнил ее просьбу.
Дорогая Пегги!
Прошу простить меня, что не поставил вас в известность о том, что нахожусь в Париже, когда и вы были здесь. С тех пор, как я уехал из Испании и вернулся в этот город, все давалось мне с огромным трудом. Я пытался захватить с собой Руфину, но это мне не удалось. Знаю, что вы с нетерпением ждали эту картину, поэтому примите мое глубочайшее сожаление.
У меня есть несколько ранних работ Клее, которые, возможно, могли бы вас заинтересовать – сам я в Вену не поеду, но могу организовать отправку картин в Лондон, – или, если вы планируете пробыть в Нью-Йорке какое-то время, занимаясь решением различных вопросов, я мог бы послать вам работы прямо туда.
Как всегда, мои наилучшие пожелания,
Гарольд Шлосс
– Но он вообще не упоминает Роблеса, – заметил Лори, взглянув на Рида.
– Мне кажется, мы можем с этим работать. Я хотел бы увеличить это письмо и поместить его на стену в галерее. Почему бы не поразмышлять о судьбе Роблеса?
– Что вы хотите этим сказать?
– Мне кажется, художник не пережил войну – иначе мы бы непременно о нем услышали. В те дни юг Испании нещадно бомбили. Допустим, остальные картины Роблеса сгорели во время бомбежек. Это дает нам возможность сделать вывод о том, что принесение в жертву произведений Роблеса отражает исчезновение самого художника.
Рид снова начал расхаживать вокруг, заложив руки за спину и совершенно забыв о нас. Главным для него сейчас было изложить свою концепцию.
– Мы могли бы расширить эту метафору до пожарища на всем Пиренейском полуострове, которое предвещало мировую войну. Этот человек не только индивидуальность, но и символ. В нем воплотилось видение будущего Испании, обреченное на гибель.
Лори скрестил ноги и заговорил достаточно резко:
– Но вы ведь не знаете точно, сгорели его работы или нет. Нельзя же строить выставку на слухах. Меня просто на смех поднимут.
– Они не поднимут вас на смех. Публике нравятся слухи, мистер Скотт. Слух дает куда больше возможностей для маневра, чем факт. А факт заключается в том, что у нас весьма ограниченное количество картин. Еще один факт: у Гарольда Шлосса не было «Руфины и льва», когда он вернулся в Париж. А куда же подевалась эта работа? Вот тут в дело вступаете вы.
– Я? – переспросил Лори. Что-то в его тоне заставило меня обернуться. Я взглянула на Квик: судя по всему, она думала то же, что и Рид, поскольку очень пристально смотрела на Лори.
Рид подошел к Лори и сел напротив него. Его тон смягчился.
– Полагаю, Гарольд Шлосс осознал, что оставаться в Испании больше нельзя, но когда он бежал оттуда, то лишился картины – то ли по неосторожности, то ли потому что ее украли. Для арт-дилера довольно необычно признаваться в утрате произведения с такой откровенностью, с какой это сделано в письме. Обычно они говорят гладко и обтекаемо. Похоже, Гарольд Шлосс вернулся в Париж с сильно ощипанными перьями.
– И вы считаете, что картина осталась в Испании? – допытывался Лори.
– Ну, по-видимому, у Шлосса ее не было. Какой ему резон лгать самому лучшему своему коллекционеру? Но я не знаю, мистер Скотт. Следующим человеком, связанным с картиной, оказалась ваша мать. И судя по всему, вы не имеете представления о том, как произведение попало к ней.
Лори поднял глаза на картину, потом снова опустил их, глядя на пустую каминную решетку.
– Полотно всегда было у нее на стене, – промолвил он тихо. – По крайней мере, сколько я себя помню.
– Как скажете, – со вздохом сказал Рид. – Что ж, значит, поставим пока что вопросительный знак. Вряд ли у нас есть выбор. То, что картина пережила гражданскую войну в Испании, мировую войну, а потом оказалась в доме в Суррее, возможно, предполагает некие романтические варианты развития сюжета.
– А как вы думаете, что в конце концов произошло с Исааком Роблесом? – спросил Лори.
– Мистер Рид, каковы временные рамки? – спросила Квик из другого конца комнаты; ее голос звучал твердо и четко. – Когда вы планируете открыть выставку?
Рид повернулся к ней.
– Делегация из фонда Гуггенхайма должна прибыть через две недели и привезти картины. А еще через две недели, думаю, сможем открыться.
Квик заглянула в свой ежедневник.
– Через четыре недели? Это просто смешно. Времени совсем мало.
– Я знаю, Марджори. Но я этого хочу.
Я посмотрела, как Квик отметила в своем ежедневнике 28 ноября. Рука ее дрогнула, и через всю страницу пролег большой черный крест.
В тот вечер мы с Лори сели на пригородный поезд до Суррея. Он сообщил мне, что уже продал «Эм-Джи».
– Я не так уж часто пользовался машиной, – сказал он, хотя в голосе звучало сожаление.
Я поняла, что, видимо, необходимость продать картину матери была острее, чем я думала изначально.
Когда мы отъехали от вокзала Ватерлоо, я положила себе на колени ксерокопии, полученные у Рида: четыре изображения Руфины и Юсты, выполненные испанскими художниками предыдущих эпох. Прирученный лев у Гойи был хорош, но больше всего мне понравилась картина Веласкеса: девушка с темными волосами и таинственным взглядом, держащая две небольших чаши и тарелку в одной приподнятой руке и большое перо в другой. Веласкес, как и Роблес, нарисовал Руфину в одиночестве. Затем я стала изучать копию письма Гарольда Шлосса. Письмо было написано от руки, причем в начале письма почерк выглядел аккуратно, а в дальнейшем разобрать его становилось все труднее. Закругленные арки и стремительные изгибы то и дело перемежались с зачеркиваниями и кляксами. Словом, едва ли его написал счастливый человек.
– Мы приехали, – сказал Лори.
Мы не были нормальными пассажирами, сходившими на станции Бэлдокс-Ридж. Образцом нормального пассажира здесь считался мужчина под пятьдесят: солидный живот, перстень-печатка, «Дейли телеграф» под мышкой, чемодан с тиснением. Женщины средних лет были в твидовых костюмах классических расцветок, с отсутствующим выражением лица и мыслями, зарытыми глубоко на дне сумок; все они возвращались, проведя день в Лондоне.
– После того как ты вышла из кабинета, Рид сказал, что мог бы попытаться продать картину от моего имени, – сообщил Лори, открывая дверь и помогая мне выйти из вагона. – Нужно будет заплатить ему комиссию.
– А сколько, на его взгляд, можно выручить?
– Трудно сказать. «Произведения искусства порой ведут себя иначе, чем другие вещи, которые вы хотите продать, мистер Скотт», – произнес Лори, пародируя выспренность, источаемую Ридом, когда тот оказывался на своей территории. – Он говорит, что это совсем иной случай, чем, например, появление на рынке поздней работы Ван Гога.
– Как это понимать?
– Ну, Ван Гог, ясное дело, нужен всем. А уникальность «Руфины и льва» совершенно другого рода. Рид сказал, что не хочет слишком скромничать с этой картиной, но и перебарщивать тоже не стоит. По его мнению, продажа всегда чревата рисками.
– Но он с таким энтузиазмом отнесся к этой истории.
– Возможно, как историк. Допускаю, что картина понравилась ему лично. Но, наверное, как организатор аукциона он хочет, чтобы мои ожидания были реалистичными. Далеко не все придут в восторг от Исаака Роблеса.
– Ты всегда можешь подарить картину какой-то государственной организации.
– Оделль, у меня совсем нет денег, – со смехом признался Лори.
У нас с Квик не было возможности поговорить в течение всего дня. Она уехала домой вскоре после того, как закончилась встреча с Лори и Ридом. Она сослалась на головную боль, но я конечно же знала, что проблема куда серьезнее. Я разрывалась: мне хотелось быть с Лори, наслаждаться поспешностью и безрассудством, сопровождающими примирение влюбленных, заново осознавать, как много он для меня значит, испытывать ту невероятную остроту чувств, когда почти потерял, но снова обрел любимого. Но в то же время я оказалась единственным человеком, знавшим, что дела Квик очень плохи, что ее боль только усиливается, а при этом я все равно не знала, как ей помочь.
– У тебя все в порядке? – спросил Лори.
– Я просто думаю о Квик, – ответила я. – Она… неважно себя чувствует.
– Да, выглядела она неважно.
Лори наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку, когда мы покидали станцию. Сзади кто-то возмущенно втянул воздух. Я обернулась и увидела одну из женщин в твиде – та сделала вид, что ничего не случилось.
– Ладно, – тихо сказал Лори. – Давай-ка заберу тебя из восемнадцатого века.
Правда, мы были вовсе не в восемнадцатом веке, не так ли, Лори? Это был конец октября 1967 года, городок Бэлдокс-Ридж в Суррее, и тот факт, что мы с тобой поцеловались, окружающие почему-то не могли оставить без комментария. А если говорить точнее, то считалось непозволительным, что поцеловали меня.
Добравшись до дома, мы увидели освещенные окна.
– О господи, – воскликнул Лори. Вид у него был по-настоящему испуганный.
– А что такое? – спросила я.
– Я думал, Джерри уехал. Нам нужно идти.
– Но я не хочу уходить, – возразила я.
– Оделль, Джерри не… сомневаюсь, что он… в общем, я просто хочу тебя предупредить.
– Дай угадаю. Дело в том, что я туземка?
– Боже мой, нам грозит катастрофа. Он на редкость старомоден.
– Тогда мне не составит труда найти с ним общий язык.
– Ты не должна. Тебе не следует…
– Лори. Я не хочу, чтобы ты меня защищал. Позволь мне самой судить о Джерри – так же, как он, несомненно, будет судить обо мне.
Как мне описать Джерри? Джерри-ублюдок, весельчак Джерри. Едва глаза Джерри остановились на мне, он тут же просиял:
– А я уж думал, что Лоуренс голубой!
Тон, которым он это сказал, заставил меня заподозрить, что и сам Джерри не был чужд этой темы. Я больше никогда не встречала такого человека, как он: эта особая порода англичан из высшего общества – такие манерные персонажи, словно сошедшие со страниц Вудхауза, чье безумие почему-то никого не удивляло. Джерри мог не задумываясь говорить самые неподобающие вещи. Он был красив, но тучен и, по-видимому, давно махнул на себя рукой. Чувствовалось, что он тяжело переживает свое горе; еще полгода, и он превратится в гору плоти, лежащую на полу.
– Как я понимаю, вы работаете в художественной галерее, мисс Басчин? – спросил Джерри, наливая себе очередную порцию виски.
Лори покосился на Джерри, когда тот неправильно произнес мою фамилию, и я поняла, что сейчас он начнет поправлять отчима.
– Да, верно, – поспешно ответила я. – Секретарем-машинисткой.
– Значит, вы поселились в Англии?
– Да, сэр. Живу здесь уже почти шесть лет.
– Отец Оделль служил в ВВС, – сказал Лори.
В его голосе слышалось отчаяние, и это подействовало на меня раздражающе. Конечно, я понимала, что Лори пытается сделать: поместить меня в контекст, который был бы понятен его отчиму. Но я вовсе не считала, что меня нужно представлять, ссылаясь на военные заслуги моего отца. Каким-то непонятным образом я почувствовала, что Джерри принимает меня и без этого. Некая причудливая алхимия – вызванная, возможно, тем, что я находилась у него дома, – заставила Джерри исключить меня из подсознательной иерархии цвета кожи, к которой он то и дело неумышленно прибегал. Может, ему хотелось думать, что моя кожа на самом деле белее? А может, ему нравилось волнение, напоминавшее ему о старом добром колониальном прошлом? А может, ему просто понравилась я. Как бы то ни было, я почувствовала, что мне в этом доме рады.
Мы нервно поужинали: в сущности, нервничал Лори, а мы с Джерри неуклюже возились со своей едой. Во всяком случае, он больше не упоминал калипсо или бонго – и не восхищался моим чудесным английским.
– Однажды мы ездили на Карибы, – вспомнил Джерри, пока Лори убирал тарелки. Он выпил свой виски и теперь уставился на пустой бокал для коктейля.
– Вам там понравилось? – спросила я.
Видимо, Джерри меня не услышал.
– По окончании Оксфорда я работал в Индии.
Я посмотрела на Лори – он рвал и метал, склоняясь над скатертью.
– Провел там несколько лет. Мне кажется, именно тогда в моей крови пробудилась страсть к путешествиям – может, меня там кто-то укусил? Красивое место – Индия. Но там тяжело. Очень жарко.
– А на каких островах Карибского моря вы побывали? – спросила я.
– Кажется, с тех пор прошла уже целая жизнь. Наверное, так и есть.
– Оделль задала тебе вопрос, – сказал Лори.
– Ничего страшного, – заверила я.
– На Ямайке, – ответил Джерри, пристально взглянув на пасынка. – Я не в маразме, Лоуренс. Я услышал ее вопрос.
– А вот я не была на Ямайке.
Джерри засмеялся.
– Как это необычно. Я-то думал, вы все так и скачете с острова на остров.
– Нет, сэр, я посещала Тобаго, Гренаду и Барбадос. С другими островами я не знакома. Я знаю Лондон лучше, чем Ямайку.
Джерри потянулся к виски.
– Эта поездка была не моей затеей, – сказал он. – Сара утверждала, что все ездят на Ямайку. Она обожала жару, ей она была нужна. И мы поехали. Хорошо, что съездили. Песок был такой мягкий.
Лори завладел бутылкой виски.
– Пойдем послушаем ту пластинку, что мы купили, – предложил он.
– А кто это – Сара? – спросила я.
Джерри посмотрел на меня воспаленными глазами.
– Лоуренс даже не назвал вам ее имя?
– Чье имя?
– Его матери, – ответил Джерри, вздохнув, когда Лори отвернулся. – Моей красавицы жены.
Лори буквально взлетел вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки.
– Да что с тобой такое? – спросила я. – Он просто по ней скучает. Хочет о ней поговорить.
Лори остановился на лестничной площадке и резко обернулся ко мне.
– Только не воображай, что он какой-то святой.
– Я и не воображаю, Лори.
Видимо, Лори боролся с какой-то конкретной мыслью. Вид у него был наполовину задумчивый, наполовину свирепый.
– Когда мой отец умер, – продолжала я, стараясь его успокоить, – маме казалось, что она слышит его голос по радио. Он мерещился ей в каждом мужчине на улице. Тебе нужно запастись терпением.
– Это была моя мама.
– Конечно.
– Я нашел ее. В той комнате внизу.
– Ох, Лори…
Я повернулась туда, куда он указывал, и заглянула в темноту; я тут же ощутила какое-то сверхъестественное отвращение, меня охватило желание бежать в противоположном направлении. Но я не двинулась с места – не хотела, чтобы он видел, что я боюсь.
– Джерри держится на соплях – и на виски, – промолвила я. – Тебе надо относиться к нему по-доброму.
– А как насчет меня?
– Я буду относиться по-доброму к тебе, – ответила я, взяв Лори за руку.
Мы лежали рядом на стеганом пуховом одеяле Лори, прислушиваясь к тому, как Джерри копошится внизу. Наконец дверь закрылась, и в доме воцарилась тишина.
– Тебе не стоит здесь жить, – сказала я.
– Знаю. – Лори повернулся ко мне и оперся на локоть. – Но это все, что у меня есть. Этот дом, Джерри и картина.
– И я. У тебя есть я.
Лори ласково провел рукой по моей щеке. Окно все еще было открыто, и я услышала черного дрозда, поющего на дереве так легко и музыкально, словно уже наступил рассвет.
– Ну что, Писательница, какое у тебя любимое слово? – спросил он.
Я поняла, что он хочет сменить тему, и не стала спорить.
– Предлагаешь мне выбрать? Хорошо. Жилье.
Лори засмеялся.
– Ты заранее подготовилась – я знал, что ты так сделаешь. Это так скучно, Оделль.
– Нет, это уютно, – не согласилась я. – «Мое жилье было чистым и уютным». А теперь ты.
– Облако.
– А вот это уже клише, – парировала я, придвинувшись к нему и ущипнув его.
Мы продолжали беседовать – и в эту минуту словно забыли о матерях, и отчимах, и картинах, изгнав их к самым дальним рубежам нашей памяти. Мы говорили о том, каким прекрасным бывает английский язык в правильных руках – каким разнообразным, нелогичным, с какими тонкими нюансами. Мы обсуждали такие слова, как hamper и hamper[66], слова вроде turn[67], сперва кажущиеся скучными, но на самом деле способные завлечь в свои глубины. Мы вспоминали наши любимые примеры ономатопеи[68]: frizz и sludge, а также glide и bumblebee [69]. Никогда еще я не чувствовала себя такой счастливой наедине с другим человеком.
Поющий на дереве черный дрозд надоумил нас поиграть в своеобразный «птичий теннис»: наши сплетенные руки стали сеткой, а назвав новую птицу, мы обменивались поцелуями. Зуек и чибис, крючкоклюв и жаворонок. Колибри и сокол, манакин, ястреб. Руки Лори на моей коже, кулик, иволга, потом мои – на его коже. Якамара, королек. А потом птицы улетели, их названия превратились в поцелуи, и тишина наколдовала нам новый мир.
На следующее утро я проснулась очень рано. Лори крепко спал, выражение его лица было умиротворенным. Я подумала о том удивительном мгновении, когда он проник в меня, и о том, что первого раза больше никогда не будет. Я надела нижнее белье, а рубашку и шерстяной джемпер позаимствовала у Лори, выскользнула из постели и на цыпочках пробежала по коридору в ванную. Что было бы, если бы Джерри узнал, что я осталась ночевать? Как ужасно было бы встретиться с ним прямо сейчас.
Я пошла в туалет и потрогала у себя между ног – немного засохшей крови, но еще более явным симптомом оказалась боль в животе, которую я ощущала: несильная, тупая боль внизу живота, чувство того, что меня раскрыли и поранили. Я еще никогда не была обнаженной рядом с мужчиной, никто еще не прикасался ко мне подобным образом; мне показалось странным, что за таким удовольствием последовала боль.
Мы преодолели преграду, и я шепнула Лори – очень тихо, – что люблю его, а Лори прижался ухом к моему рту и сказал: «Тебе придется повторить это, Оделль, потому что я как раз приступил к делу, к тому же я что-то плохо слышу в последнее время». И тогда я повторила сказанное, уже чуть громче, и он поцеловал меня в ответ.
Я взглянула на свои часы: пять тридцать. Снизу доносился храп Джерри. Ну и местечко, подумала я: так сказать, справляю малую нужду в изношенном викторианском туалете где-то в глуши Суррея, прямо над головой человека по имени Джерри. Я и думать не могла, что со мной такое произойдет, но была рада, что меня никто об этом не предупредил. Знала бы я, что для меня уготованы такие вещи, я бы, наверное, пришла в смущение от их странности, и тогда, вероятно, они бы со мной не приключились.
Закончив, я помыла руки, лицо, намылила внутреннюю часть бедер. Я почувствовала внезапное желание рассказать о случившемся Памеле, вручить ей эту сплетню в качестве сюрприза, чтобы ее подарок на мой день рождения наконец окупился.
Выйдя из ванной, я уже собиралась вернуться в комнату Лори, но тут меня что-то задержало. Повернув голову вправо, я уставилась на длинный коридор. Другого раза не будет, я это знала; когда Лори проснется, об экспедиции в эту часть дома не будет и речи. А мое любопытство было слишком велико.
Дверь оказалась слегка приоткрыта. Это была ее спальня – спальня Сары, я это сразу поняла. На туалетном столике все еще лежали тюбики помады, серебряная компактная пудреница в форме раковины; романы в мягкой обложке и журналы. На подоконнике стояли безделушки из фарфора и стекла, вазы с высохшими цветами. Шторы были раздернуты, но солнце еще не взошло. На фоне лавандового неба выделялись согбенные силуэты нагих деревьев.
Я посмотрела на кровать. Это произошло здесь? Хорошо, что следов этого страшного события уже не осталось. Мне стало очень жаль обоих мужчин, явно потерявшихся без нее – или, по крайней мере, сбитых с толку. Действительно, Лори уклонялся от разговоров о матери, а сам Джерри, не очень-то похожий на бессердечного ублюдка, явно хотел о ней побеседовать. Именно Лори этого избегал. Только теперь, оказавшись в этом доме вместе с Лори и его отчимом, я поняла, как сильно повлияла на Лори Сара – ее второй брак, то, как она умерла.
В углу спальни находился большой платяной шкаф. Я открыла его, и облако камфары сразу же забилось мне в горло. Моему взору предстали изящные красные брюки; я достала их и приложила к себе. Если они принадлежали Саре – а судя по всему, так и было, – то она была очень миниатюрной. Они едва доходили до середины моих голеней. Брюки были сшиты из алой шерсти, которую во многих местах поела моль – что самое обидное, в области паха. Но я и так поняла, что брюки чрезвычайно стильные. Они заставили меня вспомнить о Квик. Думаю, они бы ей понравились, пусть даже с дыркой в паху.
– Знаете, они вам не подойдут, – раздался голос. – Но я все равно не смог себя заставить их выбросить.
Я подскочила на месте. В дверях стоял Джерри; голова с редеющими волосами песочного цвета, большое тело, закутанное в синий халат, волосатые голые ноги и босые ступни. Смущенная, я пробормотала что-то невнятное и поспешила повесить брюки на место. Мне стало очень стыдно, ведь я подозревала Джерри в том, что он, не раздумывая, избавился от всех следов своей жены. Эта спальня была чем-то вроде его маленького святилища. Наверное, он приходил сюда каждое утро, а я так нагло вторглась. Меня объял ужас. Я заночевала здесь, на мне были только мужская рубашка и джемпер. Я занималась сексом в доме Джерри. Хорошо еще, что Лори был намного выше меня, поэтому его одежда прикрывала мою наготу, но род моих занятий под этой крышей настолько не оставлял сомнений, что можно было с таким же успехом написать слово «СЕКС» у меня на лбу.
Но Джерри, похоже, не интересовался нравственными устоями своего пасынка и его подруги. Возможно, он оказался более современным, чем я полагала. А может, он слишком тяжело переживал свое горе или страдал похмельем, чтобы обратить на это внимание. Он махнул рукой, вваливаясь в комнату.
– Не беспокойтесь, – сказал он, тяжело опустившись на край кровати. Я все еще держала в руках брюки. – Можете тут осмотреться. Она и для меня во многом оставалась загадкой.
Хмурым выражением лица и круглым животом Джерри напомнил мне угрюмого Шалтая-Болтая из «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. И я чувствовала себя Алисой, ведь мне тоже подкидывали загадки и бросали вызовы со всех сторон.
– Извините, – пролепетала я. – Мне не следует здесь находиться.
– Да ничего страшного. А Лори и вправду не говорит о ней, верно?
– Если и говорит, то очень мало. Мистер Скотт, могу я вас спросить…
– Я не Скотт, – перебил меня Джерри. – Скотт – девичья фамилия Сары.
– Ох…
– Лоуренс предпочел оставить себе ее фамилию, не стал брать мою, – объяснил Джерри, качая головой. – Что ж, на тот момент ему исполнилось шестнадцать, а как сказать шестнадцатилетнему, что делать, а что нет? Никогда я его толком не понимал.
– А фамилию отца он не взял?
Джерри смерил меня проницательным взглядом.
– С фамилией Шлосс ему было бы не очень комфортно на английской детской площадке в сороковые годы.
Я встала как вкопанная; красные брюки Сары вяло повисли у меня в руке.
– Шлосс? – повторила я. – Фамилия отца Лори – Шлосс?
Джерри поднял на меня глаза, заинтересовавшись энергичностью моего голоса.
– Ну, строго говоря, – да. Мать дала ему фамилию Скотт с самого его рождения, но его отцом был Шлосс. Представляете, первым мужем Сары был австриец, и это прямо перед мировой войной.
– Австриец?
Джерри явно оживился.
– Сдается мне, вы чересчур разволновались из-за всего этого. У вас все в порядке?
– О да, я в порядке, – ответила я, стараясь напустить на себя непринужденный вид, хотя стояла в слишком длинном для меня шерстяном джемпере Лори, сжимая в руке брюки его умершей матери. И действительно – какое мне было дело до отца Лори…
– Когда Сара вернулась в Англию и у нее родился Лори, она сочла благоразумным дать ему свою девичью фамилию. В те дни людям с немецкими фамилиями не доверяли.
– А как звали ее первого мужа?
– Гарольд. Несчастный ублюдок. Боже, когда я думаю о том, что с ним случилось… Сара всегда об этом умалчивала, но, глядя на Лоуренса, я думаю, что ей стоило об этом говорить. У этого парня прямо патология какая-то, когда речь заходит о его родителях.
Я попыталась вспомнить, как Лори вел себя в тех ситуациях, когда Рид упоминал имя Гарольда Шлосса. Я не помню, чтобы на его лице отражались какие-то эмоции или чтобы он узнал, о ком идет речь. Но он спросил Рида, знал ли тот, что случилось со Шлоссом, – это я помнила точно.
– А что произошло с его отцом? – спросила я.
Джерри обнажил зубы в мрачной улыбке; я увидела его длинные резцы.
– Вижу, он вам мало что говорит, да? Впрочем, это деликатная тема.
– Само собой.
– А может, у вас просто не остается времени на разговоры. Я и сам когда-то был таким.
Я покраснела и попыталась скрыть смущение за слабой улыбкой; часть меня желала сбежать, а другая часть жаждала узнать от этого человека то, чего Лори мне бы не рассказал.
– Есть причина, по которой он об этом не говорит, – промолвил Джерри. – Зачем ему переживать из-за того, чего он даже не помнит. Лори никогда не видел этого человека. – Он провел рукой по волосам и пронзил меня взглядом. – С Гарольдом Шлоссом произошел Гитлер. Так же, как и со всеми нами.
Я хотела ответить, но Джерри встал; на фоне темных деревянных половиц были особенно заметны желтые ногти на пальцах его ног.
– Слишком раннее утро, чтобы обо всем этом говорить, – заметил он. – Я собираюсь пройтись, чтобы в голове просветлело. А вам советую вернуться в постель.
Я вернулась в комнату Лори. Он дернулся и с улыбкой открыл глаза, а потом поднял руки, чтобы пустить меня на теплые скомканные простыни. Но я встала у края кровати.
– Что такое? – спросил он, и улыбка сошла с его лица. – Что не так?
– Ты Лори Шлосс, – выпалила я. – Твой отец продал «Руфину и льва». Вот откуда у тебя эта картина.
Признаю, что, наверное, можно было подойти к этой ситуации более обдуманно: не говорить «твой отец то, твой отец се» об умершем человеке, которого Лори никогда не видел. Да и время было неподходящее – шесть пятнадцать утра. Но, наверное, я не сдержалась, потому что всегда считала Лори абсолютно честным человеком; я ведь даже защищала его перед Квик, когда у нее возникли сомнения на его счет. И теперь я поняла, что Лори постоянно избегал вопросов не только о своей матери, но и о том, откуда у нее могло взяться такое произведение искусства.
Лори опустил руки и пристально на меня посмотрел.
– Я Лори Скотт, – промолвил он, закрыв глаза. – Ты говорила с Джерри.
– Ты лгал.
Он снова открыл глаза и приподнялся на локте.
– Я, черт возьми, не лгал. Я просто никогда не говорил тебе всей правды.
– Но почему? Какая разница, кем был твой отец?
Он ничего не ответил.