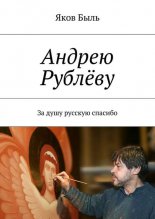Муза Кормашов Александр

– Сдается мне, я ей нравлюсь, – сообщила я Синт. – По-моему, она мне доверяет. Я только не знаю конкретно, что она мне доверяет.
– Ага, значит, какая-то белая женщина надоумила тебя напечататься? А как же я?
Я запротестовала, уверяя, что ничего не знала о планах Квик, но Синт подняла руки.
– Да я шучу, шучу, – воскликнула она. – Я просто очень рада. По мне, так давно пора.
– А как Сэм? – спросила я, пытаясь перевести разговор на другую тему. Во-первых, мне хотелось уйти от обсуждения моей жизни, а во-вторых, меня внезапно охватила тревога: как Синт воспримет мою интерпретацию нашей с ней совместной жизни, изложенную в рассказе о беспалой женщине?
– У него все хорошо, очень хорошо. – Синт вдруг застеснялась. – Я должна тебе кое-что сказать, Делл. Я должна сказать тебе первой… У меня будет ребенок.
Она явно нервничала, говоря мне об этом, что, конечно, было неправильно. Но, опять-таки, если вспомнить, как «хорошо» я восприняла ее замужество и то, что она оставила меня в квартире одну… Но уж на этот раз я не стану все портить. Я действительно очень обрадовалась за Синт. А как можно было не радоваться, если на ее лице отражались и удовольствие, и страх, и любопытство: ведь прямо сейчас у нее внутри находилось такое чудесное крошечное существо; а когда ребенок наконец выглянет на свет, его будет ждать такая прекрасная мама!
– Ой, Синтия, Синтия, – пробормотала я, и, к моему удивлению, глаза мои наполнились слезами. – Сижу я здесь, рассуждая о загадочных женщинах, а получается, что ты самая загадочная из них и есть.
– Делли, ты говоришь как поэт, даже когда у тебя перехватило дыхание.
– Иди сюда. Я тобой горжусь.
Мы обнялись: я крепко ее обхватила, и она меня обхватила, вздохнув с облегчением и слегка всхлипывая, ведь моя счастливая реакция еще больше обрадовала подругу.
Синт ждала ребенка в начале апреля. Она была испугана, но испытывала большой душевный подъем, а в то же время беспокоилась, что им с мужем может не хватить на ребенка денег.
– Вы справитесь, – убеждала я Синт, думая о том, как сильно переменится ее жизнь, тогда как моя останется неизменной. – У Сэма хорошая работа. И у тебя тоже.
– А как там Лори? – спросила Синт, промокнув глаза салфеткой. – Давай-ка не увиливай. Вы с ним поссорились?
Я была не в силах скрыть удивление.
– А ты откуда знаешь?
– Ну, я ведь знаю тебя, Делли. А еще я знаю, что, будь у вас все в гармонии, ты бы сегодня проводила время с ним, а не болталась одна. Вон даже согласилась встретиться со старой нудной подругой. Дай-ка угадаю: он признался тебе в любви, а ты пустилась наутек?
– Это не так.
Синт засмеялась.
– Он несчастен, Делли. Несчастен. Ведь он и вправду по тебе сохнет.
– Что? А это ты откуда знаешь?
– Я узнала это от Патрика, а тот от Барбары, а та – от самого парня, который болтается повсюду с таким видом, словно ему руку оторвало. Такой потерянный… И он хороший, Делл. Не будь дурой. Он говорит, что любит тебя, а ты его с обрыва сталкиваешь.
Хотя это было сильным преувеличением, Синт прыснула от смеха.
– А что, если я его не люблю? Почему я должна его любить?
– Ты ничего не должна, Делли. Тебе не нужно спешить. Но ты бы хоть поговорила с парнем. Хоть бы облегчила жизнь его друзьям.
– Лори из тех мужчин, что хотят втиснуть носорога в кроличью нору. Это не работает.
– А ты и есть носорог, Делли, так что, по крайней мере, это развлечение.
Мы расхохотались – я от облегчения, что могу теперь об этом говорить, а Синт по той причине, что ей было весело надо мной подтрунивать, чувствовать себя моложе, дергать за старые связующие нити и чувствовать, что они по-прежнему целы. Я все еще не знала, чего хочу, но загрустила при мысли, что Лори, оказывается, ходит с таким видом, словно у него отняли руку.
Еще пару часов спустя мы с подругой обнялись рядом со станцией метро, и Синт поехала на север по линии Бейкерлоо – в Квинс-парк, где ее ждала новая жизнь. Мы пообещали увидеться до Рождества, и я вспомнила, со смесью горечи и удовольствия, как в былые времена мы обязательно договаривались встречаться раз в неделю.
Я наблюдала, как Синт осторожно спускается по ступенькам, и думала о том, что, наверное, не стоило ее так будоражить. Тут она остановилась и повернулась ко мне.
– Только одно тебе скажу, Делл. Если ты снова будешь говорить с Лори, лучше держи историю про Олив Шлосс при себе.
– Почему? Если это правда…
– Возможно. Но ты ведь не знаешь наверняка, правда ли это?
– Пока что нет, но…
– А Лори хочет продать картину, если я правильно поняла Барбару. Его отчим продает дом, так что картина – все, что у него есть. А если начнешь расхаживать, говоря, что его картина не Исаака Роблеса, то его корабль может оказаться на мели. Не создавай проблем там, где не нужно, Делли. Хоть раз прислушайся к своему сердцу, а не к умной голове.
Я проводила ее взглядом, понимая, что в ее словах есть рациональное зерно, но и поведение Квик нельзя было оставить без внимания.
Тем же вечером я позвонила Лори, но ответил мне Джерри-ублюдок. Я была в шоке, когда он снял трубку.
– И кто это звонит в воскресенье? – спросил он.
Я мгновенно «включила» тон и произношение диктора Би-би-си. С этим ничего нельзя было поделать: услышав англичанина вроде Джерри, я сразу же пыталась подстроиться под его манеру говорить.
– Это Оделль Бастьен, – представилась я. – Пожалуйста, пригласите к телефону Лори.
– Лоуренс! – крикнул Джерри. Должно быть, он положил трубку у себя в комнате, поскольку я услышала, как он удаляется.
– Кто это? – спросил Лори.
– Не расслышал имени. Но, по-моему, до меня донеслись звуки калипсо.
Последовала небольшая пауза, а потом Лори поднес трубку к губам.
– Оделль? Это ты?
Смесь облегчения и настороженности в его голосе звучала почти болезненно.
– Это я, – сказала я. – Как ты, Лори?
– Нормально, спасибо. А ты?
– И я нормально, – солгала я. – Мой рассказ напечатали.
– Ты звонишь мне, чтобы поделиться этой новостью?
– Нет… я… просто… говорю о том, что произошло. А это я с Джерри говорила?
– Да, с ним… мне очень жаль… Поздравляю с рассказом.
Повисла пауза. Ирония заключалась в том, что я не знала, как подобрать необходимые слова, как объяснить ему, что я по нему скучаю, что с Квик творятся странные вещи, что у моей лучшей подруги скоро будет ребенок, а я чувствую себя как запутавшийся подросток.
– Завтра мне нужно снова быть в галерее, – понизив голос, сказал Лори. – Ты поэтому позвонила?
– Нет, я этого не знала.
– У Рида появилась новая информация от одного человека, который работает в палаццо Пегги Гуггенхайм в Венеции. По всей видимости, там есть пара интересных вещей.
– Понятно.
– Так почему ты позвонила? Я думал, ты больше со мной не общаешься.
– Нет… это не так… я хочу общаться. Хочу. Я говорила с Синтией. Она сообщила мне, что ты так несчастен…
Возникла пауза.
– Да, я был несчастен.
– Значит, это уже в прошлом?
Лори снова замолчал.
– В тот раз мне не следовало так спешить, – промолвил он.
– Нет, все нормально… то есть…
– Я больше никогда не скажу тебе то, что сказал тогда.
– Понимаю.
– Если, конечно, ты сама этого не захочешь.
– По правде сказать, я не знаю, что я хочу от тебя услышать, а чего не хочу, – призналась я. – Но знаю одно: я искренне огорчилась, услышав, что ты несчастен. И я поняла, что и сама была несчастна. И тут я подумала: а может, нам стало бы немного легче, если бы мы были несчастны вместе?
На другом конце провода снова воцарилась тишина.
– Ты… приглашаешь меня на свидание, Оделль?
Я ничего не ответила – вернее, не смогла ответить.
– Что ж, все когда-нибудь случается в первый раз, – продолжал Лори. – Спасибо. Дай только проверю свой ежедневник… впрочем, в этом нет надобности. Я свободен.
Приятное тепло расплылось у меня внутри, и я не смогла скрыть улыбку.
– Мне это подходит, – сказала я.
– Правда? Так где бы ты хотела встретиться?
Мы встретились на следующий день рано утром – так рано, как только смогли, – посередине Скелтон-сквер, прежде чем я приступила к работе, а Лори пошел на встречу с Ридом. Лори сжимал в руке бутылку шампанского.
– За твою первую публикацию, – воскликнул он, протягивая мне бутылку. – Между прочим, это винтажное вино. Извини за пыль. Стырил из дома.
– Ого, спасибо.
– Кстати… я знал о «Лондонском книжном обозрении».
– Что?
– Видишь ли, и в суррейской глуши следят за современной периодикой. Я прочитал рассказ. – Лори уставился на свои ботинки. – Он великолепен.
– Замолчи. – Я взяла бутылку, чувствуя, что у меня голова вот-вот взорвется от удовольствия. Пробежала глазами надпись на этикетке: «Вдова Клико».
– Лори, а мы можем начать все заново? – спросила я.
– Даже не знаю, возможно ли это, – ответил он со вздохом.
Я присела на скамейку, пытаясь отогнать от себя отчаяние. Я была так уверена, что Лори согласится. Он ведь здесь, рядом, правда же?
– Боюсь, что нет, – промолвила я, подняв на него глаза.
– Ты вполне могла бы стукнуть меня по голове этой бутылкой шампанского, – предложил он.
– Что?
– Чтобы выбить из моей головы воспоминания. Но тогда бы я забыл первый раз, когда услышал, как ты читаешь свои стихи. Или первый раз, когда я с тобой заговорил; те желтые резиновые перчатки. Или то, как ты морщила нос, притворяясь, что тебе нравится фильм про Бонда. Или тот случай, когда ты заткнула меня за пояс, танцуя во «Фламинго», и менеджер предложил тебе у них работать, или когда ты рассказала мне о том идиоте в обувном магазине. Или тот вечер, когда мы ели пастуший пирог и я все испортил. Все это часть того, что с нами произошло, Оделль. Наше прошлое никогда не будет идеальным. Честно говоря, я бы и не хотел, чтобы оно таким стало. Я бы снова пережил ту ужасную поездку по А3 – только ради того, чтобы опять вкусить сладость твоего голоса после столь долгой разлуки. Я бы ничего, ничего не хотел во всем этом менять. Я не хочу начинать заново, потому что тогда бы я утратил воспоминания, связанные с тобой.
Где-то с минуту я не могла произнести ни слова. Лори сел рядом со мной, и я почувствовала плотность и тепло его тела.
– Я… пугаюсь, – наконец проговорила я. – Не знаю, как еще это объяснить. Порой у меня возникает ощущение, что я потерялась, что из меня не выйдет ничего путного, что если я кому-то нравлюсь, значит, с этим человеком что-то не так.
– Но почему?
– Эх, Лори, если бы я знала… и потом, когда я тебя встретила, я рассказывала тебе такое, в чем никогда и никому не признавалась прежде. А тут вдруг ты ворвался со своим признанием в любви, и… в общем… мне показалось, что ты как будто заполняешь какую-то форму, подчиняешься заведенному порядку.
– Порядку?
– Ну, знаешь, когда люди делают или говорят что-то, потому что именно этого от них ждут.
– Но я сам решаю, что мне говорить.
– И в то же время я поняла, что мне бы не хотелось, чтобы ты этого не говорил. Я хотела, чтобы ты это сказал – но тогда, когда я действительно буду готова.
Лори засмеялся.
– Да, ты действительно писательница, не правда ли? Хорошо. Давай поступим так: каждый раз, когда я почувствую, что вот-вот скажу тебе, что влюбился в тебя, или люблю тебя, или что ты чудесная, я постараюсь подать тебе знак – предупреждение, что признание сейчас последует, – а ты, распознав этот знак, либо разрешишь, либо запретишь мне все это говорить.
– Тебя послушать, так я сумасшедшая…
– Шучу, конечно. Извини. Пусть все будет так, как ты скажешь. Я просто хочу с тобой видеться, Оделль. Ты к этому нормально относишься?
– Да, – ответила я и, поколебавшись, добавила: – Более чем нормально.
– Хорошо. С этим определились. А теперь пойдем и послушаем, что для нас приготовил достопочтенный мистер Рид.
– Доброе утро, Оделль, – сказала Квик, плавно затормозив возле моей двери.
К тому времени Лори находился у Рида уже около получаса. Вид у Квик был усталый, немного встревоженный. Целая пропасть пролегла между ее нынешним обликом и тем, как она выглядела в ту первую неделю моей работы в Скелтоне, когда подлетела к моей печатной машинке и предложила разделить с ней легкий ланч, чтобы кое-что у меня выяснить – что именно, я до сих пор так и не узнала.
– Доброе утро, Квик.
Она замерла, заметив у меня на столе бутылку шампанского.
– Откуда это у вас? – спросила она.
Я сглотнула, смущенная выражением ее лица.
– Лори принес.
Квик перевела взгляд на меня.
– Значит, вы с ним опять друзья?
– Да. Он здесь. Беседует с Ридом. По-моему, они обсуждают выставку.
– Мне это известно. Я организовала их встречу.
С этими словами Квик вошла в мой кабинет и закрыла дверь. К моему удивлению, она подошла к столу, села напротив меня и положила бутылку к себе на колени.
– Лори принес это вам?
– Чтобы поздравить меня с выходом «Беспалой женщины». А что в этом такого?
Квик провела пальцем по горлышку бутылки, оставив на пыли прозрачную бороздку.
– Бутылка винтажная, – заметила она.
– Я знаю. Квик…
– Оделль, то, что произошло в пятницу вечером…
– Что? – спросила я, выпрямившись.
– …не должно было произойти. Я нарушила профессиональную этику, рассказав вам о своей болезни. Я поставила под удар вас. Поставила под удар саму себя. Мне не нужно привлекать к этому внимание других.
– Однако вам довольно успешно удалось привлечь мое.
Квик смерила меня пристальным взглядом, но я не отпрянула.
– Я хочу, чтобы вы знали: что бы ни случилось, ваша работа в безопасности.
– В безопасности?
Кажется, Квик испытала болевой спазм, и бутылка покачнулась на ее обмякших коленях.
– Мне прописывают довольно сильные болеутоляющие, – проговорила она. – У меня нет другого выбора – я должна принять их сейчас. У меня галлюцинации. Я не могу спать.
– А какие это галлюцинации? – спросила я. – Что вы видите?
Я ждала затаив дыхание; мои руки оставили печатную машинку и легли мне на колени.
Квик не ответила, и мы какое-то время просидели в молчании; только стенные часы перекликались с моим сердцебиением в синкопированном ритме. И тут я пошла ва-банк.
– В пятницу вечером вы сказали, что Исаак Роблес не писал этой картины. Вы это помните, Квик?
Она сидела, глядя на свои руки. Она судорожно сглотнула – видимо, ей сдавило горло.
– Квик, а хоть одну из картин он написал… из тех, что в фонде Гуггенхайма?
Она по-прежнему молчала.
– Если он не автор этих картин, то тогда кто…
– Все, что я хотела, – отрывисто проговорила Квик, явно переживая стресс, – я просто хотела увидеть.
– А что, что именно вы хотели увидеть?
Я в ужасе наблюдала, как Квик выпустила из рук горлышко бутылки, а шампанское проскользнуло у нее между коленей и грохнулось на пол. Дно бутылки разбилось, и вино фонтаном забило между нами, шипя и расплескиваясь повсюду. Как-то боком вскочив со своего места, Квик отшатнулась от всего этого кавардака.
– Мне жаль, – пробормотала она. – Мне очень жаль.
– Это произошло случайно, – сказала я.
Я уставилась на разбитую бутылку Лори, осколки которой лежали на полу в лужах шампанского. Зеленое стекло было таким темным, что казалось почти черным, и поблескивало, когда свет ламп на потолке отражался в зазубренных краях осколков. Увы, я этого вина так и не попробовала… Судорожно сглотнув, я посмотрела на Квик.
В лице ее не осталось и кровинки. Я поняла, что разговор окончен, что мы теперь не продвинемся и на дюйм. Неужели она была готова зайти так далеко, чтобы только испортить подарок Лори? Я сопроводила Квик в ее кабинет – она оперлась на меня, просунув руку мне под локоть. Она так исхудала, что легко прощупывались кости. Теперь, узнав о диагнозе Квик, я видела, как она больна. Но дело было не только в раке, поразившем ее тело: я также стала свидетельницей ее психологической перекалибровки.
Я бы не сказала, что умственные способности Квик ухудшались, несмотря на галлюцинации и бессонницу. Процессы, шедшие у нее в голове, были практически обратными тому, что происходило с ее телом; мозговая деятельность Квик расширялась – ее воображение обитало теперь не только в настоящем. Где-то внутри ее памяти опустился некий подъемный мост, и теперь пехотинцы из ее прошлого прорывались в замок. Квик хотела, но не могла говорить. У нее не получалось подобрать нужные слова.
– Пожалуйста, закройте дверь, – попросила она, немного придя в себя. – Оделль, мне правда жаль, что я разбила бутылку.
– Ничего страшного.
– Я это вам компенсирую в моем завещании.
Черные глаза Квик сверкнули, озаренные юмором приговоренного.
– У вас, небось, целый подвал в Уимблдоне, не иначе? – парировала я, стараясь поддержать ее упавший дух.
– Что-то вроде того. Принесите, пожалуйста, мою сумку. Мне нужно принять таблетки. – Она медленно подошла к столику с напитками. – Джин?
– Нет, спасибо.
Я смотрела, как Квик наливает себе напиток, делая глубокие вдохи и стараясь взять себя в руки, пока прозрачная жидкость булькала в бокале для коктейля.
– Чертовски сильные таблетки, – сказала Квик, когда я их ей вручила. – Блин, я их просто ненавижу.
Грубость и горечь в ее голосе потрясли меня. Я заставила себя сесть, напомнив себе, что я младший сотрудник, а значит, должна быть немой и незаметной. Ничего не выйдет, если я буду подначивать Квик рассказать об интересующих меня вещах. Я уже заподозрила это в тот вечер, когда наткнулась на телефонную книгу, а теперь укрепилась в своих подозрениях благодаря разбитой бутылке винтажного шампанского. Как бы меня это ни удручало, перед Квик мне приходилось выступать в роли чистого листа. Терпение никогда не было моей сильной стороной, но если оно помогало разговорить Квик, то, значит, оно было эффективнее молчания.
– В Венеции живет некто по имени Бароцци, – произнесла Квик, опускаясь в кожаное кресло и потянувшись за сигаретами. – Работает на фонд Гуггенхайма. Примерно в то время, когда была написана картина мистера Скотта, Пегги Гуггенхайм пыталась открыть галерею в Лондоне. – На мгновение Квик умолкла, а потом нашла в себе силы продолжить. – Она в этом преуспела. Галерея располагалась на Корк-стрит, но потом война перевернула все с ног на голову, и галерею пришлось закрыть.
– Понятно.
– Сомневаюсь. Дело в том, что Пегги – или сотрудники ее галереи – отлично справлялись с ведением документации. Бароцци нашел у нее в архивах кое-какую примечательную переписку, послал ее Риду, и теперь тот пребывает в невероятной ажитации.
Корк-стрит. Название показалось мне знакомым – это ведь там проходила выставка, буклет которой я нашла в доме Лори. У меня по коже снова забегали мурашки.
– Теперь у Рида есть доказательство того, что полотно мистера Скотта было заказано для Пегги Гуггенхайм – в качестве парной картины к «Женщинам в пшеничном поле».
– Парной картины?
– Он нашел телеграмму, адресованную Исааку Роблесу, которая по неизвестной причине так и не была отослана. Телеграмма, датированная сентябрем тридцать шестого года, должна была отправиться в Малагу. В ней содержался вопрос, как долго Пегги придется ждать «второй части диптиха»: первую Роблес назвал «Женщины в пшеничном поле», а вторую – «Руфина и лев». Бароцци также сообщил, что Роблесу не был выплачен аванс за полотно с изображением Руфины, иначе мистер Скотт оказался бы в весьма затруднительном положении: он ведь, судя по всему, не может предоставить доказательств этой покупки. И фонд Гуггенхайма преспокойно мог бы заявить, что картина принадлежит им.
Я с изумлением слушала, как Квик рассказывает о другой недавно обнаруженной телеграмме, как будто та, что была спрятана у нее дома, не имела ко всему этому самого непосредственного отношения. Мало того, что Квик вела себя так, словно разбила бутылку непреднамеренно, так еще и делала вид, что нашего вечера с телефонной книгой никогда не было.
– «Руфина и лев», – повторила я. – Значит, так называется полотно Лори?
– По крайней мере, так считает Рид. Имя святой Руфины вам о чем-нибудь говорит?
– Нет.
Квик отхлебнула джина.
– То, что запечатлено на картине мистера Скотта, идеально совпадает с этим сюжетом. Руфина жила в Севилье во втором веке нашей эры, лепила глиняную посуду. Будучи христианкой, она отказалась подчиниться распоряжениям властей, повелевших ей делать языческие изображения. В наказание они бросили Руфину на арену со львом. Но лев ее не тронул, и тогда ее обезглавили. И вот теперь, когда всплыло упоминание о «второй части диптиха», Рид полагает, что обнаружил связь между полотном мистера Скотта и более известными «Женщинами в пшеничном поле». Все это может полностью изменить наш взгляд на творчество Роблеса.
Я взглянула на Квик и, испытав прилив целеустремленности, приготовилась вступить в противоборство воль.
– Но вы же сказали мне, что Исаак Роблес не писал этой картины.
Квик проглотила очередную таблетку обезболивающего.
– И все же у нас есть заверенная телеграмма от коллекционера мирового класса, где утверждается, что картина была задумана как парная к одному их важнейших полотен, написанных в Испании в этом веке, – и, повторю, это важное полотно находится в собрании Пегги Гуггенхайм в Венеции.
– Да, но ведь на фотографии был и другой человек. Молодая женщина.
Я подождала ответа Квик, но она молчала, и тогда я продолжила:
– По-моему, ее звали Олив Шлосс. Из письма, хранящегося у вас дома, можно понять, что она прошла по конкурсу в школу изящных искусств Слейда примерно в то время, когда Исаак Роблес занимался живописью. По-моему, это она написала «Женщин в пшеничном поле».
– Понятно. – Выражение лица Квик было невозмутимым, и от этого мое отчаяние росло.
– Как вы думаете, у нее получилось?
– Что получилось? – Лицо Квик ожесточилось.
– Думаете ли вы, что Олив действительно прошла обучение в школе Слейда?
Квик закрыла глаза. Она ссутулилась, и я ждала, когда она мне откроется: расскажет правду, закипавшую в ней с тех самых пор, когда она увидела картину Лори в коридоре Скелтоновского института. И вот он наступил, момент признания – откуда у Квик взялись телеграмма Пегги Гуггенхайм и письмо от Слейда, – и как получилось, что ее собственный отец приобрел картину Исаака Роблеса, произведение искусства, которое на самом деле создала она сама.
Квик сидела в своем кресле настолько неподвижно, что я испугалась, не умерла ли она. Потом ее глаза внезапно открылись.
– Я собираюсь послушать, что скажет мистер Рид, – промолвила она. – Мне кажется, вам тоже следует пойти со мной.
Постучавшись в дверь к Риду, мы получили приглашение войти. Эдмунд и Лори сидели в креслах друг напротив друга.
– Что вам угодно? – спросил Рид.
– Когда начнется работа над этой выставкой, мы с мисс Бастьен окажемся на передовой, – начала Квик. Я заметила, как крепко она вцепилась в дверной косяк. Ей было очень тяжело. – Полагаю, нам следует побыть здесь с вами и сделать кое-какие заметки, чтобы понять, что именно вы предлагаете.
– Прекрасно, – согласился Рид. – Дамы, вы можете сесть вот там.
Мы посмотрели на указанное нам место: два жестких деревянных стула в углу. То ли Рид подвергал Квик какому-то наказанию, то ли просто не замечал, какой хрупкой она стала. Лори поймал мой взгляд, когда я садилась; вид у него был весьма оживленный, его явно вдохновили новые возможности, связанные с картиной. Полотно «Руфина и лев» стояло на каминной полке, и его мощь впечатлила меня ничуть не меньше, чем в первый раз, когда я его увидела; удивительно, как эта девушка с отрубленной головой в руках сумела изменить мою жизнь. Интересно, если бы Лори не попытался использовать картину, чтобы пригласить меня на свидание, кто-нибудь из нас сидел бы здесь сегодня? Стала бы Квик так открываться передо мной, несмотря на то что старалась все объяснить своей болезнью и приемом болеутоляющего?
Прямо над головой Рида сидел лев, величественный и неумолимый, какими часто бывают нарисованные львы. И все же сегодня он выглядел на удивление прирученным. Я посмотрела на белый дом среди холмов на заднем плане; окинула взглядом его окрашенные в красный цвет окна, оценила, каким крошечным он казался в сравнении с обширным, многоцветным лоскутным одеялом окружавших его полей. В свою очередь Руфина и ее вторая голова тоже глядели на нас – на всех нас. Тридцать лет назад Исаак Роблес и девушка, которую, как я была убеждена, звали Олив Шлосс, стояли перед этим самым полотном, позируя фотографу. Кем были друг для друга Олив и Исаак?
Конечно же я не могла не посмотреть на Квик. Похоже, она взяла себя в руки после сегодняшнего приступа отчаяния. Теперь она сидела прямо, держа на коленях записную книжку и сосредоточившись на картине. Какой бы ни была правда, видимо, Квик решила позволить этой выставке состояться, не саботировать ее, и подобная капитуляция с ее стороны сбила меня с толку.
– Как я уже говорил, мистер Скотт, – продолжал Рид, – три года назад вся венецианская коллекция Пегги Гуггенхайм временно экспонировалась в галерее Тейт. И вот когда «Женщины в пшеничном поле» были выставлены на всеобщее обозрение, принадлежащая вам картина Роблеса хранилась вдалеке от глаз публики. Невероятно, что мы могли бы увидеть ее и тогда, если бы знали о ее существовании. Вокруг той выставки было столько возни – британское правительство и итальянские власти никак не могли договориться. Главным образом все упиралось в вопросы, связанные с налогообложением. Но тогда речь шла примерно о ста восьмидесяти произведениях, а я попросил всего три. И вот у меня есть хорошие новости: фонд Гуггенхайма согласился предоставить нам для временного экспонирования имеющиеся у них работы Исаака Роблеса.
– Действительно, хорошие новости, – согласился Лори.
– Отличные. Это и вправду укрепит позиции нашей выставки. Я рассчитываю, что газетчики напишут о ней и в новостях, и на страницах, посвященных событиям культуры. Гуггенхайм дает нам «Женщин в пшеничном поле», пейзаж под названием «Фруктовый сад» и – что великолепно и о чем я даже не подозревал – «Автопортрет в зеленом». И, что особенно примечательно, объединив «Женщин в пшеничном поле» и «Руфину и льва», мы, возможно, принципиально изменим взгляд на творчество Исаака Роблеса.
– Каким образом?
– Руфина была одной из двух сестер, – пояснил Рид. – Другую звали Юста.
– Юста?
– Согласно легенде, Юсту бросили в колодец умирать от голода. Я считаю, что «Женщины в пшеничном поле» на самом деле представляют собой версию истории святой Юсты и что на картине только одна девушка, а не две. Мы видим Юсту до того, как ее подвергли наказанию, и после – сначала в радости, а потом в мучениях. Черепки от горшков вокруг нее подтверждают такую гипотезу. Согласно легенде, это маска богини Венеры, разбитая пополам.
– Понятно, – промолвил Лори.
– Существуют разные версии того, почему женщина над пшеничным полем находится в кругу. Некоторые историки искусства утверждают, что это один из кругов Дантова ада, другие полагают, что это луна, а некоторые ассоциируют это изображение с округлостью планеты Земля, в особенности если обратить внимание на всех этих лесных зверей вокруг. Но я убежден, что девушка находится на дне колодца, как это описано в легенде. Вот, – сказал Рид, протягивая Лори четыре листа бумаги, на которых были копии картин. – Роблес не единственный испанец, создавший изображения Руфины и Юсты. Веласкес, Сурбаран, Мурильо и Гойя, четверо великих испанских художников – все они обращались к сюжетам о двух сестрах. Я пытаюсь взять на временное экспонирование хотя бы одну из таких картин, чтобы выставка обрела завершенность.
– Как вы думаете, у вас получится? – поинтересовался Лори.