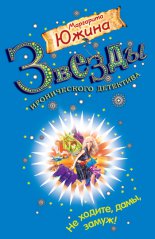Первый день – последний день творенья (сборник) Приставкин Анатолий

Это все по поздним пересказам самих ребят.
– Ну, ну! – обрезал насмешников Башмаков, наверное, осознав, что и эти слишком разыгрались и пора и их свободу обрезать.
Дыша в заледенелое стекло, Башмаков взором полководца определил, что военную кампанию он выиграл: бунт подавил. И армия ему до конца верна и послушна. Не оборачиваясь на голоса, но тонко чувствуя за спиной обстановку, он бросил честно заслуженный кусок хлеба всей этой кодле, произнеся отрывисто:
– Цирк закрыт, теперь все на ужин!
Но что-то он не рассчитал: никто из ребятни не двинулся с места. Все, не отлипая от стекла, продолжали лицезреть заоконное действо. Из римского лозунга черни «Хлеба и зрелищ!» эти явно выбрали второе. Быстро обернувшись, он приказал Жене выйти во двор, поднять «этого», то есть меня, из сугроба и вернуть обратно в спальню. Не для того они поднимали симулянта с койки, чтобы он героически замерз на глазах зрителей. Такой героизм, это Башмаков понимал, здесь никому не нужен, не то его победа может обернуться и поражением.
А что же было нужно?
А вот что: каждый день я нужен им ходячий, чтобы всем своим покорным видом доказывать свое послушание. И поэтому завтра…
– Завтра он пойдет сам, – сказал уверенно Башмаков, покидая спальню. И не ошибся.
Хотя я ничего из этого не мог, понятно, услышать, но на другой день я встал на ноги и без всякой посторонней помощи добрел до середины улицы. А еще через день – до школы. До нее и было-то идти метров триста.
Я догадывался, но я не знал, что они все – вся спальня и сам товарищ Башмаков, но уже из своего дома, – следят за каждым моим шагом, это мне тоже потом рассказали. И когда я дошел до ворот школы в самом конце улицы, Башмаков снова объявился в спальне и произнес от дверей свои знаменитые слова: «Вот и научили». И снова убрался к себе. Он должен был подытожить сделанное, чтобы ни у кого не возникло мысли, краешка мысли, что меня пора и пожалеть. А чего жалеть, если только чуть подучили: и ходить, и слушаться. И не только меня. Всех. Всех.
Но, подбивая бабки, они, никто из них, не знали остального. В тот день, скрывшись во дворе школы, я не пошел в класс, а завернув за угол, который никак не просматривался со второго этажа спальни, и миновав еще окраинные дома, это стоило мне всех моих сил, я вышел к опушке леса, который начинался прямо за деревней.
По глубокому насту, утопая по пояс, я добрел, дополз до первых деревьев, вовсе не думая, что мне придется возвращаться обратно, привалился к какому-то стволику молодой березки и заплакал, завыл… Я грыз мерзлую кору зубами, чтобы не сильно кричать, а когда завыл, я встал на четвереньки и легко исторгнул звериный вой, тонкий и протяжный.
Теперь-то я знаю, что так воет смертельно раненный зверь, он кричит от вселенской тоски по живому перед тем, как покинуть этот не приспособленный ни для чего мир.
В сумерках ко мне темными тенями придвинулись мои собратья-волки, лишь острые искры глаз, они сомкнулись в кольцо и повели за собой в густую чащу, подальше от людей. Это последнее, что я помнил, перед тем, как пришел в себя районной больничке.
20
На этом история не заканчивается.
Минули годы, и я успел забыть про Башмакова и про мое житье-бытье в темном лесу среди серых собратьев, с которыми выходил на дорогу. Но, встретив кого-то, напомнившего мне Башмакова, а я узнаю его сразу, какой бы облик он ни принимал, я вдруг ощущаю, как зажигаются звериные огоньки в моей душе и черная шерсть начинает прорастать на животе. Иду перед сном в туалет и там, запершись, рассматриваю себя в зеркале и нахожу, что лицо чуть удлинилось, а зубы, которые собирался почистить, стали белы и остры, как пила. Сказавшись больным, на ночь ложусь в отдельной комнате и по-звериному выжидаю. В полночь, убедившись, что все домашние мирно спят, я напяливаю свой рыбацкий, прожженный на костре ватник, чтобы слиться с темнотой, прокрадываюсь на улицу и шмыгаю в подворотню.
На меня реагируют лишь глупые и трусливые собаки, но, зацепив лапой одну из них, я прекращаю их визгливый оркестр. Легко преодолев покосившийся заборчик ближайшего полусельского домика, я нахожу курятник и медленно со вкусом изничтожаю всех кур и петуха, отплевывая липкие перья. Крупную живность: коров, телят, даже коз – я не трогаю. Хотя, кто знает, с ними расправляться проще: они не суматошатся и не бьют крыльями по глазам, а лишь от страха стучат копытом и мычат, пока не сомкнешь зубы на мягком и теплом горле.
Иной раз может выскочить и хозяин с ружьем, но я повторяю один и тот же прием: я не спешу скрыться, хоть для меня нырнуть в ночь и пропасть не проблема. Я встаю на задние лапы, возникнув перед его лицом, и заглядываю ему в глаза: Башмаков или не Башмаков? Он или все-таки не он? Но чаще это не он, а кто-нибудь из моих вполне подросших дружков по спальне. Трусливы. И все на одно лицо. Если скопом, убьют. Но сейчас тут я хозяин. И когда он, роняя ружье бежит, спотыкаясь и проклиная нечистую силу, я удовлетворенно убираюсь, перекусив хребет его собаке, такой же ничтожной и рабской сучке, как и он сам.
Возвращаюсь тем же путем. Скидываю отсыревший в ночи ватник, полощу рот, сплевывая кровавую слюну и застрявшую собачью шерсть, чтобы изгнать запах мокрой псины. И вдруг ощутив знобкую дрожь, ослабевший, озябший, почти больной, я лезу под одеяло к жене, потому что оставаться в одиночестве уже не могу. Прижимаюсь к ее горячей спине, слышу, как она бормочет, мол, откуда ты такой холодной, сколько раз говорила: в туалет надевай халат, а то простудишься. Я обещаю надевать в туалет халат и, прикорнув около жены и вслушиваясь в ее ровное дыхание, успокаиваюсь и засыпаю, чтобы назавтра проснуться мирным, любящим свою семью и своих детей семьянином. О Башмакове они не знают и никогда не узнают. Это мое.
Весна сорок пятого
Окна светятся весь вечер,
Как подснежники весной,
Скоро мы дождемся встречи
С нашей армией родной…
Песня конца войны
21
Уж не помню кто, но кто-то из воспитательниц сказала, что в Пасху надо встать пораньше, чтобы увидеть, как играет солнышко.
– А как оно играет?
– Ну, как… Вот как появится, так и играет… Стрелы красные пускает, огнями стреляет, переливается…
– Почему?
– Та к ведь Пасха… Какой день!
И ушла, взволновав воображение.
Разговор происходил в кизлярском спецдетдоме, в спальне для старших мальчиков, и было нам по тринадцать лет.
Мы долго не могли заснуть, все воображали, как увидим солнышко, которое будет играть, у нас окошки выходили как раз на восток, на пыльную привокзальную улочку, где темнели сваленные вдоль рельсов ржавые остовы вагонов, битое бутылочное стекло, где пахло тухловато соленой рыбой, ее везли из Дербента, но все запахи перебивались сейчас острым клейким запахом первой листвы.
Мы многое уже знали об этой жизни. Знали, как выжить в тыловую зиму, где, что и как стибрить, украсть, унести… Знали, как клянчить подаяние и разжалобить любого, даже зачерствевшего за войну мильтона. Как подсматривать чужую жизнь, особенно любовь, это уже начинало нас волновать. Мы знали все похабные и лагерные песни, которые орали на ночь. Мы вообще все об этой жизни знали. Но мы, оказывается, не знали, как играет на Пасху солнце. Да и зачем ему в войну играть.
А наутро кто-то первый, подскочив на койке, как резаный заорал, что пора, пора, а то не увидим, как играет солнце, потому что проспали. И все сразу же подскочили и кто в чем был бросились к окошкам, прилипли к стеклам, уткнувшись глазами в серый небосвод. А он чуть просветлел, и казалось, вот-вот покажется красное светило, блеснет в глаза слепящими стрелами и вправду заиграет. Но ничего не произошло. Полезли серые облака, забив, как ватой, горизонт, и наступило сумрачное утро, какое, наверное, в Пасху не должно быть.
Но зато потом, когда развиднелось и выскочили мы на улицу, Пасха оказалась и вправду цветным и необычным праздником. Прохожие, встречаясь, говорили слова: «Христос воскресе», а некоторые им отвечали: «Воистину воскресе», а некоторые растерянно произносили: «И вас с праздником», а другие смущенно и чуть настороженно: «Здравствуйте, здравствуйте»…
Но люди при этом доставали цветные яички и несли ярко раскрашенные бумажные цветы на кладбище. Хлеб и яйца крошили на могилках и пили из стаканов вино. А я вдруг увидел, как в могилку зарывали яйцо, дождался, пока уйдут, с оглядкой вырыл и быстро съел.
22
А вообще, эта весна была во всем необычна. Отец теперь чаще писал письма и сообщал, что скоро вернется. Но, в отличие от обычных треугольников, его послания приходили на заграничных цветных открытках с видом каких-то нереальных, будто нарисованных городков, расположенных среди белоснежных гор. Такие же письма-открытки отец посылал воспитательнице Ольге Артемовне. Что он ей писал, я не знаю, но она не забывала об этом сказать, и не только мне, но и другим воспитательницам, и глаза у нее возбужденно блестели.
А нас, старшеклассников, стала вдруг волновать любовь. Хотя мы никогда в этом не признались бы друг другу. Про любовь показывали в кино, но это нас не прельщало. Другое дело – конюх Паша, доставлявший в детдом провиант, показывал исподволь, как оно на самом деле бывает. Он сажал к себе на колени Таиску, медсестричку из железнодорожной больницы, и, ухмыляясь многозначительно, производил сперва руками, а потом всем телом какие-то особенные манипуляции, а она заливалась смехом и, повизгивая, кричала: «Эх, давай, давай, давай и поглубжее за-ла-за-й!»
Был еще военрук Саня, в прошлом фронтовик, который вел в нашей школе уроки военного дела, но почти нами не занимался, а чаще оставлял кого-то за старшего и выходил в коридор якобы покурить, на самом деле караулил историчку, которую при случае старался обхватить руками или прижать к стенке. У нас говорят: лапать.
Он был голубоглаз и смешлив, казалось, что он все время навеселе. Но, судя по всему, он быстро получил отлуп. Фигуристая чернобровая историчка с красивыми сочными губами там же, в коридоре, когда он сунулся ее лапать, надавала ему по мордам, а может, пошкорябала физию, и он несколько дней скрывался в доме и не появлялся в школе. А объявившись, наставил нам с ходу по военному делу двоек, а потом пошел к директору и написал заявление об уходе. Написал, что в таких нервных условиях он работать не может. Но не ушел, а через неделю продолжил занятия, а нам при случае рассказал, глупо улыбаясь, что она не историчка, а истеричка, и что она старая дева и за войну, как кошка в лесу, одичала. Она, вишь, мечтает, чтобы заехал по пути из поверженной Германии какой генерал в люксовом вагоне и увез бы ее в Москву. Но это только в сказках. А у него самого хоть и саманная хибара, которую снимает, зато цельные руки-ноги, голова… И кое-что еще… тоже цельное. Чего бабе еще надо?
Мы не знали и не могли ответить на каверзный вопрос про то, что бабе надо, хотя задавался он нам, будто мы все знали. Но мы были для него единственные слушатели, с которыми можно почесать языком во время урока. Да и было в нем что-то еще подростковое, мальчишье. Видать, прямо со школы попал на фронт, а многое школьное в нем так и осталось.
Но мы, промолчав, ему на этот раз не поверили. Мы любили у исторички пить в доме чай и знали, что она не любит пустых встреч и всяких гуляк называет «бженогими». Это так в биологии подвид насекомых прозывается. Та к и про военрука сказала, не без усмешки: «Бженогий. Привык на ура брать, а до семьи не дорос… Ему еще перебеситься надо».
А на уроке военного дела, после того как мы с песнями, строем с деревяшками, изображающими винтовки, отшагивали на школьном дворе, и девочки тоже, военрук показывал, как шомполом надо чистить оружие, и при этом, вводя в маслянисто-черный ствол учебной винтовки колючий ершик, подмигивал и ухмылялся, так что все понимали, что он имеет в виду что-то другое. Прихихикивая, он водил шомполом в канале ствола туда и обратно, и тогда ребята тоже начинали смеяться. А девочки краснели и отворачивались.
В эту весну особенно стало заметно, что все женщины стали другими. Не только лицом или походкой. Они стали по-другому одеваться, будто наряжались на праздник. Они появлялись на улице в пестрых платьях, платках, прибереженных, наверное, еще с довойны, и как-то по-особенному, мы не могли этого не заметить, поглядывали на заезжих мужчин. А если о них не говорили, то все равно о них думали. И Ольга Артемовна не раз, не два, как-то неумело, наивно, полагая, что я не столь догадливый, допытывалась про какие-то подробности об отце, про его бывшую работу, про наш довоенный дом. О том, что у меня нет мамы, она догадывалась, а может быть, знала.
И мама Витьки Иоффе, моего одноклассника, тоже почему-то стала расспрашивать меня об отце. А наша худрук Стелла, артистка местного театра, мы специально ходили смотреть, как она играет, а она играла лишь в одной пьесе «Сады цветут», где, сидя с молодым человеком и глядя в окошко, произносит такие слова: «Ах, какая на улице весна!» И все. Зато ходить на их спектакль можно было бесплатно много раз, и мы каждый раз ждали, когда она, присев на подоконник, скажет молодому человеку знакомые слова: «Ах, какая на улице весна!» Та к вот, наша худрук Стелла однажды накрасилась, хотя у нее и так румянец во всю щеку, и ушла вечером на танцы, а мы через щелку смотрели. Вечером она вернулась в сопровождении местного красавчика и жгучего брюнета Эдика Айрапетяна, который пользовался у дам бешеным успехом. Они долго шептались в каморке под лестницей, где проживала Стелла, а мы пытались подглядывать, что они там будут делать, но ничего для себя интересного не увидали.
– Ах, какая на улице весна! – сказала привычно Стелла.
А Эдик удивленно на нее посмотрел и спросил:
– Чего? Чего?
– Весна же, – повторила мечтательная Стелла, почти так же как в своем театре.
– А-а, ну, конечно, – пробормотал жгучий Эдик и, чего-то сообразив, заторопился домой. А может, наоборот, ничего не сообразил. Потому что в пьесе «Сады цветут» после этих слов Стелле на сцене долго говорят о любви. Но жгучий Эдик этих слов не знал, он был совсем не из пьесы, а из жизни. Наша историчка тоже бы назвала его «бженогим». А вскоре, как рассказывали, был он посажен за изнасилование малолетней. Впрочем, могли по злобе и наговорить. Все-таки танцевал он стильно, и наши девочки, подглядывая из-за забора, были от его танцев без ума.
Но самое интересное произошло с Лобановым. Случилось это в один из дней апреля, когда мы организованно, под руководством Натальи Власовны, пошли в лес на прогулку, ломать черемуху. Вечером Лобанов в спальне по секрету рассказал, как он увидел лично, как занимались этим самым делом воспитательница Наталья Власовна и брат другой воспитательницы, Клавдии Илларионовны, Сергей, который тоже недавно пришел с фронта с покалеченной ногой и увязался с нами погулять.
А было так: Лобанов забрел далеко в заросли и в поисках сорочьих гнезд, где можно полакомиться яичками, залез на дерево, довольно высоко. И вдруг сверху увидал, как на поляну, прямо под деревом, вышла наша Наталья Власовна с Сергеем. И он повалил ее на траву, потом снял с себя брюки, и у него торчал вот такой огромный член. И так с торчащим членом он пошел враскорячку к Наталье Власовне, а она в испуге закричала, вскочила на ноги и побежала в кусты. А что там было в кустах, Лобанов уже не разглядел.
– А что же он, так со стоячим х… и пошел?
– Да. А она испугалась.
– А до этого… значит, она ничего?
– Нет. Только хихикала по-дурному: Сережа, Сережа…
– А он штаны, значит, снял?
– Галифе. И сапоги даже. Идет к ней, руки расставил, и эта штука у него красная, как морковка, и во как торчит!
– И она смотрит?
– Не-е… Она вверх, почти как на меня, смотрела. А как повернулась, как увидела, завизжала на весь лес – и опрометью в кусты!
– А в кустах чего ж?
– Не знаю. Кажись, они меня заметили… Я тоже почему-то вскрикнул. Они сразу смылись, а я стал спускаться.
Свою историю Лобанов рассказывал в разных подробностях много раз, и она дошла, хоть не сразу, и до воспитателей, и даже до завуча Ольги Христофоровны. Наталья Власовна на несколько дней вообще перестала появляться в стенах детдома, а Лобанова позвали к директору и пригрозили наказанием. Наказание же у нас известно какое – изгнание из стен спецдетдома на улицу.
Я бы, наверное, испугался, и другие тоже, а Лобанов не испугался. Он с кривой ухмылкой расписывал свой разговор с директором, к которому не только личного допуска, а возможности лишний раз издалека увидеть ни у кого из нас не было. Был он крупен, но коротконог, с лицом стареющего бульдога и говорил, как гавкал, короткими лающими фразами. Не с нами, а с воспитателями, понятно. Мы для него не существовали. Проживал директор в своем большом доме на окраине, а рядом огромный виноградник и персиковый сад, сторожить который наряжали старших воспитанников. Вот они и рассказывали, сколько собак у директора, и как их кормят, и как ест сам директор, сидя часами на веранде за огромным забором.
Лобанова тоже в дом не пустили и разговаривали в саду, а рядом, как на допросе, стояли одноглазый садовник и какой-то родственник, который проживал у директора в прислугах. Но Лобанов, по его словам, талдычил тоже, что и нам. Он твердил, что он ничего не придумал и он не виноват, что на его глазах взрослые могут заниматься такими делами, как…
Директор попросил рассказать подробно, как они этим занимались, и при этом довольно похрюкивал. Наверное, подробности ему понравились. А потом он сказал: «Топай. И кончай с этим. Если ты такой зоркий, будешь у меня сад сторожить!» Мы верили и не верили Лобанову. И тому, что видел, и тому, что дерзил директору, которого и не видя все равно боялись мы все. В воображении, по рассказам, он казался даже страшней.
И все-таки до конца мы Лобанову не верили. Наталья Власовна, такая тихая, скромная украинка, с родимым пятном во всю щеку, вовсе не была похожа на женщину, с которой что-то подобное может произойти. А вскоре она объявилась в детдоме, все такая же улыбчивая, приветливая, ни в чем не изменившаяся ни к нам, ни лично к самому Лобанову. Хотя обо всем, что он трепал, ей было известно. И тогда мы окончательно поняли, что она не злится на Лобанова, потому что он просто еще незрелый подросток, болтун и сочинитель. Так с ее слов передали девочки. И разговоры сами собой сошли на нет. А Лобанов остался в детдоме, и Наталья Власовна продолжала работать и так же тихо, мило всем улыбаться.
Но вот что я сейчас подумал. Я ведь видел наших воспитателей и ту же милую тихоню Наталью Власовну глазами подростка четырнадцати лет. Вообще-то, их было три женщины: сама Наталья Власовна, Клавдия Илларионовна и Ольга Артемовна. Завуч Ольга Христофоровна, тяжелая, грузная женщина, не в счет. Да и Стелла была как бы приходящая, со стороны. И лишь сейчас подумалось, что были-то они, наши мученицы-воспитательницы, ну совсем, совсем молоденькими, лет двадцати – двадцати пяти, не больше. Лучший девичий возраст их за время войны миновал. А ведь они еще пребывали в девушках и уж точно ждали и жаждали любви. Для нас же они оставались душевными подружками, не более, и однажды в приступе особой приязни я хлопнул Наталью Власовну по попе. Она, поймав мою руку, отвела в сторону, произнеся тихо: «Так не делают», и, одернув платье (примета: любить не будут), на всякой случай оглянулась, не видел ли кто.
Она была самой молодой из трех и, пожалуй, самой скромной, даже стеснительной тихоней. И конечно, сейчас я понимаю, что именно с ней могло произойти то, что углядел в лесу Лобанов. А почему бы нет? Молодость, близость конца войны и, наконец, весна – все кружило голову и требовало ответных чувств. И наверное, инвалид Сергей, с подачи его сестры Клавдии Илларионовны, не мог не пожелать молоденькой и хорошенькой женщины. А уж как там на самом деле было, совсем неважно, любовь есть любовь, во всех видах прекрасна, если за ней не подглядывают с дерева вездесущие обормоты типа Лобанова.
И Клавдия Илларионовна, тоже «душевная подружка», однажды застала нас за «химическим» опытом, когда Батя, обычно сонный и медлительный, погрузив задницу в тазик, пускал газы, а Витька Шевцов поджигал спичкой выделяемый Батей сероводород. А мы всей спальней, сгрудившись вокруг химиков, наблюдали и удивлялись, что сероводород, который умело и долго и в большом количестве выделяет Батя, и вправду горит. Нет, мы не просто наблюдали, а при этом еще орали сопутствующую песенку: «Сидит химик на печи, долбит х… кирпичи, химия, химия, вся залупа си-н-я-я!»
Песенка тянулась долго и была столь же замысловата, как упомянутая в ней наука химия. При всей нашей ненависти ко всем предметам, про немецкий язык уж не говорю, именно химия вызывала к себе особо негативное отношение. Во время химических опытов мы воровали мензурки, а каждый раствор пытались попробовать на язык, даже соляную кислоту и лакмусовые бумажки, а слово «валентность» вызывало судороги в желудке.
И Клавдия Илларионовна, прослушав куплет или два, с любопытством лицезрела от дверей на наши действа. И тут почему-то смутились мы. И как бы в оправдание стали хором объяснять, пока Батя натягивал на мокрую задницу штаны, что опыт по химии мы проводили в порядке эксперимента, заданного на уроке, для большей, как говорят, ясности… Раньше-то вот считалось, что пердеж, которым из всех ребят отличался особо Батя, пердеж и есть, и больше ничего, а это, оказывается, большая наука! Хи-ми-я!
– Да уж слышала, – сказала на это Клавдия Илларионовна. И хоть сама не улыбалась, но в тоне, да и в глазах сквозила насмешка.
– Хотите, снова изобразим? – спросили мы дружно. – Батя выделит химического вещества сколько надо!
– Нет, нет, – ответила Клавдия Илларионовна. – Вот скоро поедете на подсобное хозяйство, там, в Тереке, будете проводить свои опыты.
Мы закричали «ура!», потому что на подсобное хозяйство любили ездить все. Там воля, там меньше надзора и, главное, после жаркой работы в поле обильное купание. А то еще занятие – переплыть на другую сторону, держа спички во рту, и поджечь камыш, который сухим ковром стелется до горизонта… А потом бежать до воды и любоваться огнем с другого, уже безопасного берега.
А еще, конечно, песни.
Особенно хорошо получается, когда воспитательницы соберутся втроем. Первый раз я услышал их пение по дороге на подсобное хозяйство… Ну, представьте, степь до горизонта, пыльный шлях и горячее солнце жарит и жарит на вылинявшем небосклоне. Ехать на быках (цоб-цобе) долго, и дети, и взрослые, придавленные жарой, молчат. И вдруг, сперва неуверенно, а потом громко и разливисто, заведут: «Ой, ты, Галю, Галю молодую, пидманулы Галю, забрали с собо-ю-ю…»
Тут в ходу все больше украинские песни. Слов я не помню, но уж больно задушевно наши воспитательницы их поют… То протяжно, а то игриво… Не ходите, не ходите, не любите, не любите, лучше нам не знаться, чем мы будем рас-ста-ва-ть-ся… Эти последние слова выводятся с особым выражением лица и переглядкой между женщинами между собой. И мы сразу догадываемся: они поют про себя, потому что они хотят любви, но боятся этой любви, а боятся потому, что с ними могут пошутить, а потом взять и бросить, как это и произошло потом у Ольги Артемовны с моим отцом.
Впрочем, все равно любви они хотят. Очень хотят.
23
Однажды в приступе откровенности я поведал Клавдии Илларионовне замысел фантастического рассказа про человека, который стал таким крохотным, что поплыл по собственным венам и очень удивлялся, увидев сам себя изнутри. И далее в том же духе. Глупость. Сам не знаю, зачем доверился. А воспитательница не стала насмешничать, а сказала, что сочинять книжки нужно такие, какие лежат у нас в библиотеке: «Иван Никулин – русский матрос», или «Наука ненависти», или вот героические стихи «Штыком и пером»…
Очень даже впечатляет, можно прямо со сцены читать. Но потом она добавила, что книжки про войну сама она не любит и лучше уж что-нибудь другое, пусть даже фантастика. Только не всегда книжки до нас доходят, а лучше, если бы я стал печататься в журнале, таком как «Огонек». Его даже в парикмахерской можно найти…
Кажется, я согласился и обещал в будущем печататься в «Огоньке». И ведь правда через много лет напечатался. А разговор этот я запомнил именно потому, что воспитательница разговаривала со мной по-взрослому. Впрочем, причина-то была: я впервые написал стихи. И, как ни странно, хоть по натуре лирик, да и возраст – почти четырнадцать – располагал к романтике, свое стихотворение я написал в жанре сатиры. Стихи я до сих пор помню. Начинались они так:
- Есть в Кизляре спецдетдом,
- В нем порядок заведен:
- Кормят ровно в шесть часов
- И проспаться не дают,
- А за завтраком ребята
- Ложкой в рот не попадут…
Ну и далее, в том же разоблачительном духе.
Успех был невероятный. Ребята на ходу – и в строю, и на уроках – бормотали мои стихи и даже пытались их петь. Девочки просили дать автограф, но я еще не знал, как его дают. А более взрослые ребята вскоре их развезли по ближайшим училищам, навязывались в соавторы. И даже Володька Рушкевич, кареглазый, породистый красавчик, не принимавший дотоле меня всерьез, неожиданно предложил свою дружбу, но просил всем говорить, что стихи мы сочиняли якобы с ним вместе.
– Да мне не жалко, – сказал я Володьке. – Забирай их совсем, я другие, еще лучше, могу сочинить.
Но Володька от такого щедрого подарка отказался. Да и все уже знали, что сочинил-то стихи все-таки я.
– Нет, – сказал он. – Ты просто скажи, что я тоже помогал.
Володька был любимчиком Клавдии Илларионовны. Сейчас я думаю, что она знала, а может, догадывалась о бывшей семье Володьки и его сестры Симы. Со слов Володьки было известно, что он из семьи военных, то ли генерала, то ли еще выше, только их отец пропал на фронте. Насколько я сейчас понимаю, пропал он вовсе не на фронте, а до войны, в конце тридцатых, и тогда все становится понятным. Сейчас понятным, а тогда нет.
Надо сознаться, что мы, созданные улицей, были поголовно сочинителями своей собственной жизни. Господи, что мы только плели, что не наговаривали на себя. Мы были сплошь потомками всяких там знаменитостей, от наркомов до народных артистов, типичные, словом, дети лейтенанта Шмидта. Только Ильфа и Петрова мы знать тогда не могли. Но чаще наши легенды не столько проясняли, сколько затемняли истинное наше происхождение. Мы умело, даже виртуозно во время опросов наводили тень на плетень, и замороченные нами комиссии гороно, дирекция и проницательные, знавшие о нас многое воспитательницы с трудом расшифровывали наши жизнеописания, пытаясь, а чаще не пытаясь докопаться до какой-нибудь истины. Они-то получше нас понимали, что истину в иных случаях лучше не знать вовсе. Та к что в этом вопросе мы были заодно с нашими мучителями.
Вот откуда вытекает тот крошечный ручеек, который становится через много лет источником моих сочинений.
Но вот в рассказах Володьки и вправду проскальзывали достоверные сценки из какой-то неведомой нам жизни, как, например, в Гатчине, на каком-то параде в честь двадцатилетнего юбилея РККА, его отец стоял рядом с маршалом Буденным, называя его просто Сеней, и долго спорил о лошадях, а в другой раз вместе со знаменитым Доватором восседал на скакунах, белых в яблоках, а Володьку, обомлевшего от счастья, отец посадил впереди себя. И все Володьке улыбались, а марширующие мимо конные бойцы отдавали ему честь.
В это можно было и поверить. Откуда бы пацану в восемь лет знать, что такое РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия) или парад в Гатчине… Но опять же, в ту пору, когда все врали напропалую, такие байки ничем не выделялись среди сотен других и не очень нас впечатляли. Хотя, как видите, запомнились. А в поздние уже времена среди воспоминаний какого-то военачальника о временах репрессий промелькнула однажды фамилия Рашкевич. Разница-то в одну букву, да ту могли перепутать в распределителе или даже специально заменить, чтобы обезопасить детей. Такие случаи были. А возможно, это могла сделать сама Клавдия Илларионовна. Во всяком случае, ее необычное, чрезвычайно предупредительное отношение к брату с сестрой Рушкевич было заметно и немного нас удивляло.
Далее же история с Володькой такова. Когда летом сорок шестого появился в детдоме мой отец, Володька напросился взять его со мной вместе в Москву, где он надеялся встретиться с шефом нашего детдома знаменитым полярником Папаниным, который в то время был контр-адмирал и возглавлял организацию под названием «Главсевморпути». В какие-то времена, хоть и шла война, Папанин приезжал охотиться на кабанов в кизлярские поймы в личном вагоне, оббитом красным бархатом и украшенном охотничьими трофеями. Каким-то непостижимым образом его удалось затащить в детдом, и с тех пор он числился нашим шефом, а его назидательное письмо о том, что нужно хорошо учиться и любить свою родину, было окантовано в красивую рамку и повешено на самом видном месте. Было оно подписано так: дважды Герой Советского Союза, контр-адмирал Северного флота. Сам Папанин во время приезда на Кавказ оказался небольшого роста, толстоват, и щеточка усов, когда она показывал нам музейный вагон, смешно шевелилась.
Но все детдомовцы от мала до велика знали его письмо наизусть и свято верили, что в будущем у нас теперь есть опора и наш замечательный шеф поможет нам выйти в люди. А первой ласточкой на этом пути к далекому шефу был Володька.
В Москве он сперва жил у нас, мы спали вдвоем на диване. Каждое утро спозаранку он садился на электричку и ехал в Москву, на Старую площадь, к мраморному фасаду старинного здания, где работал наш шеф. Увидев Володьку, он обрадуется, спросит, а как тот учился и любит ли он свою родину. Володька на это расскажет ему про учебу и про родину, а шеф Папанин похлопает дружески по плечу и скажет… Вот, скажет, друг Володька, такая вот у нас достойная растет смена, и мы берем тебя, друг Володька, юнгой на корабль… Будешь, значит, плавать по северным морям и присылать мне бодрые письма.
Через месяц Володька вдруг понял, что никакому Папанину, ни даже дежурившим у дверей его холуям, что не пускали Володьку далее мраморного входа, он не нужен. А может, кто-то из стражников разжалобился да сказал ему по-свойски, мол, катился бы ты, паря, подальше отсюдова, пока тебя в милицию не загребли. И тогда с помощью моего отца он устроился учиться в люберецкое ремесленное училище, как раз то самое, которое потом будет заканчивать Юрий Гагарин. Но учеба у Володьки не пошла, и он без копейки денег, на перекладных, вернулся в свой Кизляр.
В спецдетдом, где продолжала жить его сестра, старый директор с бульдожьей рожей обратно его не принял. Не принял, ладно. Но еще и отчитал, когда Вовка пришел проситься обратно, говоря, что пустая Вовкина голова ногам покоя не дает и так ему и надо, что погнали, что зазря в звездной столице он побеспокоил высокого руководителя, который занят рядом с вождем государственными делами и не может отвлекаться от работы на каждого заезжего бродяжку.
Володька выслушал, глядя себе под ноги, вежливо с директором попрощался и поехал в Грозный, где поступил в ремесленное училище, готовящее рабочие кадры для нефтяной промышленности. Оттуда я получил короткое последнее его письмо.
Но хотелось бы завершить историю с Володькой одним памятным эпизодом. Когда мы в Москве осматривали метро, на линии от Электрозаводской, кажется, это была остановка «Площадь Революции», мы обнаружили среди бронзовых фигур, вписанных в красный мрамор, одну фигуру, посвященную партизану. По замыслу автора бородатый партизан стоял, чуть пригнувшись, в засаде, а в руках у него был взаправдашний пистолет. Так нам показалось. Володька долго кружил вокруг партизана, а когда станция пустела, резкими движениями пытался выкрутить, вырвать из рук партизана этот самый пистолет. Но ничего у него не получилось. И наверное, такой умелец был не он один. Пистолет был до желтизны отшлифован чужими руками. А вот уж недавно, оказавшись на той же станции, я специально разыскал бородача, чтобы с удовлетворением убедиться, что пистолет-то у него все-таки увели. И стоит наш партизан в засаде, но без оружия.
Но я не о нем – о Володьке. После долгих ожиданий у мраморного дома, что на Старой площади, он не проникся доверием к этому новому для него миру. Ему нужно было оружие.
24
Возвращаюсь к стихам. Хоть первые из них были написаны мной именно на Кавказе, да там нельзя не писать стихов, но моя родословная, как и мое творчество, безусловно, берут начало на Смоленщине, на родине отцов, родине моего земляка и великого поэта Александра Твардовского.
В войну в своих стихах, которые в виде листовки были сброшены в тыл немцев, на Смоленщину, в 42-м году он писал: «…Ой, родная отцовская, что на свете одна, сторона приднепровская, смоленская сторона… Здравствуй!»
Так и звучали во мне эти слова, как песня, как рефрен, когда через много лет посетил я родные отцовские места. Сперва Смоленск, а далее Рославль и деревню Белый Холм. Хотел заехать в Сельцо, на родину великого поэта, да не по пути оказалось. Зато памятник Твардовскому, где сидит он на бревнышке, как бы беседуя о житье-бытье со своим героем Васей Теркиным, я чуть не руками ощупал и даже сфотографировался, ибо стихи про бойца, да что стихи, всю поэму практически с юности знал наизусть. Меня в армии так и звали – Теркин. И в стихах поперву подражал, но к любимому поэту, хоть несколько раз повезло быть рядом, постеснялся подойти. Слишком сильно любил.
Первый раз побывал я в родной деревне отца до войны, в классе втором, и запомнил избу, деда с бабкой, пирог с картошкой, землянику в лесу. А отец мой, ровня Александру Твардовскому, бегал с ним в школу, тоже во второй класс, из соседних хуторов – Загорье и Радино. В последний же раз приезжал я сюда с отцом, который был в моем позднем нынешнем возрасте. Так и сказал: попрощаться. Мы тогда взяли моего сына Ванюшку и племянника Павлика, подростков, теперь-то им под сорок. А привечала нас дальняя родня, Нина и Михаил, которые переехали из ликвидированной деревни Спасской сюда, в Белый Холм, на центральную усадьбу.
Михаил, тракторист, похвалялся новым местом, на окраине у болотца, где поставил он избу-четырехстенок под железной крышей, произнеся громко, что это усадьба Михаила Гашкей. Так его звали в деревне: мать Гашка, которая купила у моей бабки дом. Ну, а бабка моя Варвара, когда дед Петр перед войной помер, переехала жить к нам, в Люберцы. Только 17 июня сорок первого вернулась в деревню продавать избу, а тут война и немцы… Деревню сожгли, а она, бабка Варвара, умерла в «салаше», в окопчике, залитом водой.
Так рассказывала при встрече Гашка, у которой один глаз был выбит осколком мины. В выражении Нины к свекрови: «Один глаз и два рога». Хоронили, мол, Варвару ночью, тайком, на зеленом холме, на сельском кладбище, в ногах у деда. А потом, уже в шестидесятые годы, привезли мы с отцом туда и поставили железный крест.
Отец водил меня по родным местам, собирал в кружку душистую землянику, ходил за водой на криницу, что у Черного Вира, ловил раков в речке Свиной, а белобрысый Санек, сын Михаила, второклассник, пока мои ленивые юнцы прохлаждались на берегу, все топал за отцом по горло в воде, сгоняя с его спины назойливых слепней. Санек и запомнился тем, что был настоящий деревенский мужичок, основательный и серьезный, не чета моим городским лоботрясам. «Слышу, крикнули: Саня! // Вздрогнул, нет – не меня. // И друзей моих дети вряд ли знают о том, // что под именем этим бегал я босиком…» – писал Твардовский.
И вот другой Саня… тоже босиком.
Отца давно нет. По Рославльскому шоссе через Починок просторными полями, сплошь в одуванчиках, въезжаем мы в Белый Холм. Минуем речку Свиную, спрашиваем у продавщицы в магазине, где полки так же пусты, как в прежние советские времена, даже хлеба нет, где живут Бородавкины. «А у нас тут все Бородавкины, – отвечает она. И лишь на имя Михаила Гашкей реагирует сразу: Он-то помер… И Нина померла. А их сын, Саня Новиков, женился, жена его в магазине работала, теперь почтальоном устроилась… Да вы их найдете!»
Дом у них теперь не тот, что я запомнил, а новый, кирпичный. На стук выглядывает пацан, ровесник того Саньки, которого я видел в прошлый приезд. Тоже светловолос, только с рыжиной, он объясняет, что папка на работе, в лесу, деревья пилит. Зовут нового Саньку Женькой. Такой же мужичок, серьезный, основательный, учится опять же во втором классе. А Саня ныне высокий, худощавый, с усами, смуглый уже от весеннего солнца, но глаза такие же ясно-голубые. Мы сажаем его в машину и едем на зеленый холм, на кладбище, с помощью Сани и Женьки отыскиваем родную могилу.
Пока приводим ее в порядок, выпалывая жгучую крапиву, мой смоленский спутник, работник ГУИНа, стелет газетку и раскладывает выпивку и угощение. Поминаем деда и бабку, потом Нину с Михаилом, а Саня рассказывает про свою историю, как на заре перестройки организовали они ферму: восемьдесят коров и телят, всяческая техника, машины и так далее. Взяли кредит на пять лет, но дело не пошло, разорились. Почему разорились, объясняет смутно. Ссылается на налоги. Но, скорей всего, пропили они свою ферму. Нынче же работы в деревне никакой нет, пилят они березу, которую сдают на мебельную фабрику по двадцать четыре рубля за кубометр.
– А тут как увидел в лесу, – говорит Саня, – черная машина с областными номерами да люди с погонами и в кожанках… Так и решил: за мной… По поводу долгов… Брать будут…
Посмеялись. Хоть смешного-то мало. Отвезли мы Саню обратно в лес, а с Женькой расстались у магазинчика, уже другого, крошечного, но уже коммерческого, тут все на полках было: и пепси, и жвачка, и даже бананы с апельсинами.
Женька знал все цены и лишь глазами спрашивал: можно? Мы его подбадривали: валяй, мол, бери, пока дают! Мы нагрузили мы рыжего Женьку пакетом со всякими сластями, и пошагал он домой, крепко прижимая фирменный пакет к груди.
Наш спутник из области уверял на прощание, что они сами могилку поберегут и дощечку памятную сделают… Вот будет в июне в Сельце праздник в память Твардовского, приезжайте, говорит он. Я киваю. Ну, что сказать. Разве что стихами поэта… «Скоро ль, нет ли, не знаю, вновь увижу свой край… Здравствуй, здравствуй родная… Сторона. И – прощай!»
Саньку на прощание я дал деньги для приведения могилок деда с бабкой в порядок. Только спросил: Сань, а сколько надо, чтобы кирпичиком обложить и чтобы красиво? Он завел голубые глаза вверх, долго подсчитывал, потом сказал, что на горючку дорого выйдет, чтобы тот кирпич подвезти. «Ну, сколько?» – повторил я. Он назвал неуверенно странную сумму – двести четыре рубля. Если бы он так долго, закатив глаза, не подсчитывал, я бы, наверное, поверил ему. Но сумма с четырьмя рублями отчего-то смутила. Я на всякий случай все удвоил и сунул ему в руку: сделай, Санек, за мной не станет. Он с охотой кивал. Но позвонил через полгода в Москву наш тогдашний спутник. Дощечки, мол, сделали, повесили, а вот могилку ваш Саня так и не прибрал. В забросе она. Да он, говорят, пьет… И жена его пьет, потому из магазина уволили…
25
Случилось однажды ночью, по пьянке, вспыхнул факелом деревянный двухэтажный дом рядом со станцией Томилино, и мы, детдомовская шантрапа, оказавшаяся в числе первых зрителей, с восторгом, будто на празднике, бегали вокруг пожара, а некоторые, кто побойчей, среди них был и я, полезли в огонь и шуровали по брошенным комнатам в поисках чего-нибудь съестного. Кому-то, помню, удалось обнаружить котелок, полный картошки, она дымилась, выкипая от бушующего вокруг пламени, а мы, озверев от бесценной находки, визжали, блеяли, кукарекали от счастья, набивая горстями рот, утробу, заглатывая пищу вместе с хрустящими на зубах углями.
Рядом обрушивались балки под гудящей в огненных вихрях крышей, дымился под ногами пол, подпекая босые пятки, и даже прихватывало жаром уши. Но что нас могло остановить, устрашить в сравнении с вечным, пожиравшим нас голодом. Да пусть испепелится все вокруг и канет в тартарары, и этот дом, а с ним весь поселок, проклятое Томилино, не за зря так томительно в нем, но чтобы мы бросили, чтобы оставили огню нашу драгоценную находку, целый котел съестного – такого не случится вовеки.
Среди проблесков огня, среди дыма и сыпавшихся на нас искр, черные до волос, жующие, приплясывающие вокруг кастрюли и вопящие, как психи, мы, наверное, напоминали чертенят из ада, собравшиеся на свой бесовский праздник вокруг котла. Наверное, нам что-то орали снаружи, да мы оглохли от своего нежданного счастья. Были пожарники с ручной помпой, в общем-то, бесполезной, а те из взрослых, кто поосторожнее, отступая под напором огня и заслоняя лицо от жара, крестились, решив, что мы, проклятые многажды населением за воровство и за то, что мы вообще существуем, обречены и уже не выйдем живыми. А тех из нас, кто успевал выскочить, окатывали из ведра и посылали беззлобным матюком подальше.
И только двое самых голодных, я да еще один шакал, никак не могли бросить добычу и медлили, хотя было видно, что вот-вот на нас рухнет вся огненная сверху масса. И в этот, ни в какой другой, а именно в этот миг нужно же случиться, чтобы у меня под ногами оказалась книга, я, кажется, об нее даже споткнулся. Успел углядеть серенькую обложку с четко прорисованным контуром всадника, но странного всадника, у которого не было почему-то головы.
Я тогда не успел удивиться, потому что рядом грохнулась со свистом, рассыпав веер искр, полыхающая балка. Слава богу, не на меня, а туда, где минутой ранее я пожирал картошку. Иначе я бы тоже оказался без головы. Картошка пропала, а я, схватив книгу, побежал, пробормотав, что это мы такие безголово безмозглые, что за жратву готовы поджариться заживо. Цела ли была голова, не знаю, а вот книга дымилась и была на ощупь раскалена, как сковородка. Та к вдвоем с книгой в обнимку выскочили под водяной душ, и это нас спасло. Ну, понятно, что сперва меня спасла книга, благодаря которой я не попал под горящую балку, а потом уже я спас ее.
О том, что спасительница книга будет мне нужна для спасения жизни вообще и для спасения моего будущего, я тогда, конечно, не думал. Но это было первое мое личное обретение, погрузившее в другой, неведомый и странный для меня мир. Я знал книгу наизусть, я любил его героев и до сих пор помню, что пуля злодея, которую потом найдут в теле всадника, будет помечена тремя буквами ККК – капитан Кассий Кольхаун.
Тыл есть тыл, вокруг нас тоже стреляли, ибо шла война, а фронт проходил не так уж далеко. Да и оружие, неразорвавшиеся фугасы, патроны, я уж не говорю про самопалы, являлись более, чем найденная книга, причастными к нашей повседневной жизни. Но именно с тех самых пор все злодеи, вовсе не книжные, а настоящие, проходили у меня под этими тремя буквами ККК. Буквы я расшифровывал по-своему: «Кровью клянусь казнить».
А сколько их было, что подпадали под эти три «К», начиная от ненавистной милиции и кончая жесточайшими блатягами, разыгравшими мою жизнь в карты и сделавшие из моего приятеля ради забавы ледяную горку… Я о нем еще когда-нибудь напишу. И конечно, конечно, я носил в груди вечный огонь ненависти к первому и главному моему мучителю Башмакову.
Была, кстати, еще одна, уж не помню, устно ли услышанная или полученная в обмен на мою книгу «Черная стрела», где звучали, воспроизвожу по памяти, такие страстные строки: «Четыре я стрелы пущу и четверым я отомщу… Сэр Даниэль – исчадье зла, тебе четвертая стрела!»
Кому назначались первые три стрелы, не помню, неважно, они назначались тоже моим недругам. И, отмщая бесчисленным и безжалостным врагам, а мстить коварно и безжалостно мы тоже умели, я проборматывал про себя стихи про сэра Даниэля (он же носитель пули «ККК»), а еще про сэра Башмакова, тоже исчадие зла, и был совершенно счастлив, когда мои черные стрелы достигали цели. Если не в те годы, то в другие, когда я об этом рассказал миру.
Но значит ли, что книга, спасенная мной и спасшая меня, и в том пожаре и потом, вопреки своему назначению, учила меня вовсе не добру? Не говорю – злу. Хотя, возможно, понятия добра и зла смыкались в моем сознании в единое целое. Просто зла было больше. Временами могло показаться, что, кроме зла, ничего в этом мире не оставалось. Но как бы мы выжили, спрашиваю вас и себя, если бы так было на самом деле?
Что касается сочинительства, то оно, как я сейчас понимаю, начинается чуть раньше Кавказа. Оно начинается с Сибири, с начала войны, с заледеневших коек, где мы, сжавшись на соломенной подстилке и укрывшись с головой пальто, чтобы надышать тепла, слушали с продолжениями знаменитые романы Гюго, Дюма, Диккенса… Многих других. Это был, по сегодняшним понятиям, тот же сериал. В устном исполнении. Зато сколько картинок в воображении! Но какой это был сериал!
Первую мою книжку вскоре украли, это в порядке вещей. Нормально. Но зато другие книжки я узнавал от их носителей, моих дружков, умеющих пересказывать темными ночами длинные романы знаменитых писателей. Наверное, это были дети из таких семей, в довоенных домах которых могли быть книги, а то и целые библиотеки. Судьбу их родителей, как и остальной интеллигенции, нетрудно угадать. Где-то я уже говорил, что эти дети были крошками от кровавого пиршества лучшего друга всех советских детей товарища Сталина.
Попадая в другие колонии и детдома, я в свою очередь становился носителем тех услышанных мной в ночных сериалах книг. Повторяя их из ночи в ночь, иногда в течение месяца-двух и более, я мог зарабатывать свой первый сочинительский хлеб. Пишу «хлеб», и это не фигурально, отваливали от пайки по корочке, так полагалось с каждого в спальне слушателя. И выходило: чем заковыристей, чем изобретательней, чем дольше длилось повествование, тем больше выпадало рассказчику корочек! И уж тут, поверьте, открывался такой простор для фантазии, что дух захватывало. В какие только переплеты не попадали наши знаменитые герои и что мы с ними не вытворяли, приближая их к нашей детдомовской реальности! Д’Артаньян мстил блатягам, настигая их на платформах и в электричках; Том Сойер удачно чистил карманы на малаховском рынке, там происходили его встречи с красоткой Бетти, которая торговала мороженым, и с Гекльберри Финном, специалистом по открыванию замков; а знаменитый сиделец с острова Монте-Кристо на площади у Кремля, на круглом помосте, привязывал и порол розгами директора Башмакова на глазах у маршала Рокоссовского, а иногда Жукова, и те одобрительно взирали, давая иной раз профессиональные военные советы.
Прочитав уже в поздние годы знакомые по названиям книжки, я с удивлением обнаружил, что наши досочиненные нами повествования, те самые многосерийные романы-боевики, оказались куда занимательней, куда виртуозней и смелей, чем их бледные оригиналы. А еще я теряюсь, когда заходит об этих книжках речь, потому что не уверен, что цитирую классиков, а не самого себя и моих дружков, безвестных сочинителей из моего детства.
И вот еще одна из книг, выхваченная из пламени, если вообразить, что война, пережитая нами, была тем же страшным всепожирающим пожаром. Название повести Ванды Василевской «Радуга» ничего не скажет нынешним читателям, и полагаю, что это был далеко не шедевр. Но она была написана и напечатана в разгар войны, и нам ее привезли на несколько дней из района, куда тоже привезли на несколько дней откуда-то издалека, возможно, из самой Москвы. У нас было три ночи, и мы читали по очереди, сидя возле коптилки: стеклянный пузырек с голубым фитильком в черноте сибирской ночи.
И все равно помню… До сих пор помню и злодеев фашистов, и некую Мусю, живущую с врагом, у которой уши были треугольной формы. Можно ли поверить, что уже подростком, присматриваясь с любопытством к женщинам, в том числе к воспитательницам, я пытался по форме ушей (треугольные или нетреугольные?) определить, кто из них может стать такой Муськой, то есть спать с фашистом и продать родину.
Но вот какая подробность, которую я извлекаю из моего прошлого. Не считая сплошь жирующих директоров, для них припасена «Черная стрела», наши полуголодные наставники были, как сейчас их вижу, остатками благородных семейств, в свое время не до конца уничтоженных, но униженных и низведенных – по принципу классовой борьбы – до уровня самого нижайшего, то есть уборщиц, сторожей или воспитателей, которым придется общаться с такими же отбросами, подобранными на улице, как вся детдомовская шпана.
Все происходило прямо по книжке, пересказанной тогда же, она называлась «Отверженные». И всякие Жан-Вальжаны, Гавроши и прочая воровская нечисть, в число которых входил на уровне шестерки и я, сомкнулась в грязных детдомовских стенах, где свивала себе «малину» подростковая преступность, где единым законом выживания было насилие одних детей над другими, с носителями иного мира, так думаю сейчас, и так же ощущалось кожей тогда. А несли они, эти носители, не поверите, свою старомодную, выброшенную за борт революции культуру. Не только книжки – свои воспоминания, свой особенный, без матюка, язык, свою чудную фортепьянную музыку, неведомые мелодии и романсы. А в итоге свою высокую душевную чистоту.
Господи, они все ушли в другой мир, преодолев всю мерзостную грязь, куда их опустили, и не запачкавшись в ней. Пусть там (там!) будет их душам легко, ведь они, сохраняя нас, засевали поле для будущей России.
А я до сих пор помню недоуменное, подчас глуповатое удивление при виде живых рук, которые из бросового, тоже небось реквизированного по случаю в каком-нибудь особняке инструмента, по черно-белым клавишам которого мы барабанили на досуге кулаками, извлекали на наших глазах неземные волшебные звуки. А еще были книги, которые эти женщины приносили из дома и которые тут же нами разворовывались, обменивались на рынке на картофелину или свеколку, а то и лихо пускались на закрутку, ведь мы все поголовно курили. Курили махру, если удастся достать, травку, сухие листики, но чаще собранные у железной дороги бычки, которые до крошки выкладывались на железку, подсушивались и делились равно между всеми.
Закуривали мы в тот поздний час, когда спальню покидал последний воспитатель, решив, что мы угомонились. И тогда мы как по команде вскакивали, сгрудившись у печки и глядя в огонь, пускали через ноздри дым и обсуждали свои дела. Тут происходил скорый суд над виноватыми, тут делилось уворованное за день. За скрытое от дележа наказывали жестоко, иногда делали темную, а иногда изгоняли из дома на улицу. Шагай, откуда пришел.
Вы спросите: а куда смотрели те же работники, директор, гороно и остальная власть? Откуда мне знать. Мы жили с ними в разных мирах, которые никак не соприкасались. Хотя нет, неправда. Точкой соприкосновения была родная милиция. Она медленно и системно налаживала тот безотказный конвейер, который загребал беспризорщину и уже не отпускал до конца жизни. Работая на помиловке, я сразу узнавал своих сверстников, попавших за кражу буханки в военные годы и уже не вылезавших из лагерей и сорок и более лет.
Впрочем, крали и растаскивали мы не все, несколько томов Брема с цветными изображениями птиц и животных почему-то не пропадали, и мы любили их листать. А воспитательница Бася Марковна, это в Юргомышском районе, в селе Таловка, иллюстрировала своими рассказами о путешествиях эти самые живые картинки. Вот ездила где-то по пустыне, на «линейке», так она называла возок, а тут на пути басмачи с ружьями…
И первую книгу с автографом настоящего писателя, вывезенную (ну то же что выхваченную) из огня ленинградской блокады и бережно сохраненную воспитательницей Ниной Петровной, я до сих пор помню. Название книги не помню, и автора не помню, но была она толстая, без картинок, зато на первой страничке четким почерком наискосок шла дарственная надпись нашей Нине Петровне, в которой писатель объяснялся ей в любви. Такое запоминается навсегда. Мы так часто заглядывали на эту страницу, что, конечно, залапали ее грязными, в цыпках руками, и владелица деликатно скрыла надпись, склеив между собой две первые странички. Но книгу не спрятала, хотя знала, что могут украсть. И в знак благодарности за доверие мы ее и правда не украли.
Надо ли еще объяснить, что в быту наши воспитатели (господи, как они от нас страдали!) были не менее бедны, чем их подопечные. Комнатушки при детдоме, где они проживали, обшаривались нами многократно, и стыдно теперь вспомнить, что у пионервожатой Оли (была и такая странная должность среди воспитателей) я зачем-то стащил пудреницу, узорчатую костяную коробочку, может, даже очень дорогую семейную реликвию, которую вскоре выменял на крошечный жмышок, но его у меня тоже стащили, хотя хранил я его, даже ночью, за щекой. Пустили от самокрутки дым в нос, а когда, задыхаясь, приоткрыл я рот, щепочкой тот жмышок из-за щеки извлекли и за свою щеку положили. А мне сказали: «Не жмись, ты уже его здорово обсосал».
Но я сейчас не только о бедности наших святых, другого слова не могу найти, наставников, учителей, нянек, все в одном лице, которые не могли, как мы, что-то добыть или украсть. Они-то как раз и жили впроголодь, без возможности что-то обрести, кроме того, что им выдавало (распределяло) государство. То самое гороно. Да мы, варвары, их терзали, да карточки, самые плохонькие, иждивенские, четыреста грамм хлеба на сутки, да очереди, чтобы отоварить те карточки и получить тот хлеб, да редкие треугольники-письма, у кого мужья на фронте. И вечная непреходящая тревога за их жизнь…
Но я сейчас не об их бедности, а об их непостижимом для наших зачаточных душ богатстве. Вот они-то и были тем живым словом, носителями, обломками иных, никогда нами не виданных миров, которые исподволь делали нас, существующих на животном уровне, тоже другими.
Я думаю, главное в том, что они жалели нас. Но мы не понимали, мы чурались такой жалости, она нас расслабляла, делала в другом, не их мире, беззащитными. И не случайно в одной моей повести маленький герой по кличке Сморчок страдает от того, что его погладили по волосам, и не знает, как ему дальше жить. А другой герой – по кличке Швейк – даже погибает, ибо был из такой высокопоставленной семьи, где не научили его премудрости выживать, когда он оказался выброшенным на улицу…
26
Как-то попалась мне в книжке история про древний народ, который звался шумеры, а у тех было письмо на глиняных дощечках. Прошли, как ветер по пустыни, века и века, не стало многих народов, и шумеров не стало, пока однажды археологи, роясь в древних развалинах, не обнаружили эти самые глиняные дощечки, обожженные давним пожаром. Пожар стал катастрофой для жителей селения, но он же, превратив сырую глину в камень, сохранил для нас древние письмена. Со временем их расшифровали, и на одной из дощечек, это был лишь каталог названий древних, не дошедших до нас стихов, было начертано: «Жалобная песнь для успокоения сердца».
Неизвестно, какая это была песнь, верно, утешающая, усмиряющая боль. Но мне и названия было достаточно, чтобы проникнуться чьей-то в тысячелетиях песнью. Одно дело – исторические домыслы историков или фантастов, как бы воссоздающих жизнь неведомых нам народов, но совсем другое – чувственное излияние души, донесшееся почти из небытия. И тут уж точно смыкается живое с живым, и не это ли главное – в горевшем, но несгоревшем, а выхваченным из огня Слове? А я настолько был контужен этой чужой песней, что в свою прозу вставил, назвав одну из повестей, и сейчас ношу в себе как мою первую находку – книжку, добытую из пожара и спрятанную за пазухой.
Но и далее вставал я в тупик, натыкаясь на Слово, которое вживую, как молния, мгновенным просверком замыкающая небо с землей, замыкало, соединяло меня с чужой, давно исчезнувшей жизнью. Даже не просто жизнью, а чувствами тех, кто когда-то жил. Вот вдруг прочел про войну такие строки: «Был великий плач, изнемогали девы и юноши, и изменилась красота женская…»
Уж сколько написано-переписано в исторических хрониках о жестокостях войны, которая прошла и превратила страну в пустырь, про солдат, что разбойничали, грабили, насильничали и убивали. Все так и было, но ухо, но глаз, привыкшие к подобным картинам в наше время, да только ли наше, уже не может воспринимать чужую беду, если она не твоя, и не пускает слова чужого несчастья в душу. А тут и не сказано-то ничего особенного, лишь легкой кистью, коротким мазком по темному фону о том лишь, что в несчастье, а что бывает несчастнее войны, женщины меняются, они перестают даже быть женщинами и перестают нести свою женственность и красоту.
Ну, разве кого-то вдохновит такая реальная картинка, запечатленная в четырех строчках: «Вот и кончилась война, и осталась я одна, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик…» А я ведь воочию наблюдал, я видел, видел мужикобабу, нечто бесполое, почти звероподобное, одетое в ватные штаны, которое пашет! Не только впрямую, на поле, в жизни пашет, то есть носит рельсы, кладет асфальт на дороге, кормит мужа-алкоголика, нянчит детишек… Спасает беспризорных… И невозможно не поверить, что Россию снова спасут бабы.
Правда, в строках о великом плаче есть продолжение, но оно тоже целомудренней, чем сказали бы нынешние очевидцы: «Вострепетала земля за обитающих на ней, и весь род Иакова облекся стыдом…»
Это о войне-то, да со стыдом! А мне так стало стыдно за нас сегодняшних, что мы хоть давно не числим себя варварами, но таких слов уже не можем произнести… Забыли! А еще забыли, что земля, замусоренная, изнасилованная нами, способна вос-тре-пе-та-ть.
Или уже не вострепещет, настолько загадили, умертвили?
Вот ведь как вживую могут творцы прошлого, из пепла, из небытия достать Словом, просквозить по чувствам так, что вздрогнешь, опомнившись, и подумаешь, как же это мы дошли до бесчувствия такого, и какие же слова, несущие нашу сегодняшнюю боль, способны мы передать дальше из своего пепла?
Среди нашей жизни, заполненной событиями, имеющими, как выражаются, политическое и государственное значение, никто, понятно, не заметил крошечного события, происшедшего в Глинковском районе на Смоленщине, где 17 сентября люди отпраздновали шестидесятую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Да и я, закопанный в повседневные дела, ничего бы не вспомнил, не узнал, если бы не робкий звоночек из администрации района Глинки с приглашением приехать на торжество. Все-таки родина отцов. Посещал, но это когда было-то. И вот чудо, сам бы не поверил… Но бросил все дела и поехал.
Хочу пояснить. Деревня, которой уже ныне нет, называлась Радино – родина моих отцов. Там, на окраине соседней деревни Белый Холм, как я уже рассказывал, могилы деда с бабкой. Отец, переиначивая знаменитую песню, когда мы везли кресты на багажнике машины в родную деревеньку, чтобы поставить на могиле бабки и деда, обычно напевал: «С чего начинается Радино… С Смоленска оно начинается!»
Конечно, хотел я повидаться с двоюродным братом Валентином, в прошлом мировым рекордсменом по конькам, ныне профессором. А судьба у нас схожа: он в годы войны пережил здесь, на Смоленщине, весь ужас оккупации, а на фронте погиб его отец Степан, брат моего отца. Мой же отец, слава богу, пройдя всю войну, вернулся, и тем мы с сестрой, затерянные в далеких детдомах, выжили. А мой выплеск в будущее, из той победной весны в Кизляре и встречи с отцом, необходим для общей картины, которую оставляет война, на всем протяжении, до наших, до самых последних лет.
Мой отец не освобождал Смоленщину, но страну он защитил. А вот наш знаменитый земляк Александр Трифонович Твардовский, с ним мой отец в детстве посещал одну школу, его родина – сельцо Загорье, освобождал эти места.
Однажды у моего знакомого писателя Евгения Воробьева на стене увидел я фотографию: Твардовский в длинной шинели стоит, скорбно опустив голову на погосте уничтоженного войной отцовского дома.
А уж стихи, посвященные войне, особенно «Василия Теркина» – всю поэму от первой до последней строчки, – я когда-то знал наизусть. Пожалуй, ни один поэт с такой потрясающей силой не отразил народной беды, перенесенной в войну. Обращаясь к землякам в листовке, которая была сброшена в эти места, поэт писал: «Ой, родная, смоленская моя сторона, // Ты огнем оголенная до великой черты, ты за фронтом плененная, оскорбленная ты, // Никогда еще ранее, даже мне не была // Так больна, так мила – до рыдания…»
Ни одна область, ни одна земля, кроме разве Белоруссии, не претерпела от войны столько мук, сколько моя Смоленщина. На западном пограничном краю нашей страны она во все времена первой принимала удары от недругов, приходящих с запада. А в эту минувшую войну, очевидцы мне рассказывали: отсвет горевшего Смоленска полыхающее над ним кроваво-багровое небо было видно за сотню километров. Людям казалось, что наступил конец света.
Но и здесь, в деревнях, война творила свое беспощадное дело. Меня поразило, что через два-три десятка лет о войне жители в деревнях говорили так, будто она произошла вчера: такую незаживающую рану оставила она в душе каждого смолянина. Да посчитайте сами: в том же Глинковском районе было до войны сорок тысяч жителей, ныне осталось едва шесть-семь. И так по всей области. Она до сих пор, мы же об этом не пишем, не знаем, не добрала до довоенной численности населения. Ну, а символом особой жестокости стала соседняя с Белым Холмом деревня Ляхово, ее называли второй Лидицей, фашисты сожгли в домах 384 человека, в основном стариков, женщин и детей.
Так вот она-то вострепетала, моя бедная, моя несчастная родина. И если говорить о стыде… Стыдно, когда она зовет, а ты делаешь вид, что не слышишь. Поехал я, в общем… Завернул за братом Валентином в Смоленск, и его уговорил ехать. И не зря, это была последняя с ним встреча.
Надо ли описывать, что встречи на родине особенно трогают: дети на центральной площади встретили хлебом-солью, а потом под гармошку – играла женщина – нам пропели старинную приветственную песню. А далее вместе с земляками возложили венки к могиле Неизвестного солдата.
Мне приходилось участвовать в торжественном ритуале возложения венков к вечному огню у Кремлевской стены, это всегда волнует. Здесь, в Глинке, было как бы менее величественно, зато по-человечески трогательно. И дети, слава богу, их было много на митинге, пронесли торжественно венок, сплетенный ими из хвои, и положили к подножию памятника, где врезаны в стену сотни имен воинов, отдавших жизнь за освобождение Глинки. Но не все, не все. Вот опять я услышал, что к этому дню собраны останки еще нескольких сотен. Сколько же их пало, что до сих пор собираем и собираем… И не можем собрать… Страшный урожай далекой войны!
Ну, а для тех ветеранов, кто остался в живых, они стояли тут же, в скромных потертых костюмчиках, но с орденами и медалями, устроили потом в спортивном школьном зале – другого нет – банкетик на деньги здешнего предпринимателя. И звучали фронтовые песни той поры, и люди говорили простые слова о победе. Ибо этот праздник был здесь не менее значим, чем День Победы, который празднуется в Москве и в стране.
Не буду рассказывать о многих других событиях, даже о посещении родных могил. Но об одном скажу. На окраине поселка, в деревеньке Ново-Яковичи, освятили в этот день деревянную часовенку, поставленную на месте уничтоженной в войну церкви. Построил ее тоже здешний предприниматель на свои деньги. Так-то и получается: одни вкладывают миллионы в покупку английской команды, а другие, живущие куда скромней, но поближе к людям, захоранивают останки воинов, помогают ветеранам, строят для воскресения душ часовни, чтобы возродить, спасти наше с вами общее будущее.
А я так твердо убежден: без возрождения окраинных селений, их тысячи таких, как Глинка, России не подняться. И никакая Москва, сверкающая огнями витрин и одаривающая нас бесконечными сериалами, Россиюшку не спасет. Только сами себя. Только сами.
Такие-то мысли приходили ко мне у той часовни. А в душе еще звучали стихи великого земляка: «И пусть последний раз сюда зашли мы мимоходом, мы не забудем никогда, что мы отсюда родом…»
Уезжая, я еще раз оглянулся на часовню. На пригорке, среди открывающихся до горизонта лесов, она сияла, как свечечка, с золотым огоньком на кресте, символизируя будущее этого края. Да и наше общее будущее.
– Только бы не спалили, – пробормотал мой сосед.
– Кто же может спалить? – спросил я в тревоге.
– Да кто… Те, кто пропивают Россею!
Молюсь за моих смолян и верю: сохранят.
27
Ах, какой все-таки был этот блистательный и счастливый май! Особенно если без загляда наперед. Но я в ту пору, чудом уцелев, когда подбирали нас, одичавших в горящих зарослях близ Серноводска, ни о какой родине Смоленщине не ведал и про деревню и про бабушку узнал через много лет.
В школе вдруг стали раздавать конфеты «подушечки», которые слиплись от долгого лежания в каких-то закромах и теперь щедро распределялись прямо посреди двора, их отламывали в наши грязные лапки большими кусками.
На экзаменах не то чтобы разрешали, но старались не замечать, как мы подсматриваем и списываем. А Батя на глазах изумленных учителей спускал на нитке записку к дружкам, которые сидели под окном и выуживали для нас из задачника готовые решения. И даже немка, маленькая, крикливая, с крашенными в рыжий цвет волосами, которая заставляла нас изо всех сил учить ненавистный фашистский язык, даже она чуть подобрела, но не настолько, чтобы мы к ней прониклись состраданием.
Мы терпели ее крик и не дерзили ради такой весны, ради победы над врагом, а значит, над проклятым фашистским языком тоже. А я вдруг, на удивление немке, классу да и самому себе, легко одолел готический шрифт и прочитал полстраницы текста. Как получилось, что я с ходу стану читать готические буквы, целые слова без всякой подготовки, до сих пор объяснить не могу. Сейчас бы, наверное, сказали, что это пришло из прошлой, какой-нибудь другой моей жизни. А тогда я по-дурацки хихикал, не умея ничего объяснить. А немка смотрела на меня, и ее хлипкие, дурно покрашенные волосики от удивления зашевелились. И тогда она почему-то решила, что я просто морочу ей голову, а сам давно и добросовестно учу этот проклятый народами язык, и она милостиво, первый и последний раз в моей жизни, поставила мне высокую оценку.
А мы уже топали и орали по коридорам:
- Последний день учиться лень,
- Просим вас, учителей,
- Не мучить маленьких детей!
Но чудеса на этом не закончились. Меня вдруг выбрали секретарем комсомольской организации, в которой числилось всего пять человек, это кому исполнилось четырнадцать, и мне поручили свой первый доклад сделать о речи Черчилля в Фултоне, угрожающего России новой войной.
Худрук Стелла, воспринявшая почему-то ревниво мое избрание в секретари, доклад сдержанно похвалила, но посоветовала какие-то нужные строчки в газете, которую я цитировал, подчеркивать цветными карандашами. Красными, например. Так, сказала она, делают все докладчики. Карандашей, да еще цветных, у нас не было и в помине. Но я и так все помнил, и Черчилля, который «бряцал оружием» (цитата по памяти из того времени), я обличал изо всех сил.
Об угрозах, прозвучавших в речи Черчилля, тогда говорили вокруг и по радио, и казалось чудовищным, что может вернуться то, что мы все пережили. Или этот Черчилль не был под бомбежками и не голодал холодными зимними вечерами? И что такое этот Фултон, где он «бряцал оружием», похож ли он на наш Кизляр или нет? Так вот пусть знает, что мы в Кизляре осудили его злобную речь, а я тогда же записал его в личные враги, ему тоже предназначалась «черная стрела». Такая же, как Башмакову.
А еще мне велели собирать членские взносы. А так как с неимущих не берут, я должен отмечать в комсомольском билете ноль целых ноль десятых процента копеек.
Сейчас-то я думаю, что это и была настоящая цена каждого из нас. Ноль целых ноль десятых… А потом принесла взносы девушка-счетовод, только что принятая на работу. Про нее говорили, что она дальняя родственница директора и что она моет у него в доме полы. А я растерялся. «Да ладно, не нужно денег, – сказал я счетоводу. – Давай я тебе поставлю ноль целых ноль десятых копеек». Она тоже растерялась и ответила, что ей надо платить проценты от ее зарплаты. «Ну, тогда сколько скажешь, столько и запишу, – предложил я. – А денег не надо. Я все равно не знаю, куда их девать».
Думаю, что после моего отъезда в горкоме долго ломали голову, куда исчезли записанные мной взносы, и, конечно, я был крайне беспечен, а партия и комсомол, как мне потом разобъяснили, не прощают утаенных от них денег. Но ведь я действительно их не утаил. А в четырнадцать лет все виделось по-другому, и представлялось, что нас ждет другая, ни на что не похожая жизнь. Ни детдома тебе, ни комсомола…
Теперь в детдоме каждый вечер происходили танцы под патефон или даже баян. Патефон приносила Стелла, и больше всего нас смешила пластинка, где Утесов пел про бороду: «Парень я молодой, молодой, а хожу-то с бородой, я не беспокоюся, пусть растет до пояса, вот когда прогоним фрицев, будет время, будем бриться, бриться, наряжаться, с милкой целоваться…»
А под баян танцевали воспитательницы со старшими девочками. «Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука…» Мы жались к стенкам, делая вид, что нам эти танцульки по фигу, но сами смотрели во все глаза. Тем более среди танцующих была моя тайная любовь Лида. Лида Жеребненко. У нее почти наголо стриженные волосы и чистый, сверкающий, как источник, пронзительно тонкий, нежный голос. На самодеятельных концертах она поет песню про Ленинград, я и сейчас ее дословно помню: «Не сломили нас смерть и блокада, и пройдет, словно песенка, вновь по весенним садам Ленинграда нерушимая наша любовь…»
И когда Лида, чуть склонив набок головку, выводит эти слова, мне почему-то хочется плакать. Отчего-то жалко ее, себя, ленинградцев и всех людей на свете. Хотя никакого Ленинграда, никаких садов ни Лида, ни я никогда не видели.
О самой Лиде, о том, что она в жизни пережила, рассказывалось по детдому шепотком, но все, конечно, знали, что в городе Донецке, в ту пору Сталино, где жила ее семья, на площади, прямо на ее глазах, повесили родителей как партизан-подпольщиков, а девочка тогда сразу стала белой. Потому и стригли наголо, чтобы не так было заметно.
Но первая подростковая любовь на то и первая, чтобы остаться без ответа. От той ошалелой весны, которая пришла после бесконечно долгой военной зимы, многослойная, многоголосая, празднично пестрая, осталась лишь одна пронзительная нотка – Лида. Каждый раз, танцуя танго с Клавдией Илларионовной, она заглядывает через плечо воспитательницы в мою сторону блестящим серым глазом, будто хочет о чем-то спросить. Может, она раньше меня догадалась о моих чувствах и ждала признания? Да просто ждала каких-то слов, ну, скажем, таких: давай дружить. Но и для этого, поверьте, нужна смелость.