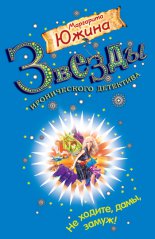Первый день – последний день творенья (сборник) Приставкин Анатолий

«Смело мы в бой пойдем за власть Советов…»
А потом я отрывал марки еще и еще… Этот веселый и добрый человек попал в плен. Над ним издевались враги, но он ничего не говорил. Он только пел про себя свою песню: «Смело мы в бой пойдем…»
Рядом лежала целая кучка марок. Но я ничего не видел. Какой человек пропал! Какой человек… Беляки его убили. А он их совсем не боялся. Он смело пошел на расстрел. Об этом я узнал, откладывая свою последнюю марку.
Мышь
Однажды, покинув на день детдом, я пришел туда, где жил. Постоял под окном, поглядел. В нашей комнате кто-то поселился. Я это понял по роскошным продуктам на столе, по цветам на комоде. И стол и комод были наши, довоенные. Я даже помнил, как их покупали. Мама и отец долго считали деньги и о чем-то спорили. Вечером ложились спать и опять подсчитывали. Потом подъехала машина, выбежала из дома мама и рассмеялась:
– Экий ты… Чего испугался? Смотри, какую красоту купили!
Соседи помогали сгружать и тоже хвалили.
Я стоял и глазел через окно на комнату. Такую теплую и знакомую. И стало холодно. И чего-то жалко.
За рамой по вате пробежала мышь. Серая и толстая. Пробежала и преспокойно уселась, поводя усами.
– Кыш! – сказал я.
Мышь совсем не испугалась. Даже не посмотрела на меня. А до войны я совсем и не видел у нас мышей. Был бы отец не на фронте, он бы не дал им развестись.
Рядом со мной остановилась женщина и тоже стала смотреть на мышь.
– Здесь заведующий магазином живет, – сказала она. – Хозяев нет, вот и поселился. Их много сейчас за счет войны развелось… – добавила женщина и посмотрела на мышь.
И непонятно было, про кого она говорит. Мышь спокойно нежилась в тепле.
Я еще дальше засунул руки в карманы. Посмотрел на женщину и заметил, что и она поежилась и засунула руки подальше в карманы.
Мы взглянули друг на друга и разошлись.
Голубой канал
Где-то за горизонтом, далеко-далеко, там, куда уходят каждый день веселые поезда, лежит Голубой канал. Очень красивый канал. И люди там и жизнь красивые…
Так мне рассказывал Вадька, рассматривая картинку на папиросной пачке «Беломор».
С Вадькой я познакомился на платформе. Оба мы продавали папиросы и старались перекричать друг друга:
– Кому-у папиросы нарупьпарра-а!
Когда папиросы не покупали, я садился на край грязной платформы, где шляпки гвоздей были похожи на плевки. Я смотрел на блестящие рельсы, на паровозные дымы и небо августовское, белесое. А Вадька рисовал на пачке разные виды. Грифелем чуть-чуть скребнет – и вот уже рельсы готовы, и дымы над станцией, и облака. По вечерам за Вадькой приходил его отец, одноногий и грубый инвалид. Он забирал всю выручку, комкая деньги в кулаке, и уводил сына домой. Однажды Вадька сказал:
– Накоплю денег, уеду учиться в художественную школу. Ты знаешь, я сейчас настоящую картину рисую! Угадай, что?
– Не знаю.
– Голубой канал! Правда, здорово?
Шли поезда. Разные руки тянулись к пачке. Черные, большие, с блестками металла на корявых ладонях. И пронырливые, где на цепких пальцах золотели кольца. И широкие, медлительные, достающие вчетверо свернутые рубли из узелков. И щедрые, с вытатуированными якорями и звездами.
А потом поезда уходили в неведомую даль – наверное, к Голубому каналу. И становилось грустно. Я мечтал, что когда-нибудь уедем туда мы с Вадькой. Там нет штучных папирос и пьяного инвалида. Там Вадька нарисует настоящий Голубой канал и будет учиться в школе.
Однажды еще одни руки, огромные, хорошие, потянулись к пачке:
– Эй, малец!.. А работать, как люди, ты хочешь?
Как-то вечером, возвращаясь с завода, встретил я на платформе Вадьку. Он присвистнул, оглядывая мою грязную спецовку, сказал:
– Я теперь знаешь как зарабатываю? Торгую целыми пачками!
Пазуха у него отдувалась. Откуда-то появился Вадькин отец. Вадька засуетился, сказал тихо:
– Да, а картину мою помнишь, Голубой канал? Отец ее загнал на рынке… Ну, я пошел.
Я долго стоял потом. Издалека было видно, как ковыляет инвалид. А рядом его маленькой тенью торопливо шагает Вадька.
Врачиха
В цехе пронзительно звенели пилы. Каждая пила была похожа на солнышко. И от этого солнышка бежали золотые лучи опилок. Работа была самая простая: сунешь под огненный диск доску, нажмешь на нее – и расползется доска на две части.
Раз в неделю приезжала к нам врачиха, как мы ее называли. Я ее боялся. Она ощупывала нас железными пальцами, курила и приговаривала грубо: «Кто же это в нашей жизни хнычет, а?» Потом мыла руки. И однажды я слышал, как она бормотала про себя: «Боже мой, какая худоба эти подростки. Война… Война». И ее бормотания мне напоминали заговоры старой колдуньи.
Ели мы мало. И я иногда замечал за собой: нагнешься – и вдруг серая дымка зальет голову и глаза. В такую минуту и произошло несчастье. Я не заметил, как вместо пилы надвинулось на меня пронзительное солнце, и обожгло, и ударило по глазам. Потом где-то кричали: «Мальчонку убило!» А я думал: вот, кого-то убило. И хотел тоже узнать, кого же это убило, все хотел побежать и не мог…
А в ушах звенело: «Убило! Убило! Убило!..»
Потом я лежал в белой палате и видел перед собой нашу врачиху. Мне было больно, очень больно, но она говорила грубым басом:
– Кто же это в нашей жизни хнычет, а?
Она трогала меня руками, от которых пахло табаком.
Я от испуга переставал плакать.
Я стал поправляться. Иногда страшная врачиха задерживалась у моей кровати. Глаза у нее были темные, лицо скуластое. И говорила она жестковато, ровно, словно допрашивала:
– Отца с матерью нет? А где жил? Папиросами торговал… Да, гадко. А вот учиться надо.
Нет, все-таки я ее очень боялся. Нянечка у нас была добрая, и она рассмеялась, когда я рассказал ей про врачиху:
– Она хорошая. У нее муж погиб на фронте, ребенок умер. А она вон басит, как будто ничего и не было…
Скоро меня выписали. Сама врачиха вышла меня проводить. Она курила папиросы и говорила резковато:
– В детдоме будешь жить, я договорилась. Учись. Это нужно. Может, я когда зайду… – Она осеклась.
Я посмотрел и впервые увидел, что она совсем не страшная, эта наша врачиха. И еще я понял, что, может быть, впервые надо сказать уже ей: «Кто же это в нашей жизни хнычет, а?»
Трое
Это случилось под Серноводском, на Кавказе. Нас было трое: Колька Сурков, Шибаев и я. Мы познакомились у костра, когда сошлись однажды вечером на вкусный запах картошки. Картошку варил Колька Сурков, повесив консервную банку на проволоку. Он поглядел, как мордастый, прожорливый Шибаев, обжигаясь и мыча, заглатывает целые картофелины, засмеялся:
– Не торопись, если не хватит, я еще нарою…
– Где?!!
– Здесь есть один огород, – сказал Колька. И добавил, осеняя спокойными, удивительной голубой чистоты глазами: – Я копаю аккуратно, по всем сельскохозяйственным законам. Так что вряд ли меня хозяин поймает до осени. – Сурков разлегся и, почесывая белую голову, продолжал развивать мысли: – А вообще это не жизнь. Картошкой не проживешь. Нужны продукты другие, и здесь у меня есть одна мысль…
– Я согласен с любой мыслью, – сказал Шибаев, с чавканьем приканчивая картошку.
Мы начали с нашего соседа – сельскохозяйственного техникума. Это было здание двухэтажное и красное. В окне на втором этаже маленькие глазки Шибаева безошибочно обнаружили что-то съестное. Он даже не знал, что это, но он знал, что это можно обязательно есть, потому что, когда он смотрел на это окно, у него подымался «гуд в животе». У Суркова быстро возникла мысль, как это дело «обтяпать», и однажды вечером мы забрались туда.
Мы копошились в полутемной комнате, собирая в кучу странно большие фрукты и овощи, когда Шибаев вдруг сплюнул и начал громко ругаться. На него зашипели:
– Тише! Ты что?
Оказывается, прожорливый Шибаев с налета, не дожидаясь дележа, впился зубами в яблоко и чуть не поломал зубы. Оно оказалось из воска. Он долго плевался. Сурков разглядывал розовую морковку и по-детски удивлялся:
– Вот это сделано! Вы посмотрите, как здорово сделано!
– А что жрать? – спросил Шибаев, у него опять начался «гуд в животе».
Мы сидели в зарослях кукурузы и молча разглядывали добычу. Перед нами возвышалась целая горка красивых, но несъедобных муляжей. Колька задрал голову к небу, и в его глазах побежали белые круги, словно в голубую воду бросили камень.
– У меня есть одна мысль. Пожрать будет…
– Согласен, – сказал Шибаев.
– Будем топить воск и делать свечи.
На Кольку вдруг напала страсть лепить. Из-под его ловких рук выходили удивительные фигурки собак и петухов. Но он скреб русую шевелюру и говорил:
– Я вылеплю точно такую морковину… Думаете, не смогу?
И не мог. У Шибаева от голода опять начался его «гуд».
Он сидел на корточках и ненавидящими глазами глядел на развлекающегося Суркова. Я тоже зверски хотел жрать. Но я сидел и читал книгу. Я любил читать книги и хватал их где только можно. Эта книга была украдена в техникуме.
И вдруг Колька бросил воск на землю и заявил, разглядывая нас насмешливо:
– У меня есть одна мысль. На нашем одежном складе задвижка и замок. Если замок повернуть боком, то для хода задвижки окажется больше места, и дверь должна открыться. – В глазах у Суркова, как от брошенного камня, шли веселые круги. – Возьмем одно пальто, кто-нибудь наденет, и выйдем. Только одно…
– Почему одно? – зарычал Шибаев.
– Потому что нужно честно воровать. Прожрем одно, возьмем другое.
Все произошло, как сказал Колька. Задвижка легко отошла, и новое пальто мы принесли в одну избу. Хозяева нас радушно усадили, подали тарелку красных помидоров и стукнули о стол бутылкой. Никто из нас не пил водки до этого, но, видно, так полагалось, что при продаже нужно пить. И нам, как взрослым, налили по стакану.
Я только помнил, как в голубом дыму перемешивались и чередовались чьи-то льстивые лица, помидоры и пьяный Колька, который кричал:
– …Нам все равно, сколько дадите – и ладно!
И жирные прижмуренные лица хозяев двоились, троились и шамкали многими ртами:
– Деньги мы потом отдадим… Так, с ходу, где их взять, деньги…
Конечно, деньги нам и потом не отдали.
Колонию решили срочно развести по местным детдомам. Об этом нам сказал Колька. Мы сидели на траве около станции. Подходил поезд.
– Загонят куда-нибудь еще похуже! – добавил Сурков и зашлепал босыми ногами к вагонам. Приподняв белесые брови, оглядел проводницу, посмотрел под вагон. Показал рукой на железный ящик. – Глядите, «собачник». Когда-нибудь я вот так залезу в него, – Колька закинул ногу, примерился, – и покачу тыщу кило метров…
И глядел на Суркова и видел в его озерных глазах белые разводы, словно огромный каменище плесканули туда. Но он ничего не говорил. Мы стояли и смеялись, представляя, как бы он уехал в железном тесном ящике под вагоном. А поезд тронулся. И Колька Сурков не стал вылезать. Он только сказал нам:
– Ну, пока, дружки. Еду я в Москву. Решил я найти такую школу, где мне покажут, как слепить красивую морковь. Я обязательно хочу слепить красивую морковь…
Я с Шибаевым попал в кизлярский детдом. И однажды он сказал:
– Ну, что, хватит отдыхать! Я гляжу, ты уткнулся тут в книжки и ничего не видишь… Так вот: я пригляделся, здесь во-о олухи какие… Ничего не сторожат. Замок на складе сбить проще простого. Решили? И бежим!
– Куда?
– Все равно. Не нравится мне здесь.
– Я не побегу, Шибаев. И склад ты не трогай.
У него заблестели глазки, на щеках поплыли два бордовых пятна румянца.
– Ага, гад, изменяешь?!
И тогда я взял его за борта теплого пальто, которое нам здесь выдали:
– Слушай, Шибаев, здесь настоящая жизнь, понимаешь? Я хочу забыть, как воруют… Я хочу читать книги, я их нигде не видал так много, как здесь. И я хочу учиться…
А склада ты не посмеешь тронуть, понял? Иначе я соберу ребят, и о себе… и о тебе…
У Шибаева задрожали жирные щеки и округлились глаза. Он попятился и уже издали прокричал, показывая кулак:
– Сексот!.. Сволочь… Ты попомнишь, ты…
Ночью он бежал. Он, наверное, решил, что я все расскажу. А я ничего не рассказал. Я только хотел жить по-новому.
Штаны
Отец, вернувшись с войны, привез сукно. Других вещей у нас не было, и, открыв ящик комода, можно было сразу увидеть это сукно: золотисто-зеленое, толстое, как броня. Иногда отец доставал его, щупал долго и задумчиво оглядывал свою армейскую форму.
Приходили в гости его дружки – солдаты. Отец тогда крепко выпивал, а выпив, лез в комод и доставал свое сукно.
– Штаны себе сделаю, – говорил он. – С сорок первого не носил гражданских штанов.
Дружки мяли сукно пальцами, и выражение их лиц было тогда удивительно похоже на отцовское. Чуть-чуть веселое и чуть-чуть грустное. Наверное, грустное оттого, что они не носили с сорок первого гражданских штанов. А веселое потому, что они будут их носить.
– Вечные штаны будут! – говорили отцовские дружки.
Жили мы с отцом вдвоем, в шесть утра вставали на работу, делили на две части паек хлеба, молча и торопливо пили чай. Потом вместе шагали к станции.
Однажды отец достал свое драгоценное сукно и пристально посмотрел на меня. Я тоже почему-то оглядел свою заношенную детдомовскую форму. Отец тихо гладил зеленое золото и о чем-то думал. Наверное, о гражданских штанах и о том, что для двоих штанов здесь никак не получится. Потом завернул материал в бумагу и куда-то его унес. Через две недели он притащил рано утром сверток и сказал:
– Ну вот. Лет на десять наша семья штанами обеспечена.
И он вывалил из бумаги двое военных галифе с узкими трубочками для ног.
Затем отец вынул старые солдатские сапоги и велел мне примерить. Сапоги оказались очень велики, но я сказал: «Хорошо». Отец видел, что сапоги мне велики, но тоже сказал: «Хорошо».
И мы пошли на работу. И были мы, наверное, как все солдаты, похожи друг на друга и немножко на остальных, которые пока тоже не носили гражданских штанов.
Ноги
У меня заболели ноги. Я не могу ходить. Мою раскладушку, такую алюминиевую, с пружинами, выносят в сад. И я лежу. Лежать скучно. Передо мной забор и калитка. Улица у нас тихая, и редко кто пройдет мимо. Тогда я вижу под калиткой ноги. Как два зверька, пробегут они, потычутся носами в землю, и опять пусто. Вот две толстые ноги. Словно кто-то медленно ставит на землю бутылки. Это наша соседка тетя Тоня из колонки воду несет. Тетя Тоня больная и ходит в черных чулках. Воду ей носить тяжело, и это заметно: рядом с бутылками железная лодочка плывет, землю со звоном задевает.
Я знаю, что тетя Тоня никогда и нигде не работала. Жизнь свою она прожила без детей, потому что считала, что они старят. Вот так и жила она – сперва на средства мужа, а потом на его пенсию.
А сапожника дядю Васю мне жалко. Он тоже живет один. Он умеет делать любую обувь, но сам всю жизнь ходит в подшитых валенках. Его ноги я сразу узнаю. Если плывут два утенка клювами вверх, значит, дядя Вася проходит и он трезв. Если утята часто клюют землю, значит, дядя Вася выпил. В последнее время утята все больше и больше землю клюют.
Я лежу и все смотрю. И замечаю, что ноги-бутылки совсем исчезли. Только раз в день скрипнет у соседей калитка, и два маленьких ботиночка, путаясь в чем-то белом, пропорхнут. Наверное, медицинский халат. И больше никакие ноги не идут к нашей соседке тете Тоне.
Проходят сутки, день и ночь, тоже как две ноги. Одна нога в белом чулке, другая – в черном. Теперь дорожка за калиткой вся в снегу, но мне видно, как солнце мимо на лучах прошагало, оставив круглые следы проталин.
Я вижу, что у дяди Васи утята пропали. Нет и нет. Только однажды я услышал, как у соседей торжественно и звонко заиграл оркестр и забил барабан. Бум-бом. БЫЛ-БЫЛ человек – и не БУдет БОльше. Бом-бум.
И вместо знакомых утят долго шли под моей калиткой разные ноги. А я смотрел. И ботинки и туфли. Желтые, черные, коричневые. Много шло ног. И наверное, на них была обувь, которую сделал своими руками незаметный дядя Вася.
Папиросы
С последней электричкой я возвращался из Раменского. Домой я мог не торопиться – там никто не ждал. Напротив сел человек, прищурился, спросил:
– Не узнаёшь? А ты вспомни: ночь! Я возвращаюсь вот этой электричкой.
Я вспомнил. В стылые зимние ночи, промерзая до слез, я ожидал свою девушку на заснеженной платформе. Ждал от поезда до поезда. И опять до следующего. Сердито свистящие, пролетали мимо электрички, зажав между колесами метель. Вслед последнему вагону убегал по рельсам красный огонек. А с ним таял и мой огонек надежды. Однажды из вагона вышел веселый парень и на просьбу дать закурить сказал:
– Эх, молодая наивность! Наивная молодость! Она где-то развлекается, а ты… Стыдно глядеть. Гуляй, брат, и все. Как я, гуляй. Смотри, всю жизнь простоишь! А вот папирос нет. Я, брат, беззаботен, не нервничаю и не курю…
Я, кажется, немного позавидовал тогда веселому парню. Очень хотелось курить, и я, не дождавшись, ушел домой.
– Так вспомнил? – опросил человек.
– Нет, не вспомнил, – сказал я.
Он посмотрел на меня и понял, что я вру. Сказал, доставая портсигар:
– Да, брат, бестолковое было время. А я, знаешь, курить начал. Успокаивает. Кстати, я тебя тогда не угостил, закуривай сейчас по старой памяти. Да бери про запас. Может, кого ждать будешь, пригодится…
На своей остановке я сошел. Какой-то парнишка попросил закурить. И ответил на мой вопрос:
– Нет, я не опоздавший. Я одну девушку жду, из Москвы должна приехать. На Москву-то уже все прошли, а из Москвы еще четыре поезда должны быть.
– А вдруг не приедет?
– Приедет. Должна обязательно. Она с работы приедет. Я ее встречу только, а потом свою электричку утреннюю буду ждать. Мне с утра работать.
Я спрыгнул с платформы, оглянулся. Стоял милиционер, да стыл на морозе и парень. Что-то вернуло меня обратно.
– Эй, друг, как ее зовут?
– Валя, – ответил он.
Мы постояли. Я нащупал в кармане папироску, которую мне подарил попутчик:
– Знаешь что, на еще папиросу. Бери про запас… Может, долго будешь ждать, пригодится.
Рабочая порция
После уроков нас, детдомовцев, приводили на завод и ставили за станки. Мы делали шины для раненых. Каждый день по четыре часа. Однажды мастер сказал весело:
– Вот вам первая получка! Талон на рабочий завтрак. Только один. Кто хочет первый?
Нас было семь человек, мы стали ссориться. Мастер утешил:
– Талоны будут каждый день. Все по очереди сходите. Только учтите, рабочий день начинается рано и порции по этому талону выдаются до шести утра.
Жребий идти первому пал на меня. Черным утром, которое ничем не отличалось от ночи, няня разбудила меня:
– Эй, вставай! А то свою рабочую порцию проспишь!
Зажав в кулаке талон, я шел по дороге. Меня пробирал холод. Из калиток, из проулков и вообще откуда-то из серой мглы появлялись люди. Они заполняли дорогу впереди и позади меня. Я еще никогда не видел на этой дороге так много людей. И мне хотелось все узнать, рабочие ли они и куда они идут. И еще похвалиться: а у меня настоящий рабочий талон!
В большой столовой толкался народ. Люди подходили, отдавали талоны, и им сыпали горячую картошку с мясом. И я подошел. Какая-то женщина торопливо сказала:
– Мальчик, здесь по рабочим карточкам! Не мешайся!
Я протянул талон. Женщина поглядела на меня с уважением:
– Ты гляди… Рабочий уже!
И она насыпала мне полную тарелку горячей картошки с мясом. Я даже задохнулся от волнения. Целая рабочая порция!
Потом я шел домой. И мне казалось, что я стал теперь шире в плечах и выше немного… А навстречу шли и шли по дороге люди. Они тоже были большие и сильные. И я теперь понимал хорошо: это идут те, у кого в карманах есть талоны на рабочие порции.
Танцверанда
Мы с Сашкой бегали в городской сад. Там можно было целиться в красивые статуи спортсменов, пугать из кустов девчонок, играть в салочки… Больше всего мы любили играть на дощатой просторной танцплощадке. Но наступал вечер, сюда приходили взрослые люди, играл оркестр. И нам становилось скучно. Мы никак не могли понять, как не надоедает старшим ребятам до ночи однообразно шаркать ногами. Смотреть и то тоска. В такие вечера единственный интерес – подглядывать, как взрослые уходят в темные аллеи и там целуются. Но это было часто одинаково и поэтому надоедало. Мы удалялись спать.
Прошла война. Я был в детдоме и не скоро вернулся в свой город. Однажды пошел в сад. Теперь кусты почему-то оказались низкими, а статуи облезлые и некрасивые. Однажды я встретил Сашу. Он был длинный, худой и в форменной фуражке училища. Сели на скамеечку, поговорили. Он сказал, что учится на гражданского летчика, а вчера приехал в отпуск к матери. Отец погиб на фронте. Я тоже объяснил, что работаю учеником электрика…
Из кустов навстречу каким-то девушкам с воем выскочили ребятишки. Девушки убежали. Я и Саша поглядели им вслед. Помолчали. А на танцплощадке заиграла музыка. Разговор совсем перестал клеиться. Мы помолчали, прислушиваясь, и встали. И, не взглянув друг на друга, двинулись на призывную музыку. И шли мы медленно, как подобает взрослым людям.
Шурка
Шурка был почти взрослый. Он жил в нашем доме и умел делать все. Он всегда что-нибудь мастерил, и крупные веснушки у его переносицы были похожи на головки медных заклепок.
Иногда Шурка вытаскивал на двор старый деревянный фотоаппарат и приказывал мне: «Замри!» – и таинственно закрывался в чулане. Потом приносил карточки и говорил мне сердито:
– Я тебя, друг, просил быть серьезным! А ты что? Расплылся, рот до ушей, вот и смазал все!
Но скоро Шурка женился, а потом его провожали в армию, жена шла рядом и прижимала к груди ребенка.
Прошла война. И еще много лет. Однажды, когда я сидел на крыльце, из дому выскочил мальчик. Он волок за собой какой-то моторчик. Скоро он появился опять и притащил старый деревянный фотоаппарат.
Я присмотрелся: мальчик как мальчик, только у переносицы нашлепано пяток крупных веснушек.
– Ты чей?
– Ничей. Я Шурка. С мамой к бабушке приехал в гости.
– А где отец?
– На фронте убили. Вы, дяденька, улыбайтесь, а я вас сниму. Только улыбайтесь и не разговаривайте.
Он заперся в чулане и стал проявлять снимки.
Потом вышел и сказал мне сердито:
– Серьезные вы, дядя, вышли. Я же просил улыбаться, а вы… Вы совсем не умеете улыбаться.
И, повеселев, Шурка побежал с аппаратом за изгородь.
И все веснушки на его переносице были похожи на головки медных заклепок.
Шаги за собой
В двенадцатом часу ночи я шел по почти пустынной улице Москвы. Где-то у Пушкинского театра нагнал девочку лет десяти. Я даже не сразу понял, что передо мной слепая. Она шла неровными шагами по кромке тротуара. Столб она обошла, на мгновение застыв перед ним. Я обогнал слепую и оглянулся: прислушиваясь к моим шагам, она пошла вслед. У площади Пушкина я завернул за угол. Но захотелось еще раз посмотреть, что будет делать слепая.
Девочка остановилась на повороте и стала напряженно слушать, подняв голову. А может, она ждала, где раздадутся шаги людей? Никто не шел. В двух шагах проносились машины.
Я возвратился:
– Вам куда?
Слепая как будто не удивилась:
– К армянскому магазину, пожалуйста.
– А теперь?
– Теперь мне тут близко. Спасибо.
Она мгновение постояла и пошла, прислушиваясь снова к шагам прохожего. Так окончилась эта встреча. Только я подумал после: а ведь вправду, мы часто забываем, что за нами остаются отзвуки наших шагов. И нужно всегда правильно идти, чтобы не обмануть других людей, которые доверились нам и идут вслед. Вот и все.
1962 г.
Селигер Селигерович
– Эта книга, брат, мудреная – я тебе скажу… Книга любопытная и рассудку требует немало. Селигер называется.
В. А. Слепцов (Письма из Осташкова)
Я люблю встречать солнце. Я беру свою лодку, удочки и выезжаю ему навстречу.
В детстве я любил рисовать солнце. Если бы каким-то образом сохранилось все, что я так усердно тогда пачкал, то глазам предстала бы невероятная коллекция солнц. Там были бы круглые, продолговатые и даже квадратные или ромбовидные солнца, от совсем крошечных до огромных, которые не помещались на целой странице и продолжались на белой праздничной скатерти.
Когда мои друзья рисовали косые дома с косыми трубами, я рисовал свое солнце; когда они рисовали танки или самолеты, я рисовал еще солнце, и когда они рисовали солнце, я опять рисовал его.
Но мое солнце должно быть самым прекрасным и самым большим, и я старался изо всех сил. Однажды я потратил на него все свои карандаши: рисовал его красным карандашом и синим, коричневым и зеленым. Но неожиданно мое солнце стало совсем черным. И за черное солнце я получил красную двойку.
Это сейчас может показаться смешным, но странные мысли о большом количестве горящих на дневном небе солнц смущали меня. Я был уверен, что у каждого человека есть свое, только ему данное солнце, своей формы и своего цвета. У кого-то оно полукруглое и зеленое, у кого-то в голубую полосочку, а у кого-то, может быть, в пятнах или совсем темное… Что же тут поделаешь!
И еще я думаю, если бы каждый из живущих людей нарисовал свое солнце, то, наверное, и получилось бы то общее, большое, главное наше солнце, которое я напрасно пытался в детстве нарисовать один.
Рано. Пар вьюнами отваливает от воды и, курчавясь, висит в воздухе. Словно на дне дымится много невидимых труб многих невидимых деревенек. А ты плывешь по тонкому стеклу, раскалывая его пополам – со всем, что оно имело, – с его вторым миром, который реально существует рядом с первым, не изменяя ни единого цвета, ни единой его пропорции.
Темный круг неподвижной загадочной воды в темно-зорь, где-нибудь посреди камышовых зарослей. Теплый рассвет, расплывающийся, как масляное пятно на стекле, и брошенный в середину этого рассвета поплавок. Его белая точка пока намертво впаяна в огромное зеркало. Клева сейчас не будет. Рано.
От воды идет мокрый холодноватый дух, и я ловлю его ноздрями, глубоко вдыхая. В легких не бывает нервов, но у меня больные легкие, они чувствуют все. Холодящую росу в воздухе, изморозь или горячие испарения трав. На Селигере они отлично расправляются и тихо заживают, и это я тоже чувствую по медленной боли, которую слышу во сне.
Честно говоря, несколько лет назад я решил, что с жизнью у меня покончено. Случилось то, чего я больше всего боялся и чего, кажется, ожидал. Врач как-то не сразу сказал:
– Да. У вас открылся туберкулез. Но вы не впадайте в панику. Пока ничего страшного. Вы слышите меня, молодой человек?
Я его слышал. Я выходил из больницы и споткнулся на ступеньке. Еще бы не слышать… Я боялся этого, и оно пришло. До этого умерла мать, потом дядя. Заболела сестренка… «Вы слышите, молодой человек? Ничего страшного». А я видел, как умирала мать. Я был тогда маленьким и запомнил только это. Я часто пытаюсь представить мою маму. Уже много лет я по крохам собираю о ней все, что можно узнать. Я понял, она была очень нежным человеком, моя мать. Она казалась такой большой, много пережившей, а недавно я узнал, что мне исполнилось столько же, сколько было ей, когда ее не стало.
«Вы слышите, молодой человек? Ничего страшного. Только не впадайте в панику!» А я все еще ходил в институт в той гимнастерке, в какой пришел из армии. Мой сосед на лекции спросил меня:
– А сколько можно не менять гимнастерку?
– Не знаю.
Он сказал задумчиво:
– Наверное, пока не почернеет…