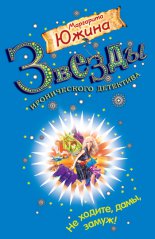Первый день – последний день творенья (сборник) Приставкин Анатолий

– Все, начиная от корня, от прадеда Ивана, все тут лежат. А там Леоновы, там вон наши, Бородавкины… у всех свой район, но ваш, приставкинский, в центре.
– А мать с отцом? – спросил опять дядя Викентий.
Птушенька указала место, где похоронены дед Петр и Варвара.
– Петр Васильевич перед войной помер, – плавно, речитативом сказала она. – Ему гроб ставили на столбах, чтобы не касался земли. Так просил он… Говорят, так колдунов хоронят, что ли…
Отец стал рыть землю, а Птушенька рассказывала, как дед Петр умел заговаривать рожу, и когда одному человеку хотели отрезать ногу, дед сказал: «Выписывайся из больницы, я тебя вылечу». То т отказался от операции, приехал к деду, и через три дня рожа начала спадать, а потом исчезла совсем. Вся деревня знала о том случае, потому что человек дал деду за лечение три рубля.
– Три пуда зерна, – сказал дядя Викентий, забирая у отца лопату, чтобы покопать самому. – Рубль пуд стоил!
– Сыновья поставили ему гроб на столбах, – говорила Птушенька. – Сверху сделали настил из бревен, как землянку в войну делали, а тогда уже засыпали землей…
– А мать? – спросил дядя Викентий, распрямляясь, глядя на могилы и на Птушеньку. – Мать прямо с ним захоронили?
– Варвару Семеновну мы положили в ногах у Петра Васильевича, головой к его ногам, – спокойно объяснила Птушенька. Она прошла и села на старую, размытую дождями могилку.
– Тут лежит, – произнесла она. – Мы ее тогда несли ночью, копали, все немцев стереглись, а лопата о камень – чирк… Чирк… Аж замрем все. Та к и ушла Варвара, никого ваших не было в последний час…
Птушенька наклонила голову, тихо вдруг сказала, будто пропела, покачиваясь над могилой:
– Семеновна, слышь, сыны к тебе вернулись…
Я помнил бабку по довоенному теплому лету, когда мы гостили у нее в деревне. Широкая, плавная вся, будто удивленная, она приносила белые лепешки масла, угощала меня ягодами с молоком, кажется, сильно баловала. Запомнилось, что я боялся грозы, присмиревший, садился я в дальний угол и смотрел на окно, в которое сверкала молния. Все тогда посмеивались надо мной, больше всех отец, а бабка защищала, суеверно уважая мой испуг и отмахиваясь от всех.
– Не надо! – говорила она громким шепотом, округляя удивленно глаза. – Не надо над ребенком смеяться… Фу ты, взрослые, а дураки!
И тихо смеялась, трогая меня ласково. От ее рук пахло теплым молоком. Это было время тридцатых годов, начала в общем-то колхозов, я запомнил, как бабка Варвара ходила в поле дергать лен. Бригадир стучал им в окно, бабка открывала створки и находила яблочки, положенные с той стороны.
Она почему-то всегда удивлялась этим яблочкам и рассказывала про них с теплой радостью и озарением: «Стучит в окно бригадир, я открываю, а там яблочки лежат… Сладкие-пресладкие, он всем так оставлял…»
И то, как бабы дергали лен («Семеновна, внук пришел!»), как окружали меня в белых платочках, а потом на стане угощали молоком да пели какие-то песни, и эти яблочки – я запомнил вместе с бабкиным счастливым удивлением. Наверное, это было первое и очень чистое чувство к тому новому, что тогда приходило в бедную смоленскую деревню.
Отец между тем очистил широкую ямку, обровнял края, потом прибил крест поперек к деревянной массивной колоде, чтобы никто не смог своротить его, и стал зарывать. Дядя Викентий утрамбовывал землю ногой и черенком лопаты. Однако он успевал работать и говорить.
– А тут кто? – спрашивал он Птушеньку, указывая на могилу.
– Тут лежит Евстигней, двоюродный брат деда Петра, а рядышком сын его, Павел Евстигнеевич…
– Не тот, которого в партизанах немцы собаками затравили?
Птушенька не слышала вопроса, продолжала:
– Тут сестренка ваша, Катя…
– Вот где дом родной! – воскликнул дядя Викентий, вдруг удивляясь и садясь на могилу. – Слышь, Егоровна, я скоро еще приеду.
– Да нужон вам наш угол забытый, – нараспев улыбаясь, проговорила Птушенька и отмахнулась руками, точь-в-точь как бабка Варя.
– Нет… Зовет, – горячо возразил дядя Викентий и посмотрел на отца, окончательно притаптывающего землю. – Я бы ведь раньше приехал, честное слово!.. Но ведь не знал ничего: кто, что, где…
– Теперь знаешь?
– Приеду! Я теперь тут все знаю. Во – наш район, по сосне найду… Если сосну спилят, по кресту!
– Ах ты, моя кукушенька, ах ты, моя птушенька… – говорит растроганно Егоровна и кивает головой. – Приезжай, я тебе напишу, когда лучше приехать. Малина поспеет, а потом брусника…
– Я и сам знаю, когда они поспевают! – восклицает восторженно дядя Викентий. – Я же свой человек!
Отец воткнул под конец лопату в мягкую землю и оставил ее торчком. Расстелил на бабкиной могиле принесенный рушник, достал и порезал хлеб, сало, почистил лук, отбрасывая очистки подальше в траву. Четверть стакана самогона он плеснул на могилу, как полагалось, потом налил всем и себе. Сказал:
– Помянем.
Все выпили, захрустели луком, и Птушенька выпила, легко, будто смахнула крылом. Поднесла кусочек хлеба к губам и усмехнулась.
– Ну, скоро и мне к ним.
Так просто и сказала: «Скоро и мне к ним», будто говорила не о смерти – о ночлеге.
– Не торопись, Егоровна, – сказал отец. – Подожди нас.
– Всех не дождешься, – отмахнулась она, глядя с мягким любопытством на отца. – Ваше место не тут. Разлетелись, будто семена. От Семеновны… – Она засмеялась светло и добродушно такому странному сочетанию: «Семена от Семеновны» – и, оглядываясь, добавила: – А меня уж своя земля погреет… Глянь, какая широта!
Кладбище действительно было высоко, за соснами виднелись деревья, поля, а над дальним лесом спокойное небо. На приставкинской сосне (ее тоже так называли) наверху была привязана выжженная изнутри колода дерева для пчел, чтобы не сбежали во время роения. На склонах росла черника с земляникой, свистели птицы. Густо рос на полянах щавель. И как-то понятно стало вдруг – родина, хотя это слово не произносили здесь.
Я подумал, что, если бы отец попал сюда раньше, может, по-другому бы у него сложилась жизнь. Ведь что-то переменилось в нем, стало лучше, при соприкосновении со своим детством, с землей предков, с Птушенькой, которая была сама как корень жизни.
Мы допили самогон, возвращались в деревню пешком. Дядя Викентий нес обратно лопату и все оглядывался, запоминая место.
Назавтра мы уезжали. Птушенька вышла нас провожать. Она поцеловала отца, просила приезжать его и дядю Викентия. Но, кажется, не верила, что это будет скоро.
– Приедем, Егоровна!.. Соберемся и приедем, верно говорю.
Она стояла на траве и, прикрывая рукой глаза, смотрела, как мы залезаем в машину.
Занятые посадкой, отец и дядя Викентий теперь не обращали на нее внимания. Только отъехав, стали оглядываться и махать из окна. Птушенька смотрела на нас, едва ссутулившись. О чем она думала, глядя нам вслед, мне никогда не узнать.
Спасское – Москва. 1964–1966 гг.