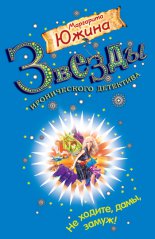Первый день – последний день творенья (сборник) Приставкин Анатолий

В городе, с его слов, у него числилась хорошенькая одна баба, медсестра. Когда он скрывался за поворотом, ему отвечали не очень громко:
– Работа не Алитет, в горы не уйдет.
И садились перекурить. Работали мы не шибко, так как на службе вообще торопиться некуда, если только не идет война. Старался у нас разве Федоров. Я не знаю, как его зовут, да и раньше, кажется, не знал: как и все, он звался по фамилии – рядовой Федоров. Армия любит однообразие, это уже мы знали от сержанта.
Федоров был маленького роста, и между собой мы называли его еще «шпиндик» – прозвище, по-моему, тоже распространенное. Мы знали, что до армии Федоров работал в городе Бежицы на разных стройках и мог бы, если бы ему позволили, читать чертежи или профессионально класть кирпич. От него мы даже узнали о некоторых древних уловках строителей, которые могут то ли воткнуть в дымоход печки гусиное перо, и она будет всегда засоряться, то ли в основание положить капельку ртути, и тогда печь, подсохнув после ухода строителей, начнет страшно стонать и пугать хозяев.
Работа же у нас была вспомогательная, черновая: таскали раствор; сгружали кирпич, теплый, только что из печи, словно хлеб; копали под фундамент землю. А чаще перекуривали, памятуя известную у нас истину: солдат спит, а служба идет.
Однажды кто-то сказал:
– А что, если в фундаменте записку оставить?
– Какую еще записку?
– Обыкновенную. Для потомков, что вот, мол, строили этот дом…
– Будут они ее искать, держи карман шире!
– Да дом простоит небось сто лет.
– Пятьсот!
– Хоть тыщу, ну и что? Конец-то у него будет же. Представляете, разрывают, а там наша записка лежит?
Мы представили, и ничего. Выходило даже неплохо, да и делать нам в этот день было нечего. Сержант наш тоже сидел в сторонке, позевывая и глядя по сторонам; сегодня ожидали начальство, и он не рискнул уйти в город. Он оживился, когда мы объяснили дело, вырвал из блокнота листок и стал писать. Я помню текст записки: «Мы начинали строить этот дом в 1952 году. Группа солдат энского подразделения».
Он свернул листок вчетверо, а потом трубочкой.
– Напишите номер воинской части, – сказал кто-то.
– Или фамилии, – добавил, вздохнув, маленький Федоров.
– Не положено по уставу, – сказал сержант. – Название части и списки военнослужащих – это военная тайна.
– Какая тайна, если через тысячу лет?
– Разговорчики, рядовой Федоров! Может, вашу записку завтра откопают и отнесут куда следует… Вопросы есть?
– Хоть одну фамилию, – сказал, шмыгнув носом, Федоров.
– Поставьте Федорова! – взвизгнул кто-то, и все расхохотались.
Рядовой Федоров сел на кирпич и тоже стал смеяться.
Записку мы вложили в валявшуюся поллитровку от «Столичной», плотно закупорили ее. Потом ловкие, быстрые пальцы Федорова нашли паз в кирпиче и надежно замазали бутылку цементом.
Юрка стащил у меня коробку с крючками, пока я лазал на городище и искал следы волока. По всем приметам, по отзывам соседей это был он, и я поймал воришку прямо за полу. Родителей здесь у него не оказалось, а дядя, которому всучили на лето Юрку, сказал:
– Ты брал крючки? Па-аршивец!
– А тебе что? – спросил Юрка.
Дядя икнул и высморкался.
– Не заливай тут, – ответил он. – Нашел ведь что взять. Ну, я понимаю, были б деньги или одеяло хотя, а то, тьфу, крючки! Семьдесят третья статья о мелком хулиганстве. Я всегда говорил, что срок по пустякам получишь.
Дядя поскреб волосы, решив, что на этом воспитание в общем-то кончилось. Он поглядел по сторонам, зевнул и добавил:
– Тебя, Юрка, могила исправит. Верни крючки гражданину начальнику, а то он отведет тебя куда надо, тогда на практике поймешь, куда сухари посылают… Понял?
– Понял, – ответил Юрка, отойдя на два метра.
Я уже не был рад, что затеял это дело, и, извиняясь, сказал, что обойдусь как-нибудь без крючков.
– Хамло ты, Юрка, – поразмыслив и зевая, сказал дядя. – С тобой гражданин начальник цацкается еще, а я бы тебя в каталажку упрятал, потому что ты опасный человек для общества, Юрка!..
Юрка повернулся и пошел за калитку.
– Вы его не ждите, – сказал дядя, уходя. – Он теперь не вернется, я знаю. Шпана несчастная.
– Как? Совсем?
– Ночевать разве, и то в сарай, где я не найду. Но я ему уши навыдираю, он будет знать, почем кило воды в Селигере. А крючки – хе-хе… Что с воза упало, как говорят…
– У Юрки родители-то есть?
– Мать. Это я с вами как с гражданином начальником говорю, а она бы враз отшила. За свое потерпевшее еще бы ушли как оплеванный. Она такая, я к ней и не езжу.
Но Юрка пришел. Он проделал хитрейший маневр, пробравшись к сараю и что-то спрятав за пазуху. Обежав для верности половину Залучья и достаточно запыхавшись, он протянул коробку с крючками:
– Нате. Насилу разыскал на том краю…
– Ну и артист ты, Юрка!
– Не знаю, – ответил он. – Вы посмотрите, может, чего не хватает?
– Да нет, все на месте, – сказал я восхищенно, не заглядывая в коробку. – Вот если поговорить хочешь…
Юрке не хотелось со мной говорить. Но он из вежливости промолчал.
Я узнал, что он учится в пятом классе, по арифметике у него «пять», а по литературе «трешка».
– Отчего же так?
– Не знаю. Неинтересно. Я эти книги давно прочел. Вот скажите, когда был последний день Помпеи? А? Учителка наша говорит, в древности, а я с ней поспорил, я сказал, что в тысяча восемьсот тридцать втором году. Не мог же Брюллов рисовать то, что не видел…
– Почему не мог?
– Потому что тогда на картине неправда.
– Но тебе ведь понравилось? – спросил я. – Значит, он понял правду, которая была до него. Это может только настоящий художник. А иной сегодня и смотрит и видит вроде бы, а нарисует, словно все придумал. Разукрашено так, что и не поверишь.
– Это подлизы делают! – воскликнул неожиданно Юрка. – Я знаю, они нарочно так, потому что им выгоднее. Недавно мы писали сочинение «Кто кем хочет быть». Все наши подлизы не написали правду, а написали, что они хотят быть учителями русского языка.
Мы одновременно рассмеялись, разговаривать стало легче.
– Так кем ты хотел быть, если ты не писал ради лишней пятерки?
– Я написал им про Селигер. Вы змей видели когда-нибудь? Ого! Тут есть одна, как кобра все равно!
– Да уж прямо кобра?
– Ну, чуть поменьше, медянкой зовут. Она красивая ужасно и специально похожа на золотой браслет. Люди хотят поднять, а она раз – и готово! А знаете, как муравьев по-здешнему зовут?
– Нет. Не знаю.
– Их зовут «сикатушки». Я однажды видел муравьиную дорогу, так они как на автостраде ходят, не верите? Вот честно, по правой стороне и по левой, и регулировщики стоят, и так целый километр! А людям там ходить нельзя… Да вы еще приезжайте, я вам покажу – ахнете!
– А в лодку лазить не будешь?
– Да нет, – сказал, заскучав, Юрка. – Вы приезжайте лучше, а то одному скучно. Я вам покажу, где рыба клюет, ладно?
Мы еще поговорили, поделились крючками, и я, дождавшись Валю, которая ходила за ягодами, отплыл от берега.
– Приезжайте! – крикнул опять Юрка.
– Спа-си-бо! Приеду, Юрка! – прокричал в ответ я. И помахал рукой.
В дом к Виноградовым привели нас поиски молока. Пока мы сидели в светлой, по-своему нарядной горнице с многочисленными половичками, и круглыми и квадратными, которые сделала сама хозяйка Мария Федоровна, хозяин достал коробочку и сказал:
– Вот она, история Селигера! – И высыпал на ладонь с легким стуком круглые пули, щурясь и рассматривая их внимательно. – Полста лет собираю. Которую на кургане или в земле где… Много их – видно, стреляли тут сильно.
– Разрешите…
Мы брали пальцами буроватую, уже окаменевшую шрапнель, мы катали ее на ладони и не торопились отдавать обратно.
– Сколько же им лет? Небось полтысячи?
– Не-ет, – сказал, забирая пули и складывая в коробочку, Николай Федорович. – У нас огнестрельное оружие не так уж давно стало. Века два-три всего.
– Вы историк? – спросили мы одновременно.
– Был учителем, ну, а сейчас… Семьдесят три года, штука не велика, но тянет!
– Будет! Почудил на белом свете! – сказала, входя и присаживаясь, Мария Федоровна, женщина удивительно простая, сколь и красивая нашей естественной русской красотой.
– Ну и что? – воскликнул хозяин, молодо взглядывая на нас ясными голубыми глазами. – Я не ждал революции, чья верх возьмет, я настоящую дорогу искал.
В первую войну служил я с поэтом Павлом Арским – слыхали небось? Павел Арский – поэт пролетарский! Ну вот, у него стихи были, где один интеллигент рассуждает примерно так: «Куда пойти, право, я не знаю, направо двинешься – вся левая кричит. Пойдешь налево – как свора злая, правая ворчит. Кто прав из них, кто виноват, сам черт не разберет. Останусь я посередине. И посмотрю, чья верх в борьбе возьмет». А я не ждал, слышь-ка, у меня отец рыбак безземельный, и я родился тут, большевики сказали – землю, я за них встал.
У нас прежде стеснялись профессию учителя-то называть, а я все ходил в учителях. А ел конину. Мне однажды стакан манки дали, так ребенок ее языком-то выталкивал, потому что не пробовал никогда.
А сына я назвал Спартаком. Ведь гордо носить это имя, хотя пережил я с ним массу неприятностей. Мать была больная, позвала и говорит: «Чудит Колюшка все, раньше и портки-то стеснялись назвать, подштанниками звали, а ты портки портками назвал».
Школа же моя во-он прямо под окном моим стоит. Тут я не жил, там жил. Секретарь говорил: «Виноградов к себе школу приноровил». Сам ее строил, на перегородки иконы от церкви приспосабливал, они там до сих пор…
– Вот-вот, все дурак, – сказала Мария Федоровна, отворачиваясь. – Людям дома строил, а себе сеней не смог…
– Оппозиция! – сказал, усмехаясь и пристукивая ладонями по столу, Николай Федорович. – Она все понимает и одобряет меня, а не сказать не может. Ах, Машенька! Но права – энтузиазм был! Выше, чем сейчас, правду скажу!..
Потом он рассказывает про войну.
– Тут немцы перли дай бог. Где мне их одному остановить! В Залучье немец, а в Рядке у нас промежуток этот самый. А тут связной от наших, нельзя ль, мол, узнать, в каких точках немцы есть и огневые позиции.
Ладно. Пошел я вроде за рыбкой, по льду, прямо в Залуцкую луку. Сижу, таскаю окуней да на стороны поглядываю. Все увидел, мне бы обратно вокруг, как шел, а я через озеро, чтобы скорее. Тут уж и разведки не надо, били по мне из хуторов и дальше… Лежу на льду, а кровь из руки черным пятном ползет… Добрался до избы, матка говорит: «Слыхал небось, какой бой был?» А я затылком в стену уперся и бормочу: «Не бой, говорю, а со мной бой этот шел…» Тут и свалился. Выхаживали меня, был в госпитале…
Хозяин замолкает. Приносит банку с медом, льет на блюдце и пододвигает белый хлеб. Мед плавкий, холодновато-золотой, он течет по блюдцу под край и такой свежий, что кружит еще до пробы голову.
А хозяин все молчит, переживает. Трогает колючую бороду и говорит глухо:
– Лезвий нет. Сыны-то мои, один большим военным начальником на юге, другой в Калининграде. Подарили мне электробритву, а она дергает, я ее подарил им обратно. Старые лезвия в свободное время точу, у меня их тут штук полтораста, а сегодня запустил…
И опять о чем-то думает, затем кладет тяжелые усталые руки на колени и решается. Идет в свой кабинет, где стоят письменный стол и койка, и стопочкой тетради учеников, а на оконном стекле алмазом от перстня начертаны слова: «Корнет Андреев и Николай Виноградов. 1911 г. 27 августа. Прощай, охота!!»
– Егерем я у него был, погиб Андреев в первую еще… А я весь тут, – сказал Николай Федорович и положил на стол грудку тетрадей, прошитых нитками и пожелтевших от корешков. – Сын мой говорит: «Папа, напиши, буду читать, узнаю наш Селигер». Вот я написал, но мне это ни к чему… Если пригодится для общего дела…
– Ну, зачем ему записки про тебя самого! Ему про Селигер надо! – проговорила жена.
– Та к я и Селигер – одно-едино, – сказал он.
Из тетрадей я узнал, что отец Виноградова, как все здешние в те времена, уходил в Питер в древокаты. Не пугались чужой стороны, потому что своя гнала.
- Ох ты, батенька родной,
- Давай разделимся с тобой:
- Тебе соха и борона,
- А мне чужая сторона.
Виноградов вспоминает отца:
– Я сижу на корме лодки за широкой спиной моего отца. Он сбрасывает сети за борт, при каждом всплеске грузила брызги холодной воды летят на меня, и каждый раз я вздрагиваю. Но молчу. «Какой же рыбак, если он воды боится!» – так говорил мой отец. Еще он говорил: «Мне нужны не белые ручки, а смоленые, как и у меня… Чтобы взялся за то крыло невода, а я на этом почуял!»
Отец мой действительно выглядел замечательно. Огромный рост, пушистая борода и большие открытые голубые глаза. Я любил ласку этих прекрасных глаз. На нем была красная кумачовая рубашка, на ногах длинные рыбацкие сапоги, с плеч спускался кожаный передник. И лодка, и сети, и сапоги, и сам рыбак пахли смолою и рыбой.
Про его физическую силу рыбаки рассказывали невероятные вещи. Говорили, что за четверть водки он во время гребли ломал весло… В зимний лов крыло невода тянут шесть человек, и вот когда у тяглецов не хватало сил, становился Федор, и все чувствовали, что он стал тянуть.
Дядя на рыбалке говорил Николаю:
– Эх, как ему хотелось протянуть сеть с кем-либо из вас, сынов. Бог не привел, съела нужда да недобрые люди. А играл на гармони как ловко… Бывало, в Питере катаем на тачках дрова, подойдет к нам шарманщик, вертит ручку, а она играет, ловко так… Ну вот, сыграет, а ему копейку в шапку-то… Уйдет шарманщик, а батя и говорит: «А хотите, я сейчас сыграю, что он играл?» И вот, елки-палки, берет свою гармонь и пойдет ту же музыку играть.
А работа тяжелая, жарко, душно, рубаха за неделю в соль переворачивалась и, как бумага, рвалась. Потом сила, сноровка нужна, без них свернешься в Неву, ну и конец, сейчас под судно водой подберет.
Услышали, близ нас Нова-деревня имеется, вот и начали мы артелью в эту новую деревню ходить, хоть духу свежего поглотаешь, как в свою деревню попал!
Федор за коновода был. Он завсегда под матроса одевался, форма у него со службы была… Ну вот, пошли за деревню в лесок. Весна, значит, птички поют, воздух приятный. Кто в карты сел играть, кто пузо на солнце греет, а кто в стороне под кустом вшей в рубахе бьет, разоряли, проклятые…
Ну, а Федор на гармошке дует. Своей-то у него в то время не было, так он взял поиграть у одного олонецкого парня, а тот только что ее в Новой деревне у пьяного купил. Смотрим, подошла большая компания ребят, по виду народ фартовый, и с ними полицейский.
Спрашивают у Федора:
– Чья у тебя гармонь?
– Да вот, – отвечает, – взял у одного поиграть.
Те к парню:
– Чья гармонь?
– Купил.
– У кого купил?
– Сам не знаю, у кого.
– Та к вот, господин городовой… Вот мой паспорт, посмотрите мои имя, отчество и фамилию. Теперь откройте планку и смотрите, что написано.
Действительно, стоят его имя, отчество и фамилия.
– Гармонь у меня утром в трактире украли, вот свидетели. Ты, парень, лучше без греха отдай чужую гармонь, а то пойдешь в полицию, лучше там не будет.
Так и отдал парень гармонь, улыбнулись денежки. Они не первого так обрабатывали. Федор хотел с ними схватиться, мы его не пустили… Только кончилась эта канитель, подошла к нам компания, смотрим, вроде как из благородных, с чемоданчиком. Был среди них один такой, невысокого роста, с рыженькой бородкой, молодой еще парень, годов так двадцати, в синей фуражечке. Все-то он знает, так-то в душу твою и лезет. Веселый, разбитной, спел, на гитаре сыграл. Расспросил про наше житье.
– Ничего, – говорит, – будет и на нашей улице праздник.
– Вот ждем, а его что-то не видать, – говорит тогда грубо Федор.
– Посиди здесь немного, я расскажу.
Смотрим, народу все больше набирается. Откуда-то взялась табуреточка. Наш этот знакомый стал на табуреточку и говорит:
– Подходите ближе, товарищи, давайте потолкуем!
Народ весь к нему, мы в середке очутились. И начал он говорить про нашу несчастную жизнь, да так верно, как будто он с нами и жил. Говорит, говорит, а потом Федора спросит:
– Как, матрос, ладно будет?
А у Федора только глаза горят, он просит:
– Вы про землю еще скажите! Как ее добыть?
А тут около нас и очутился тот человек, что отнял гармонь-то. Передал он гармонь другому, да как засвистит в свисток, и ему уже городовые отвечают. Тут суматоха пошла, оратору-то говорят:
– Вы арестованы.
А Федор за него:
– По какому праву?
А ему говорят:
– Катись отсюда, пока тебя не забрали!
Взошел тут Федор в характер, ах, говорит, елки-палки, узнаете вы сейчас моряка Балтийского флота. Встал на табурет да как гаркнет во весь лес:
– Братцы, у кого кровь соленая, гармонь отняли, наших бьют!
Соскочил с табуретки, схватил гармонь да как трахнет по башке ее хозяина, так и надел ему гармонь на шею.
И пошла потеха. Та м только начни, а потом сам не разберешь, кто кого бьет. Много потом смеялся наш новый знакомый. Федору руку жал.
– Встретимся! Обязательно встретимся!
Да не пришлось, умер твой батька тут вот, прямо на берегу Селигера.
На входе в Собены, вдоль Березовского рядка, можно увидеть сейчас первые дачи. Единственные поселения, которые не вызывают у меня чувства первооткрывателя.
В очень недалекие времена, лет десять назад, было у меня одно любимое грибное местечко, остановка «73-й километр» по Рязанской дороге. В поезд мы садились в Люберцах ночью и обязательно не брали билетов. Контролеры любили именно безбилетных и без квитанции собирали с нас по трешке. «Ну что, порядку не знаете – жи-во!» – шипели они новичкам и исчезали, на радость нам и себе.
Потом часа два мы высиживали в станционной черной избушке и с сероватым холодным рассветом, который вроде был, но и не был и только на рельсах словно оставлял свои следы – росные блестящие капельки, мы уходили по шпалам в лес. Сперва рельсы видно было шагов на десять, потом на полсотни, и когда они прояснялись вдали, мы сворачивали на просеку и где-то, прямо под насыпью, срезали первый, в утренней влаге гриб.
Совсем недавно мне вздумалось посетить знакомые места. Я слез с поезда и сразу же попал в цепкое объятие заборов. Эти заборы, как две хищные ладони, караулили меня с двух сторон, и казалось, что они вот-вот яростно сомкнутся и раздавят меня. Только через час я вышел в лес и вздохнул уже облегченно, как новенькая дачка снова встала на моем пути. Так кидался я вправо и влево, испытывая неприятное чувство, словно меня увлекли в загон и никак не хотели выпустить.
Я влетел в чистый и белый березняк и огляделся. Я был в настоящем лесу, и вокруг росли настоящие деревья. Стучал над головой дятел, осыпая мне на волосы красные опилки, вскипали и опадали под ветром листья.
Я нагнулся к первому, что мне показалось грибом, и вздрогнул: это был колышек, вбитый в землю. Дальше шла срубленная и положенная поперек березка, обозначавшая не что иное, как тот же забор. Завтра сюда придет хозяин, прорубит дорогу, насмерть валя молодые деревца, и возведет вместо этой времянки современную малогабаритную каменную крепость.
Я сел на холодный мох, озираясь испуганно. Мне показалось, мою жизнь, мое детство искусно и ловко обрубили, как обрубают от главных веток дерево, оставляя голый ствол. Я ничего не значил без травы, без молодой березы с горьковатым соком по весне, без сорочьих гнезд, под которыми я летом нахожу зеленоватую, в крапинках скорлупу яиц.
Я больше никогда не приезжал на эту станцию.
В тетрадях Виноградова я нашел крошечную страничку с описанием утра на Селигере. Вот как он пишет: «Заря разгоралась. Золотая полоса света на востоке обняла горизонт. После весенней короткой ночи природа оживала. Звуки, как и свет, постепенно нарастали, запел соловей. Над озером поднимался редкий туман, который по краям сверкал цветами радуги. Я осторожно привязал лодку к прибрежному камышу. Размотал удочку, насадил червя и забросил в воду. Но, очевидно, рыба еще не подошла к берегу, поплавок спокойно лежал на воде. Красота меня захватила всего, сердце не билось, а лишь сладко дрожало, чувства были напряжены, мысли остановились. Зачарованный, сидел я в лодке, забыв, кто я, где и зачем сюда приехал…»
Много раз и я испытывал подобное чувство, застигнутый рассветом на широкой воде. Или под берегом, где через тихую темно-слюдяную воду ясно видно исчерченное улитками дно, в белых спиралях, точно в небе следы от реактивных самолетов.
В июле мы попали здесь в полосу белых ночей, когда в одиннадцать еще светло и над водой стоит сумеречный белесый воздух, совершенно неподвижный, а звезд почти не видать. Потом все загустеет, но все равно будет светло, а закат, так и не сошедший с неба, будет полосой сдвигаться к северу, чтобы, не угаснув, начаться вдруг рассветом.
И я не сплю, думаю. Даже не знаю о чем. О ночи и о такой, например, странности, как рыба, которая не клюет, когда на небе появляется месяц. Может, она его принимает за большой серебряный крючок?..
Вот лещи, сопливые, сочно чмокающие, любят ловиться в полнолуние. Как, впрочем, и перед теплой грозой. У Сабанеева есть отличное выражение, как лещ играет и «плавится» перед грозой в «жары»…
Завтра будет хорошая погода, потому что звезды совсем не мерцают. За кустами, у меня за спиной, поле, оно большое и все буро-красное от мышиного щавеля. Та м всю ночь скрипит дергач. «Эй, дергач, перестань дергать!» Не перестает. Пусть. Я где-то читал, что в Индии даже существовало лечение птичьим пением.
Зачем я рассказал про эту ночь? Одна мысль, трудная, очень мучительная, преследовала тогда меня. Но и после она не давала мне покоя.
Прав ли я, что взялся рассказать людям о Селигере, тем самым отдав его в чужие, многие руки?
Не разнесут ли его по кустикам на костры, не расколют ли вдребезги эту стеклянную тонкую ночь пьяные крики, не построят ли на щавелевом дрожливом от ветерка поле крашеные заборы люди, которых я называю «себятниками»? Это, по-моему, точнее, чем заграничное слово «эгоист». Те самые люди, которых мой один товарищ назвал «Sonder Kommanden». Термин, взятый от фашистских карателей, но уже в отношении к врагам нашей русской природы.
Одного такого я встретил недавно. Он объехал Селигер, кажется, за два дня и сказал: «И это все?» Он копал рядом со мной червей и приговаривал: «Червяк – это рыба, рыба – это деньги, деньги – это водка, а водка – пятнадцать суток…»
На Селигере стояла тишина. Тогда нам показалось, что мы совсем оглохли, и Валя даже воскликнула:
– Словно что-то выключили!
Это был день четырнадцатого августа, и ничто не предвещало нам перемен. Когда неожиданно прямо над нами раздались точечные хлопки выстрелов, они отразились от леса на том берегу, похожие на кашель великана, и устремились в небо.
Выстрелы теперь неслись отовсюду, и небо и Селигер померкли от частого дыма. А мы сразу заметили, что жить стало хуже. Мы были в общем-то непугливыми столичными людьми, понимали кое-что и в системах ружей, и в калибрах, и номерах дроби, но мы не хотели выстрелов. Их вообще не должно было существовать, они были чужды этому беззащитному миру трав, деревьев и малых, таких веселых птах, поющих нам по утрам. Пальба же между тем нарастала и пятнадцатого числа утром уже напоминала близкую канонаду со всех четырех сторон. Стреляли отовсюду, дробь сыпалась на воду рядом с нашей лодкой, и мы шарахались любого шевелящегося куста, рискуя попасть под дула оголтелых людей.
Я не знаю, сколько они в тот день набили дичи, чем измеряли свою торжествующую добычу… Но они уничтожили тишину, самое дорогое качество голубого мира.
Говорят, охотники – лучшие друзья природы, они, мол, бродят с ружьями, наблюдают красоту окружающего, ну и изредка палят, от избытка азарта и чувств, так сказать. Не знаю. Когда я записываю эти строки, совершенно оглохший от грома пушек и мортир, иначе мне и не представляются тысячи ружей, объединенные в единое человеко-ружье, которое приставлено прямо к сердцу природы.
И переживаю я только одно чувство, чувство возвращения в тишину, потерянную уже и здесь. Потому что имею на нее право, как и эти воды, деревья и звери, обиженные работающими под друзей природы.
А путешественник Озерецковский, приехавший на Селигер в начале прошлого века, рассказывает о бабочке так: «Осиновая прекрасная бабочка была прелестью моих глаз; садилась в сотовариществе на чернозем мокрый и безтравный, пила влагу, и в сем случае нетрудно было ее уловить, но жаль было лишать ее жизни для нее самой, для самца и для ее будущих красивых детенышей, тем паче что собрание насекомых в кунсткамере велико, и Осиновая бабочка кажет себя всем посетителям».
Слишком нежен и чист Селигер, очень уж легко обидеть его, осквернить. Вот чего я боюсь. Даже в старое время, век назад, осташи, или, как они сами себя простонародно называют, ершееды, в городе на столбах делали такие надписи: «Кто нарушает правила, установленные для общего блага, тот есть общий враг всех».
Был и со мной случай, очень давно, который, однако, я запомнил и до сих пор переживаю. Мы убегали от грозы, она быстро настигала нас, и ее хорошо было видно по белому сверкающему следу на темном плесе. Мы спешно выгружались на какой-то необитаемый островок в Сосницком плесе. Переждав дождь, я пошел побродить по чаще (Валя отдыхала) и, едва вступил в ее очень непрозрачное глухое нутро, которое и дождь не пробил до земли, увидел черемуху. Она росла высоко и часто. Я торопился и сделал то, что не должен был делать. Я решил сорвать большую ветку, очень густую, усыпанную влажной переспелой ягодой, и отнести жене. Я полез на дерево, подтягиваясь и пригибая его к земле, но рука сорвалась с мокрого ствола, и я полетел вниз.
Я сидел на траве, потирая ушибленное место. Я знал, что черемуха наказала меня. А ведь я был обязан ей жизнью. Я принес Вале лишь несколько ягод, оставшихся в ладони, и ничего не стал тогда рассказывать.
Мне было не больше пяти-шести лет. Я и до сих пор помню то странное и больное чувство, которое охватило нашу семью: меня преследовали кровяные поносы. Ни лечение, ничто не помогало, родители были в отчаянии, а я потихоньку плакал, испражняясь живой кровью и держась двумя руками за живот. Я не помню, откуда пришел совет, по-моему, от соседей, отправить меня в деревню. «Там только и выживет», – было еще добавлено. Эту фразу я запомнил очень, и хотя, кроме боли, я не чувствовал ничего (что я понимал о смерти?), но и для меня как-то прозвучало: «Там только и выживет».
Я помню очень сильно, так, словно бы это было со мной сегодня утром, черемушник. Он рос на краю деревни и был, как говорили, бывшим помещичьим садом, одичавшим и превратившимся в обыкновенный лес. Я пригибаю ветку, всю в черном и блестящем, и горстями с легким хрустом рву ягоду, жидковатую от переспелости.
Потом ухожу в траву, оправляюсь кровью и гляжу на нее. Она яркая на мокрой зелени. И опять я ем черемуху, а мне говорят (не знаю кто, может быть, мать): «Ешь, милок, твоя жизнь, милок, ешь больше…»
Я ем ее уже с веток, я сосу ее, и хотя язык уже не ходит во рту, почерневший, тяжелый, я втягиваю черемуху как сироп, и мне ее опять хочется. Наверное, таково было желание и моего бедного организма.
Я и потом ел ее, и ломал ветки, и наслаждался текучей черной ягодой, но никогда не съедал столько, и не мог бы, наверное, если бы захотел. Тогда было другое, борьба шла помимо меня, и в ней принимали участие моя мать, клетки моего тела и черемуха, которая стала символом жизни.
Когда я жил в Сибири, я видел, как собирают в лесах черемуху (там ее не ломают, да и посмел бы кто-нибудь сломать), потом ее сушат, перемалывают в муку вместе с косточками и делают начинку для пирогов. Зовут ее так: северный виноград, и это точно.
А тут я ходил с черными руками, черными зубами и деснами и все слышал: «Ешь, милок, тебе как воздух…» Потом черемуху собирали в ведра и бидоны и уже кормили меня дома. Никто никогда не рассказывал мне об этих днях. Но я хорошо помню, как все терпеливо и трудно переживали мой поединок с неизлечимой моей болезнью. Я забивался в дальние зеленя за огородом и мучился, оставляя, как раненый зверек, следы крови на густой траве. Меня ни о чем не спрашивали. Обо всем говорил мой вид, а может, они находили следы после меня.
Но однажды крови не оказалось. Это было почти через месяц после приезда, и я впервые сказал об этом матери. Она почему-то заплакала и пошла смотреть, а потом сказала хозяевам, и они тоже ходили смотреть.
А мать все плакала, и по лицу у нее размазывались черные пятна, потому что она вытирала глаза черными от черемухи руками.
Мы рискнули выйти из Залучья, пренебрегнув тучей, повеявшей холодком нам в спины. Почти на плесе нас нагнал дождь. Дождь на плесе начинается с редких капель. На суше это не всегда заметно. А тут на широком, очень гладком пространстве, каким оно становится при подходе грозы, издалека видны резкие выбоины, словно бы появляющиеся сами собой.
Капли крупны и отвесны, как пули, они чертят резкие круги и исчезают. Потом кругов становится больше, и вода напоминает фанерный щит тира, где каждый удар непременно в десятку.
Дождь учащается, и это заметно по тугому шороху тресты, так местные именуют камыш. Я много раз пережидал ливни среди его зарослей и видел, как тяжелые капли, упав на листья, вдруг превращаются в серебряные крутые шарики, которые скатываются со стеклянным звоном вниз.
– Посмотри, – говорит Валя, указывая на воду. – Это же оловянные солдатики!
Вода становится пряно-теплой и густой. Дождь уже сыплет, как горох, и теперь ясно видно, как на мгновение подымается в месте каждого удара тоненький серый столбик, и впрямь похожий на оловянного солдатика. Они выпрыгивают по стойке «смирно» и моментально уходят опять под воду. Их не успеваешь рассмотреть, хотя перед глазами целые роты, дивизии и армии встающих и исчезающих солдатиков. Это войско все увеличивается, а по озеру нарастает малиновый тонкий звон, который не спутаешь ни с какими другими звуками…
Но слушать поздно. Есть мгновения – толчком в берег, ноги в мокрой траве, скоро перевернутая вверх дном лодка на кряжу и деревянные колья не захотят держать качающуюся под дождем палатку. Это секунды. Потом мы сидим в сухом белье, поджав босые, еще мокрые ноги, и слушаем дробный треск ливня по брезентовому верху.
Однажды мы попали в грозу. Она нагрянула так же неожиданно, как войско из засады, из-за ближайшего леса, немного красноватая и страшная. Она стреляла отточенными молниями прямо в воду, и нам казалось, что где-то рядом опрокидываются огромные тарелки озер. Усталые и мокрые, мы высадились на незнакомом берегу. Наладить костер не удалось, мы легли под грубый шорох проходящего и уходящего дождя на одеяла, сквозь которые скоро стали проступать черные пятна воды.
В лесу всю ночь кричала странная птица. Она начинала трель чисто по-птичьи, заканчивала ее по-лошадиному:
«Тви-тви-его-го-го!» И утром она заорала по-человечески, выкрикивая: «Тви-тви-съе-ей!»
Когда рассвело, мы смогли оглядеться. Под нами колыхались непрочные болотные мхи, в которых единственно, что было живое, – это снова вода. Деревья, чахлые сосенки, казались зелены, но какая это была зелень! Бледная, болезненная, не крепкая, не густая, не устремленная к солнцу, а словно прятавшаяся от него. Гнилой прижимистый лишай, растущий на стволах и ветках, создавал этот цвет, и за ним даже живой кожи не было видно. Это был умерший, страшный лес, и мы торопливо, даже хорошенько не обсохнув, удрали от него на озеро, окрестив с легкой руки Вали Барма-леевым лесом.
Я выглядываю, стараясь разглядеть небо между мокрых веток. Мне видно, как, растерзанные, уходят темные тучи, топтавшие нас, будто стадо диких слонов. Но вот уже рванул сильный западный ветер, и по небу поскакали синие лошади, свешивая мохнатые кривые ноги над водой. Выглянуло солнце, притихла вода. А лошади оказались вовсе не лошади, а послушное стадо курчавых барашков, суматошно толкавшихся и, мелко дробя копытцами, убегавших за лес. Мне видно, как барашки превращаются в скорых белых куропаток и те, словно теряя перья, быстро тают в воздухе, оставив нам верное, голубое, дивной глубины и обширности небо. А вода на плесе играет, как молодая рыба, выпрыгивая вдруг и подсвечивая серебряным боком.
Какие только запахи не реют над Селигером, пока его плес за плесом не пройдешь весь, немного уставая от непомерной ширины и простора. Тогда прикрываешь глаза и начинаешь его чувствовать.
Сразу холодновато и негромко проникает запах воды. Он, сыроватый, сам по себе создает образ воды, и Селигера, и еще сильных блестящих лещей, и мокрого камыша, потрескивающего, когда в нем гуляет рыба. Этот запах ни с чем не спутаешь, а люди «озерные», рыбаки и бакенщики и другие какие, с наслаждением отдышиваются им, замирая, как от первой затяжки табака.
Да и со мной происходит нечто подобное в первые секунды встречи с озером, когда, выйдя из автобуса, вдруг ослепнешь, взглянув на него, а влажный теплый воздух, повеявший от Осташковского плеса, вдруг закружит голову и сделает тебя легким и везучим. Какое-то тихое изумление медленно и глубоко проникнет в тебя и уже не исчезнет до конца поездки. Но вот уже вместе с набежавшим ветерком словно ухнешь в сено, запах травы так горяч и сладок, будто, широко расставив руки, летишь в тот стог и сухая ромашка и припеченная солнцем земляника шебуршат около твоих глаз.
А потом приходят цветы, ярко пахнущие и быстрые, а потом еще запах земли, который тяжелее, приземистее, роднее других запахов. Вода, она будоражит и зовет, наполняет тревогой и приятностью, а земля – она напоминает, она роднит, и сразу же все делается понятным и домашним. В человеке живет первородное, то, чего он и сам не знает, и чувство это от запаха земли: томящее, ноющее, как от старинных песен.
А запахи все плывут: бензин (дых-пых – одна тоненькая струйка), и осока-трава (густой, зеленый), и теплый камень… Этот запах почему-то желтого цвета и напоминает о городе.
Закрыв глаза, я вижу еще один Селигер, и если наше зрение – это мозг, а потом душа, то запах – сперва душа, и, еще ничего не поняв, что, откуда и почему, я веселею, грущу и бормочу песни, отчаиваясь и замирая.
Мы плывем к Новым Ельцам, где нынче расположена турбаза. По общему признанию, это одно из самых живописных мест на Селигере. Мимо Бычка и мимо мыса Телка.
Кстати, на Телке седьмой, что ли, год проводит отпуск в одиночестве один человек, научный работник из Москвы. Ловит рыбу, вялит ее или коптит, а кругом называют его комендантом Телки. Туристы рассказывают про него массу любопытных подробностей, рассказывают, что он очень гостеприимный человек. Однажды к нему завернули промокшие от бури и дождя туристы, и он принял в них живое участие. Нагнал муравьиного спирта (поставил банку с муравьями на костер, и они от страха выдали двести граммов спирта) и стал спиртом натирать девушкам спины.
Сам рассказывал: тер, тер, даже мужские чувства заговорили. Огорчился невозможно. Оттого, что не хотел быть с женщинами на Селигере и пока обходился без них. Позвал туристов, чтобы они натирали муравьиным спиртом девушкам спины, а сам отправился пить «Померанцевую». Впервые, говорят, проклял свое одиночество и решил больше на Селигер не ездить. Но знал, что в Москве, только схлынут холода, снова затоскует по широкой воде, как тут затосковал по женщинам, и снова приедет сюда.
Хочу привести краткую характеристику Ельцов путешественника Озерецковского: «Село Ельцы г-д Толстых, при коем церковь богатая, каменная, дом каменный о трех этажах, полотняная фабрика, кожевенный завод – тут был прежде всего театр, музыка духовая и роговая, певчие и перевоз на противолежащую сторону».
Толстые владели четырьмя поместьями (первоначально): Боровское, Княжное, Неприе и Ельцы, которые протянулись, почитай, от Осташкова до Новгородчины. Но все это было в конце концов прожито. Некоторые, правда, пытались организовать фабричное дело, как видно из того же описания Озерецковского, но, не выдержав конкуренции (труд крепостных крестьян был малопроизводителен), разорились и забросили дело. О том же, что эксплуатация была сильной, свидетельствует упоминание о тюрьме, которая была в Ельцах.
О смерти предпоследнего из Толстых рассказывал мне Виноградов. Что понравилась графу девка деревенская, из Заречья, говорят, красавица была. «Ну и потребовал он ее к себе в спальню, а она опосля и утопилась, во-он в том заливчике. А у нее, значит, был любезный в своей деревне да братья еще, они затаили злобу на помещика. Раз у острова Журовки подкараулили на тройке, скрутили его и кучера, отобрали пистолет, сняли шубы.
– Вылазь из саней, ваше сиятельство! – Дали пешню: – Бейте прорубь. Нагревайтесь.
Мороз здоровый был.
Пробили прорубь, упарились. Тут их мужики окунули в эту прорубь и вытащили. И снова окунули. И снова вытащили. Этак, пока в памятник не превратились. Потом посадили барина на свое место, кучера на облучок, полили еще водичкой и подстегнули лошадей.
– Езжай теперь в свой дворец!