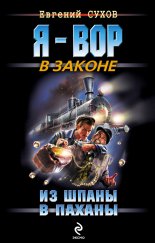Где ночуют боги Иванов Дмитрий

Дядя Эдик довольный посмотрел на Само, Антона и Аэлиту. Они были потрясены.
В это время на голову ученому, на листочек плюща в его волосах, вдруг села белая бабочка.
– Бабочка! – удивленно и радостно сказала Аэлита. – Значит, тепло уже будет! Лето скоро будет!
Дядя Эдик осторожно полез в карман, достал оттуда овальное старое зеркальце, посмотрел на бабочку и сказал:
– Бабочки часто мне на голову садятся. Думают, я растение. Это мою гипотезу подтверждает, мы родственники. Так, так… О, это очень редкий вид. Нам повезло ее увидеть. Гортензиа либертатис.
Антон с уважением кивнул. Бабочка была красивая.
Потом они расстались. Само заспешил обратно в инкубаторий – наступало время очередного кормления гусениц. Антон и Аэлита пошли обратно к деревне. По пути Аэлита рассказала Антону, что дядя Эдик названия бабочек придумывает, а таких, как та, которая села на голову дяде Эдику, здесь полно все лето, и Ларис с ними борется, потому что они рассаду едят. Антону все равно название, которое придумал Тесла для бабочки-вредительницы, понравилось, и он его постарался запомнить. В любом случае, это было первое и единственное название бабочки, которое он теперь помнил.
На обратном пути к деревне на одной из полян Антон увидел четыре фигуры в белых одеждах. Это были мужчина лет сорока, молодая женщина лет двадцати с небольшим и двое детей – мальчик лет семи и девочка – четырех. Они сидели на поляне в позе лотоса и смотрели на небо, но смотрели с закрытыми глазами. Антон сначала подумал, что это видение, но Аэлита сказала, что это правда, это русские люди – муж и жена с детьми. Они были соседями дяди Эдика. Взрослых звали Адель и Наденька. Они называли себя – это слово Аэлита не сразу смогла выговорить – дауншифтеры. Это такие люди, которые уехали из города, чтобы стать ближе к природе. Адель и Наденька исповедовали новую религию, они называли ее «дзен-ислам». Их детей звали так, что Аэлита тоже не сразу смогла выговорить, – мальчика звали Джагандж, а девочку – Дхалла. Раньше Адель и Наденька жили в Санкт-Петербурге и работали дизайнерами, а потом стали исповедовать дзен-ислам и стали дауншифтерами, и поселились тут, на Аибге, вдали от людей и цивилизации, которая зашла в тупик. Адель и Наденька нигде не работали, но от голода не умирали, потому что, вопервых, мало ели, были аскетами, совсем не ели мясо и рыбу тоже, а ели только орешки и изюм. Во-вторых, они постоянно занимались духовными практиками, а эти практики притупляют чувство голода. Ну и, втретьих, они обменивались посылками с другими дауншифтерами, живущими в Индии. Адель и Наденька другим дауншифтерам посылали сушеную хурму, а из Индии получали дуриан и руку Будды. Дуриан – это фрукт, который пахнет луком, канализацией и тухлой рыбой на жаре. Индусы его почитают, потому что, если закрыть нос и победить отвращение, мякоть у него очень вкусная и полезная, Адель с Наденькой его часто едят, и даже Аэлите несколько раз предлагали, но она так и не смогла побороть себя. А второй фрукт – «рука Будды» – желтый, по виду похож на лимон, только как будто у лимона выросли пальцы. Есть его вообще невозможно, потому что кожура толстая, а мякоти нет, но кожуру можно жевать, Адель и Наденька постоянно ее жуют, потому что это умиротворяет и помогает найти точку покоя.
– Так и живут, – заключила Аэлита. – А детей Наденька рожает в воде. Мальчика родила в ванне, в Петербурге жили когда. А девочку уже здесь родила, осенью шторм был такой, она в море залезла голая и прямо в шторме рожала, и как не потеряла в шторме такую девочку маленькую! Наденька сказала, у девочки будет вообще энергетика сильная. Поэтому так и назвали ее – Дхалла. А сына назвали Джагандж, потому что Адель курит анашу и почитает Джа.
Антон некоторое время задумчиво смотрел на Аделя и Наденьку. Они на Антона не обращали внимания – были погружены в духовные практики.
Прошло несколько дней. Антон подружился с Самвелом и стал ему помогать с шелкопрядами. Шелкопряды оказались капризные как артисты: чуть что не так – они теряли настроение, отказывались делать шелк. Но постепенно Антон приноровился, у него стало получаться кормить гусениц, а Само даже сказал, что Антон гусеницам нравится. Он был горд этими своими заслугами. Однажды вечером, когда Антон сидел один в «военном санатории», к нему пришла Ларис и, как всегда, принесла ему еды. Шел дождь. Ларис была какая-то задумчивая. Антон спросил ее, почему она такая. Ларис сказала, что ночью ей опять снились места, где они жили до войны. Ларис сильно скучала по своему дому.
Раньше Ларис жила в Абхазии. Гора, на которой жил сейчас Антон, была пограничной. Часть горы теперь была территорией России, другая часть – территорией Абхазии, в советские времена – Грузии. Ларис рассказала Антону:
– Раньше дружба народов была. Как ее делали, из чего, не знаю. Как-то делали, и была. Потом темно стало как будто у людей в голове. Лето было тогда. Тепло, хорошо. И вдруг – что такое? Бах, бах. Я на улицу выбежала. Соседи наши тоже выбежали. Что такое, спрашиваю. Никто не знает. Потом опять – бах, бах. Что такое! Мой бедный Альберт говорит: «Ларис, иди домой, что ты выбежала на улицу, как курица. Учения идут». А потом один танк приехал. Грузинский. Приехал, взял и как выстрелил. Куда стрелял, зачем стрелял – не знаю. Попал прямо в хурму в саду нашего соседа, хурма вместе с корнями сразу вылетела из земли и в наш сад упала. Жалко, такая хорошая хурма была, сорт королек, крупная. Альберт тогда сразу понял, что это, как закричал: «Ларис, это не учения, это война, надо бежать в бомбоубежище!» А я ему говорю: «Альберт, оф, у нас же нет бомбоубежища, только подвал есть, но там у меня закрутки, места совсем мало». Ну что делать, побежали мы в подвал и там стали сидеть: закрутки как-нибудь подвинули в разные стороны и сели. Хорошо, наши дети в это время не дома были, в Москве были, оф, не дай бог, я так и сказала Альберту. А он говорит: «Ларис, а что еще хорошо? Ты не можешь сказать, а то мне так страшно?» Я сказала: «Еще хорошо, что мы уже старые, если нас убьют, мы пожили уже немножко, все у нас было, дом, дети, закрутки». А Альберт мой бедный говорит: «Да, хорошо, что мы пожили уже немножко, но я бы еще пожил немножко».
Антон не помнил ничего про эту войну грузин с абхазами, но не потому, что забыл все, когда попал под гнев титанов. А потому, что и забывать ему было нечего. Ничего он про эту войну и раньше не знал. Не было никакой необходимости знать. Война, считал всегда Антон Рампо, – это некрасиво и некреативно.
Ларис рассказала Антону историю про то, как война началась. Историю про милиционера Зураба и его пистолет. Был у них такой сосед. Звали его Зураб. Он был грузин, молодой. За два дня до войны была свадьба. Женились соседи, абхазы. Зураб пришел в тот день на свадьбу, как положено, в парадной форме. Зураб был милиционер, и его уважали не только за это и за то, что у него есть пистолет. Мало ли у кого есть пистолет, так что, уважать его сразу, что ли? Зураба уважали, потому что он был веселый и соседям всегда улыбался.
– А один раз он его потерял – пистолет, ой, боже мой! Хорошо, что я нашла, под скамейкой у себя возле ворот, – Ларис рассмеялась, когда это вспомнила. – Возвращался с другой свадьбы, был немножко уставший, поспал на скамейке, а пистолет положил под нее. Когда проснулся – домой пошел, а пистолет забыл. А я нашла, вытерла тряпочкой от пыли и ему принесла, а он уже переживал, что пистолет потерял, хотел писать заявление, чтобы его арестовали.
Так вот за два дня до войны Зураб пришел на свадьбу в парадной форме, взял с собой пистолет. Так принято на свадьбе в Абхазии – когда все хорошо выпьют и радуются – стреляют в воздух, чтобы все вокруг тоже порадовались. На той свадьбе Зураб был веселый и тоже стрелял в воздух из пистолета. Свадьба была хорошая. А через два дня началась война.
Когда война началась, что-то случилось с Зурабом. Сначала никто не понял, что происходит, когда начали стрелять. Все бегали, кричали: «Ай, уй». По небу вертолет летал, корову убили. Так помнила начало войны Ларис. Милиционер Зураб в тот день, когда началась война, ничего не делал, никуда не бегал. Он сидел в доме. И смотрел на свой пистолет. Соседи – среди них была Ларис – к нему прибежали, сказали: «Зураб, война! Что нам делать?» А Зураб сказал: «Да, я знаю». И посмотрел на свой пистолет опять.
Потом, когда приехал уже не один такой танк, как тот, который не умел стрелять и попал в хурму сорта королек, когда приехало уже много танков, Зураб вдруг вышел на улицу, стал махать руками и кричать по-грузински:
– Я вас ждал!
Потом он проехал с грузинами на башне танка. Ему очень понравилось.
Потом он взял свой пистолет. И поше грабить соседей.
– Что случилось с Зурабиком? – сказала Ларис. – Оф, не знаю. Мы его называли «Зурабик». Мы же его до войны уважали. Заболел человек. Я медсестрой работала сорок лет. Людей лечила. Как воспаление легких вылечить, знала. Как ангину вылечить, знала. Как желтуху вылечить, знала. А как вылечить, когда так заболел человек, я же не знала…
Зураб забрал себе сначала все подарки со свадьбы абхазов, соседей, – с той свадьбы, на которой два дня назад танцевал, смеялся и в воздух стрелял. Забрал холодильник, пылесос и утюг. Отнес к себе домой. Потом посидел, подумал. Вернулся опять к соседям-абхазам. И забрал себе дом соседей. Потому что у них был очень большой дом и он ему всегда нравился. Соседи, конечно, не хотели отдавать дом сначала. Тогда Зураб вытащил пистолет и сказал жениху, с той свадьбы, на которой смеялся и танцевал два дня назад:
– А ну, встань там, возле ореха.
Жених встал возле ореха. Он не знал, что хочет Зураб. Они всегда дружили. Жених был абхаз. Зурабик навел на него пистолет и два раза выстрелил. Жених упал. Зураб его убил на месте. Невеста стала кричать, плакать. Зураб сказал, что и ее застрелит, если она теперь не будет с ним жить как жена. Она плакала, но умирать не хотела, и стала с ним жить как жена: два дня прожила, а потом повесилась. Жениха сначала, а потом и невесту соседи закопали во дворе у Ларис, в их дворе Зураб закапывать не разрешил – это теперь был его двор, и он не разрешил. Ларис копала яму у себя под хурмой, чтобы похоронить их. А Зураб написал на доме соседей одно слово по-грузински: «МОЕ». Чтобы все знали, что это его дом. Многие грузины так делали, когда, как он, забирали дома у соседей. Чтобы не спорить друг с другом, стали писать на домах «мое», чтобы все знали – этот дом уже кто-то забрал. Милиционер Зураб оказался жадный, забрал потом еще два дома и на них тоже так написал. Чтобы точно никто не мог войти в его дома, Зураб заминировал их.
У Зураба был дед, грузин, ему было девяносто два года. Он спрашивал Зураба:
– Один дом у тебя был, свой, крыша есть, зачем тебе еще три дома, зачем так много? Зачем тебе четыре крыши?
А Зураб сказал:
– Это что, много? У людей в Голливуде по сто домов.
Потом Зураб где-то нашел форму полковника милиции. И стал ее носить.
– Молодой такой, – засмеялась Ларис, вспомнила, – такой полковником разве может быть. Но мы говорили «господин полковник Зураб». Оф, он сердился, не дай бог, если мы так не говорили.
Потом однажды Зураб в дом изнасилований пришел. Антон не понял, что это такое, когда Ларис так сказала. Тогда Ларис, сильно смущаясь, рассказала, что был во время войны такой дом. Раньше в этом здании был Дом культуры. Туда, когда грузины пришли, они таскали женщин – молодых, а потом и всех без разбора – и старушек, и девочек совсем – и там их насиловали.
– Не люди, а обезьяны, – так Ларис сказала про тех, кто этим занимался, – мы их так и называли.
Обезьян было примерно пятьдесят человек. Женщин после всего, что с ними делали, или убивали, или они сами умирали. Из дома изнасилований всю ночь слышны были крики, женщины кричали, девочки кричали, старушки. А потом было слышно, как убивают их. Дом изнасилований абхазы сожгли, когда грузины ушли. Теперь на его месте опять Дом культуры.
Однажды обезьяны пригласили Зураба. В тот день учительницу привели, с дочкой. Она учила самого Зураба в первом классе, в доме Зураба виньетка была школьная, там эта учительница была, и было написано: «Учительница первая моя». Дочке было шестнадцать лет. Учительницу обезьяны насиловали и дочку ее тоже, пятьдесят обезьян, и Зураб с ними, а потом он учительницу застрелил, потому что она сильно кричала; дочку насиловали, пока она не умерла. После этого Зураб домой пришел и спать лег, пьяный был.
Когда Зураб утром проснулся, возле него сидел его дед, старый грузин. Соседи рассказали ему, что ночью сделал Зураб с обезьянами. Дед в руках держал пистолет и смотрел на спящего внука. Когда Зураб проснулся, он спросил деда:
– Зачем пистолет мой взял? Я разве разрешил?
А дед взял и застрелил Зураба.
Грузины хотели отомстить за смерть полковника, деда хотели убить за измену Грузии, пришли к нему, а он уже сам умер.
– Так сильно жалко его было, – сказала Ларис, – Хотел до ста лет дожить, не получилось.
Потом Ларис рассказала Антону про другого соседа, его звали Абесалом Джоджуа. Когда началась война, он своим соседям сказал:
– Вы – пришельцы!
– Какие мы пришельцы, – удивились они. – Мы же твои соседи, Абесалом, что с тобой?
– Вы пришельцы, – сказал Абесалом. – А у пришельцев своего государства не может быть. Вы должны или уходить, или умереть.
Были и другие, были такие грузины, много таких было, которые не заболели. Они соседей – абхазов, и армян, и русских – защищали, не давали грузинам их убивать, а их самих убивать грузины не могли – они же тоже грузины.
– Оф, как много народу спасли эти люди, дай им бог здоровья и счастья за это, – сказала Ларис. – Если бы не хорошие соседи, в сто раз больше людей бы убили.
А иногда бывало так: человек был поваром, а стал командиром. Ларис рассказала Антону историю про Абика. Он был очень смешной, поэтому все так и называли его: «Смешной Абик». Он был очень высокий, толстый, похожий на Винни-Пуха, только небритого и кавказской наружности. Смешной Абик никогда не ходил один – за ним всегда ходила целая стая собак и кошек. Они шли за ним, потому что Абик был повар и подкармливал их. Собаки и кошки за это его любили и всегда его сопровождали. Соседи Абика тоже любили, потому, что он был добрый и еще потому что Абик готовил самые вкусные в городе хачапури. Были женщины-повара, они тоже вкусно готовили, но так, как у него, ни у кого не получалось, потому что Абик разговаривал с каждой лодочкой хачапури; он ей говорил:
– Сейчас пойдешь, лодочка, в дальнее плавание!
И отправлял лодочку в плавание – в печь. Сам Абик говорил, что лодочки возвращаются из плавания такими вкусными, потому что он с ними разговаривает.
Дети смеялись над Абиком за то, что за ним всегда ходят собаки и кошки, он тоже смеялся над собой. Он был добрый. Фамилия Абика была Аба. Мама у него была грузинка, а отец – абхаз. Абику было тридцать, но он не умел знакомиться с девушками. Когда хотел познакомиться – страшно краснел и не мог говорить. С лодочками хачапури он умел разговаривать, а с девушками – нет.
Когда началась война, соседи сначала прятались, кто где мог. Ларис и бедный Альберт – в бомбоубежище с закрутками. Другие прятались в сараях. Больше всего боялись танков.
– Когда танк едет по улице, оф, дом дрожит, посуда дрожит и душа вся дрожит, – вспоминала Ларис.
Когда появились танки, Абик вышел и смотрел на них. Он не боялся, он еще не понял, что война. Ему было интересно смотреть на танки. Соседи ему кричали, чтобы прятался, а он не прятался – стоял и смотрел. Он видел, как милиционер Зураб машет танкам рукой и кричит:
– Победа! Победа! Возьмите меня!
Зураб кричал по-грузински. И его взяли грузины на башню танка.
Смешной Абик знал и по-абхазски, и по-грузински, и по-армянски, и по-русски, и как хочешь. Потому что он был повар.
Когда начались обстрелы, грабежи и убийства, люди стали уходить в лес. Абик помогал соседям. Он был очень сильный, и его попросили помочь тащить в лес запасы еды и одеяла. Он помогал. Так и сам попал в лес.
Потом к лесу пришли «обезьяны» – бандиты, которые насиловали женщин в Доме культуры. Они узнали, что в лесу прячутся женщины, и пришли за ними. Один мужчина, абхаз, не верил, что его и сына его убьют, они вышли навстречу обезьянам с белыми тряпками в руках, думали, грузины идут посмотреть, нет ли в лесу военных, а они же не военные. Когда отца и сына с белыми тряпками в руках поставили на колени и расстреляли, все в лесу поняли, что сейчас их убьют. Ларис попрощалась с соседками, своими подругами, Азганкой и Серуш – они тоже были в лесу. Пока Ларис прощалась с подругами, Смешной Абик вдруг встал и пошел. Никто не понял куда. Никто его не стал останавливать. Все думали, что скоро умрут.
Смешной Абик спрятался за деревом и стал ждать. Когда мимо проходил один из бандитов, из обезьян, он схватил его руками за шею и задушил сразу. Повар был очень сильный.
– В одной руке у него помещался арбуз, – так сказала Ларис.
Убив первого бандита, Смешной Абик взял его автомат и нож и пошел за другое дерево. Там убил ножом второго бандита. Абик был повар – он умел обращаться с ножом. Забрал второй автомат. Сел за деревом и стал смотреть, как автомат работает. Абик в армии не служил, потому что был слишком толстый. Но он быстро понял, как работает оружие. А другие бандиты в это время стали ходить по лесу по два, по три человека – искали женщин. Абик ходил за ними и убивал. Так убил еще восемь человек и собрал десять автоматов. В него стреляли, но не попали, хотя он был очень большой. Абик оказался героем. Он перестал быть смешным и стал страшным.
Остальные обезьяны, когда поняли, что не они убивают, а их убивают, испугались и убежали из леса. Решили, что в лесу военные. Хотя в лесу был только повар и женщины с детьми.
Потом Абик увел людей выше, в лес, в горы. Там они разбили лагерь и стали жить.
Через полгода те, кто пришел на танках, уже давали награду, много денег, за голову человека, который руководил отрядом в лесу. Этот отряд сжег много танков, и «обезьян» почти всех перебили именно люди Абика. Награду обещали, но никому так и не дали, потому что голову Абика ни одному из врагов так и не удалось раздобыть, хотя она постоянно дорожала. Его не убили, очень удачлив в бою был и даже ни разу не был ранен.
Когда кончилась война, Абик вернулся в свой дом. Первым делом он стер слово «МОЕ», написанное на заборе милиционером Зурабом. Он собирался снова стать поваром. Хотел опять быть Смешным Абиком. Но не успел.
Когда он входил в дом, он не знал, что Зураб его заминировал. Абик подорвался на мине. Он умер счастливым, потому что ничего не понял. Похоронили Абика у него во дворе. На похороны женщины приготовили хачапури – лодочки, но все говорили, что у Смешного Абика они были вкуснее.
Ларис тоже воевала в отряде Абика, она была медсестрой и поваром, потому что Абик теперь поваром быть не мог – он был командиром. Когда Ларис вместе со всеми убежала в лес, с собой она взяла только своего бедного Альберта, паспорт и свою любимую машинку для закруток. В лесу Ларис собирала грибы, ягоды и корешки и готовила из них свое фирменное блюдо – «Кушай и молчи». Получалось вкусно, и даже бывший повар, теперь командир Абик сказал, что после войны, даст бог, Ларис должна его научить так готовить из ничего.
В лесу с Ларис продолжали происходить удивительные события, которые сопровождали ее всегда и везде. До войны каждое утро все соседи собирались у Ларис на кофе, и не потому, что жить не могли без кофе, а потому, что все любили слушать рассказы Ларис. Однажды, например, Азганка, подруга Ларис, пожаловалась, что уже появились первые осы и скоро житья от них не станет. Азганка обычно все лето варит варенье, осы тоже варенье любят. Она испробовала уже, по ее словам, все возможные средства – липкую ленту и яды, но осы оказались страшно умные: на ленту загоняли мух, чтобы те забивали ее своими телами, и она переставала быть липкой, и яд тоже осы заставляли есть мух, а сами яд не ели, предпочитая варенье. Азганка в прошлом году даже попробовала взять полотенце и сбивать им ос в воздухе, но те шустро летали, так что ни по одной Азганка не попала, а вместо этого смахнула полотенцем и разбила очень красивую вазочку. Тогда Ларис рассказала Азганке свой рецепт борьбы с осами. Однажды Ларис выставила для ос чашку сладкого вина. Осы стали пить, опьянели и начали летать как попало, задом и боком, стали биться друг об друга в воздухе, ругаться между собой, жалить друг друга и так все подохли. Вот такой рецепт борьбы с осами. Азганка сказала, что обязательно попробует, и подробно расспросила Ларис, какое нужно вино.
А тетя Серуш, которая окисляла золото своим телом, рассказала, что в подвале у нее живет крыса. Кислотности тети Серуш крыса не боится, мышеловки обходит, яды не ест, зато молотит съестные припасы тети Серуш, а недавно стала учиться открывать закрутки – Серуш уже видела следы от зубов на одной крышке: открыть банку крыса пока не смогла, но уже поняла как. На это Ларис рассказала, что и у нее в подвале тоже давно живет большая крыса, но с ней Ларис установила добрые отношения. Два раза в день, утром и вечером, она выставляет в подвале на специальный маленький столик тарелку каши геркулес, залитой кипятком, и немножко сахара. У крысы это любимое блюдо. Счастливый грызун не трогает другие продукты Ларис, а только спокойно приходит два раза в день за свой маленький столик, хорошо кушает, а после еды ложится отдохнуть в дальнем конце подвала, где Ларис бросила старую телогрейку бедного Альберта. Так крыса живет размеренной жизнью. А когда приходят другие крысы или мыши, она их прогоняет и бьет, потому что из-за хорошего питания стала очень сильной, так что другие грызуны к Ларис заходить теперь просто боятся.
Еще Ларис гадала на кофейной гуще. Иногда к ней выстраивались очереди желающих узнать будущее. Прорицательницей Ларис была, вероятно, не очень правдивой, потому что всем обещала всегда только хорошее. Самым худшим прогнозом, который могла кому-то дать Ларис, было:
– Будешь не знать, что тебе делать, но потом поймешь и сделаешь все хорошо.
Когда позитивные прогнозы Ларис сбывались, соседи приходили к ней с конфетами – Ларис любила хорошие конфеты – и обсуждали, как хорошо, что Ларис видит будущее в гуще. А когда положительные прогнозы не сбывались, все равно к ней приходили и говорили:
– Не смогли мы сделать так, как вы сказали, тетя Ларис.
Всю жизнь Ларис работала медсестрой. Она умела делать уколы и ставить банки. Из-за этого к ней тоже приходили, когда болели, и Ларис считалась еще и целительницей. Если сосед к ней приходил с головной болью, Ларис вела его в свой сад и давала ему грушу и велела ему ее съесть и думать о хорошем, когда кушает. Сосед с больной головой так и поступал, и Ларис ему говорила, что все должно пройти. И голова проходила, и сосед рассказывал об этом всей улице. А если голова не проходила, сосед тогда говорил:
– Ларис мне сказала кушать грушу и думать о хорошем, а я, когда грушу ел, думал, что Робику я вторую неделю аппарат для чачи отдать не могу и Робик меня уже считает аферистом. Зачем я про это думал, вот теперь с головой дальше мучаюсь, а Робику все равно аппарат не нужен пока.
Во время войны, когда Ларис была медсестрой в отряде Абика, она однажды встретила в лесу медведя и гаркнула на него. У Ларис было и до войны это свойство. Она очень редко на кого-то сердилась, почти всегда смеялась – была оптимистом. Но если вдруг ее сердил, например, цыпленок, который пытается учиться летать и портит рассаду перцев своими грубыми посадками, или если алабай Том, была у него такая привычка, мощным басом, монотонно, через каждые три секунды, лает уже тридцать минут – Ларис могла издать гарк такой громкий, яростный и внезапный, что цыпленок в ужасе улетал на бреющем полете, а мощный алабай Том прятался в будке и потом полдня не показывался. Соседи говорили, что когда Ларис кричит – гнется хурма, как в бурю. Во время войны Ларис однажды пошла в лес за опятами. Была осень. Шли дожди, потом вышло солнце – и появились опята. Ларис любила эти грибы, иногда ей даже жалко было их жарить, до того они красивые. Ларис набрала опят и уже возвращалась в лагерь довольная, когда на нее вышел медведь. Ларис сказала медведю по-армянски:
– Извини, пожалуйста, мончес (по-армянски «сынок»), не могу грибы отдать тебе, без них как буду ужин готовить для людей? Найди себе что-нибудь другое как-нибудь, ты же медведь или что.
То ли медведь был в очень плохом настроении, то ли по-армянски не понимал, но он встал на задние лапы – захотел напугать Ларис. Медведь зря так сделал. Ларис так гаркнула на медведя, что он, по словам самой Ларис, «так расстроился. Убежал. Как потом жил, бедный, не знаю».
В лесу во время войны больше всего Ларис переживала, что захватчики найдут и съедят ее закрутки, которые она оставила в подвале, когда они с бедным Альбертом убежали в лес. Смешной Абик сначала не хотел брать Ларис в свой отряд медсестрой, сказал, что ей нельзя на войну – она уже бабушка. Но Ларис ответила, что она видела про себя в кофейной гуще, что доживет до 130 лет. Абику нечего было на это возразить, потому что Ларис считалась прорицательницей, и он взял ее в отряд медсестрой. Он даже пытался ее заставить носить бронежилет, но Ларис примерила его и сказала, что носить бронежилет не будет, потому что он слишком тяжелый и потому, что он ее полнит. А вот каску Ларис все-таки носить стала. Она нашла ее сама, когда из города сбежали миротворческие силы, иностранцы, которые в городе появились как раз перед войной. Ларис тогда удивлялась: почему, когда появляются миротворцы, начинается война? Каска была голубая и почти новая, она понравилась женщине. На ней было написано «ООН». С обратной стороны Ларис написала – «Лариса Кабикян», чтобы каска не потерялась.
Однажды во время боя пуля попала в шлем Ларис. Голубая каска спасла ей жизнь. Ларис перекрестилась и сказала:
– Бог, спасибо тебе, что спас мою жизнь.
В этом же бою через час еще одна пуля попала в каску Ларис. И опять не пробила ее. Ларис снова перекрестилась и сказала:
– Бог, спасибо тебе, что опять меня спас. Прошу тебя, никуда далеко не уходи.
С тех пор Ларис считала эту каску счастливой и всегда носила ее.
Однажды Ларис ночью перевозила раненых, женщин и детей. На большом грузовике их везли в госпиталь. Вдруг на ночной дороге появились фигуры с автоматами. Они остановили машину. Это были, как их тогда называли, «фашисты» – мародеры и убийцы непонятно какой национальности; ходили они в масках и воевали сами за себя, убивали всех, у кого можно что-то отнять. «Фашистов» было трое. Они были пьяные. Сначала они направили на машину автоматы, заглянули в кузов, увидели, что в ней нет вооруженных людей, а только раненые. Тогда «фашисты» расслабились и приказали всем женщинам выйти. Они хотели забрать женщин, потому что ничего больше ценного в машине не было. Пока «фашисты» обыскивали и облапывали первую женщину, которая вышла из кузова, Ларис вдруг выпрыгнула из машины, подскочила к ним сзади с пистолетом в руках и гаркнула:
– Убью, ложись, я смертница!
Трое «фашистов» ни к нападению смертницы, ни к гарку Ларис не были готовы. Они упали на землю. Ларис быстро забрала у них автоматы. Потом женщины связали бандитов поясками от халатов и шнурками. Все это время «смертница» Ларис держала «фашистов» под прицелом. Как раз в это время мимо ехал патруль абхазов. Патруль даже развязывать мужчин не стал. По ним выпустили магазин из «калашникова». Ларис не стала смотреть, как их убивают, отвернулась.
Потом, в машине, когда поехали дальше, Ларис сказала женщинам:
– Как хорошо, что «фашисты» не заметили, что пистолет у меня синенький.
Когда машину остановили, рядом с Ларис сидел маленький мальчик. Ларис тихо сказала ему тогда:
– Дай мне сюда.
И взяла его синий игрушечный пистолет. Угрожая игрушечным оружием, Ларис победила «фашистов» и спасла жизни женщин – их бы всех убили, после того как надругались.
Однажды Ларис попала в страшный бой. Две небольшие группки людей – в каждой было человек по тридцать, не больше, – но вооруженные всем, чем только можно, просто измолотили друг друга на узкой улице. Бой стих не потому, что кто-то победил. Просто убиты и изувечены оказались все до единого. Все, кто был еще жив, страшно кричали:
– Не стреляйте! Передышка! Передышка!
Ларис сначала вытащила, как могла, всех своих. Перевязала. Но раненные с другой стороны тоже страшно кричали. Тогда Ларис в своей голубой каске переползла на другую сторону поля боя и там перевязала и «тех, других» – раненых грузин. С этого дня «бабка в голубой каске», как стали ее называть, много раз переходила через линию фронта, и никто не стрелял в нее – все ее знали. Она участвовала в организации обмена телами убитых и пленными и даже в переговорах двух воюющих группировок.
Когда война вдруг прекратилась, так же внезапно, как началась, опять появились миротворческие силы. Они появлялись или до, или сразу после войны. Из черного джипа вышел элегантный иностранец в очках – он был главой миротворческой миссии – и стал спрашивать у окруживших его пыльных людей в камуфляже, где найти представителя местной власти. И тогда один дед иностранцу сказал, что местной власти пока вроде не видно, но можно поговорить с Ларис.
Иностранец спросил у деда:
– Ларис – это кто? Мэр?
Дед ответил:
– Не знаю, мэр, не мэр, у нее спросите.
Когда иностранца привели к Ларис и он увидел испуганную неожиданной встречей бабушку в голубой каске, в белом халате с красным крестом поверх домашнего халата в цветочек, в синих спортивных штанах и черных мужских военных ботинках, глава миротворческой миссии был удивлен.
– Он никогда раньше не видел такого «мэра»! – смеялась Ларис, когда это рассказывала. – Он вообще раньше, бедный, много такого не видел, что увидел у нас.
Голубая каска с двумя вмятинами от пуль и надписью «ООН» у Ларис, как оказалось, до сих пор есть.
– Очень хорошее ведрышко, – сказала Ларис Антону.
После войны Ларис приделала к каске удобную ручку, и теперь, когда приходит осень, собирает в нее урожай. Голубая каска ООН в хороший год теперь полна оранжевой спелой хурмы.
Больше всего Ларис горевала из-за соседей, которых она так любила и которых убили во время войны. Грузины убили Киракоса Тополяна, колхозника, старика, за то, что у него фамилия Тополян – как у члена правительства Абхазии.
– Он, бедный, кричал, что он колхозник, а не член правительства, – вспоминала Ларис, – а его все равно убили. Георгия Мартикяна тоже убили. Он был кофевар самый лучший. Как варил кофе этот человек! Никто так не варил. Его убили. А тело долго не отдавали. А у него был брат – епископ армянской церкви на Балканах, большой человек. Он сам попросил Шеварднадзе: «Скажи грузинам, пусть отдадут тело моего брата, кофевара Георгия». Шеварднадзе сказал грузинам. Тело отдали, без уха, с поломанными ногами. Ой, бедный человек, как он мучился перед тем, как умер. Такой кофе, как он, никто до сих пор не делает. А Володя Бигвава, абхаз, такой хороший был человек, добрый. Его застрелил Гаврош. Такой был мальчик. Не знаю, кто по национальности. Помогал гвардейцам, грузинам. Убивал всех, кого скажут. Пятнадцать лет ему было, а зверь – не человек. Гаврош повел Володю на пляж и застрелил. Там его и закопали, прямо на пляже. А потом через три дня бедного Володю опять гвардейцы выкопали для обмена. Поменяли его на своего убитого. Вот так намучился бедный Володя Бигвава. Что потом с этим Гаврошем было, не знаю. Может, убили его, а может, живет. Как он живет?!
А Беслана Тарба, он жил в Очамчире, абхаза, убили за то, что он сказал, что он абхаз. А Кумфу Авидзба, 75 лет ему было, били, кололи ножом, а он говорить не мог, бедный, он был глухонемой, он руками и глазами так умолял, чтобы его не трогали. А Бжания? Такой человек был, пенсионер, мудрец был, знаток абхазского фольклора, столько сказок знал, что хочешь знал: в дом к нему вошли, заставили старика выпить ядохимикаты, которыми он сад опрыскивал, бедный, умер, кто теперь такие сказки знает?! Артил Мелконян, бедный, 106 лет ему было, били, сломали руки и ноги, потом застрелили, 106 лет человек прожил, и так умер…
Так рассказала Ларис Антону. Никогда раньше Антон Рампо не знал этих людей, не слышал этих имен, не знал, как они жили, все эти люди, и как они умерли. Но ему, как и Ларис, было их очень жалко.
Ларис сказала:
– Золото, все из-за золота. Бандиты говорили: «Отдайте все золото, что имеете, тогда не убьем вас». В одном селе выкопали яму бульдозером, туда старух, малолетних детей бросили, а мужчин заставили засыпать их землей. Когда земли стало выше пояса, сказали: «Принесите деньги, золото, а то всех закопаем живыми». Всё село было там, оф, такой стоял крик, дети падали на колени, просили не закапывать их, дети из ушей сережки снимали, а сколько там золота, у детей в ушах? Все золото, что было в селе, все до последнего грамма забрали и тогда отпустили всех из ямы. Это же не люди. Это же дикари. В Сухуми приехали к театру на танке. Водку пили, стреляли по театру, по композиторам, на фасаде такие портреты хорошие были, эти композиторы сто лет назад жили, один из них Моцарт был, он, вообще, в чем виноват, он даже был не абхаз. Потом в театр зашли, нашли там бурки, в бурках на танках танцевали, кричали, пели. Дикие люди. А «Мхедриони» – эти вообще. Батальон такой был, по-грузински «мхедриони» значит «всадники». Раньше что всадники делали? Против врагов воевали, людей защищали, а эти «всадники» что делали? Людей убивали. У них униформа была: джинсы, пиджаки и очки темные, даже если дождь шел или зима, все равно в очках ходили, чтобы их не узнали потом, после войны, потому что они что хотели творили. В Сухуми выпустили сто обезьян из питомника, сказали: «Вот, эти павианы – абхазы, пусть бегают, пусть у них будет независимость». Эти павианы, бедные, больше людьми были, чем они. Что они творили, эти «всадники», не могу вспоминать…
Потом абхазы побеждать стали. И что начали делать, тоже, ой, Боже мой… В одном селе на столбах повесили пятьдесят грузин. В парке культуры и отдыха убили четыреста грузин. Главврача туберкулезной больницы, грузина, Шота Джгамадзе – такой хороший врач был – на глазах у родных расстреляли, а за что? За то, что людей лечил? В этом же театре, где Моцарта расстреляли, убили Теймураза Жвания, Гурама Геловани. Актеры были. А за что? За то, что грузины. А они не воевали. Бедные люди в театре играли как могли. В деревне Камани убили сванов. Монастырь там был. Монашек изнасиловали и зарезали, а священник там был – отец Андрий, такой хороший человек был, грузин, – его поставили на колени, спросили, кому принадлежит Абхазия. Он сказал: «Абхазия принадлежит Богу». Его убили…
Потом Антон узнал, почему в могиле Ардаваста, отца Ларис, нет Ардаваста. Отец Ларис, который ходил с пулеметными лентами крест-накрест, никогда ни в кого не стрелял. В войне он не участвовал. У Ардаваста была кавказская овчарка, Арго. Она лаяла на танки, когда грузины пришли, не со злости лаяла, просто тоже танков боялась, наверное. И ее застрелили из автомата.
Ардаваст сказал тогда:
– Абхазия называется «страна души». Где же душа у этих людей?
Он закопал собаку в саду. А через неделю умер. Перед смертью просил закопать его рядом с собакой. Что будешь делать? Последняя воля. Там и закопали его, рядом с собакой.
Вторую могилу Ардавасту сделали уже после войны. В деревне, где теперь Ларис живет, – чтобы было, куда приходить на Пасху. Так у Ардаваста стало две могилы. И обе – с собакой. Одна собака с ним рядом, в земле, в Абхазии. А другая на мраморе, на Аибге. Памятник Жока сделал, как всегда, – от души.
– Хорошо, что бурдюком не надо было душу Ардаваста ловить, – сказала еще Ларис.
Антон не понял, и Ларис ему объяснила. В Абхазии во время войны у моста через реку Гумисту много дней шли бои. Многие, кого убивали, падали в реку. Гумиста их уносила. А куда? В море. Куда еще может людей уносить река. А родственникам после войны куда приходить? Тогда родственники пришли к реке с бурдюками из желудков ягнят. Ими души погибших ловили. И бурдюки хоронили уже.
– Что еще хоронить? Только душу. Бедные люди, – сказала Ларис.
Во время войны из Абхазии все бежали в Россию. Это было самое близкое безопасное место, куда можно было бежать. На границе было столпотворение. Пожилые люди умирали, пока ждали, когда их пропустят. Некоторые добрались до пограничной Аибги. Там остались. Так здесь стали жить Ларис, Азганка, Серуш, Самвел, и другие. Абхазы, те, что жили от Грузии близко, боялись, снова будет война – тоже с мест снимались, жались ближе к России. Потом из Карабаха люди бежали, из Сумгаита, из Чечни, Артуш убежал вообще из Эчмиадзина. Так появилась деревня беженцев. В ней теперь жил Антон. Беженцы – это такие люди, которые хоть раз, а многие и не по разу, потеряли все, что в жизни имели, взяли с собой только паспорта и детей и пошли неизвестно куда.
– Кто-то потом возвращался, – сказала Ларис. – Абхазы вернулись, грузины даже, кто не воевал, конечно, вернулись в Абхазию, а как теперь жить будут? Опять будут соседи, грузины с абхазами? Я не могу. Как буду жить рядом с теми, кто убивал твою мать, или брата, или сестру? Как в парке культуры и отдыха теперь будешь гулять? Где людей убили и закопали? Какой там может быть культурный отдых, скажи? А в огороде своем, как там буду работать? Где сама под хурмой закопала жениха и невесту, как буду кушать эту хурму, что должна думать, когда буду смотреть на нее? А эти? Как живет этот Гаврош, если только его не убили? Были хорошие люди, потом стали дикие люди. Потом что, опять стали соседями? Нет, есть люди, живут, как будто забыли, пьют, курицы жарят. А я не могу. Почему люди такие? Если бы могла знать… Я была бы не медсестра, а министр иностранных дел уже! – Ларис рассмеялась. – Не знаю, сынок. В горах темнеет раньше. Наверное, из-за этого. А бедный Альберт мой не воевал и не погиб, слава богу. Он мне сказал: «Ларис, не могу убивать людей, не знаю, как спать потом буду, если человека своими руками убью». А я ему сказала: «Оф, Альберт, и не убивай, не воюй, я тебя очень прошу, из нашей семьи хватит, что уже я – герой войны». Ну, его все равно на войну отправить хотели, но потом война кончилась, слава богу, мы сюда пришли, стали тут жить. Дом построили новый, маленький сначала, еле-еле в нем Альберт и я помещались, потом побольше, потом верандочку сделали. А потом мы с Альбертом в один день поехали утром в магазин за картошкой, свеклой и еще кое-что я купить хотела, а это было утром, рано, магазин еще был закрыт, двадцать минут еще было, пока откроется, и мы в машине сидели с Альбертом, он газету читал, а я ничего не делала, просто думала, так я люблю подумать иногда про разные вещи, где что посадить, как лучше сделать, а потом магазин открыли, мы купили картошку, свеклу и еще кое-что и домой поехали. А дома Альберт мне говорит: «Ой, Ларис, что-то нога болит, и в глазах как будто что-то не то, темно. Кажется, я умираю». Я говорю ему: «Альберт, ты что, смеешься? Что ты говоришь?», а он сознание потерял. У него тромб был в ноге, оторвался. В сердце попал. Пока «Скорая» ехала, умер мой бедный Альберт. Столько родственников было, оф, не знали, куда посадить всех, тогда сын мой Абушка был здесь, не в Америке, он тогда сказал, что дом этот сломать надо, маленький дом. А я думаю: если бы я знала тогда, если бедный Альберт мог знать, что умрет через час, даже меньше, что бы мы делали? Разве сидели бы так двадцать минут, пока магазин не открылся? Наверное, нет. Но откуда ты знаешь, когда умрешь? Не знаешь. Так и сидели. Он газету читал. Я молчала, думала про рассаду. Почему Бог мне не сказал, чтоб я не молчала, чтобы спросила что-нибудь у Альберта, а теперь как спрошу? Оф, Господи, прости, что я так говорю…
Антон слушал Ларис и представлял, как сидят в машине она и Альберт. Он газету читает, а Ларис думает про рассаду и улыбается.
У Ларис после смерти бедного Альберта появилась белая прядь в рыжих волосах. Ларис прошла всю войну, такое видела, что не дай бог, и не поседела, а когда бедный Альберт умер, сразу стала седая. После Альберта осталась, конечно, не только белая прядь – остался дом, виноградник, алабай Том в будке и сын Альберт в Америке, и внуки. Ларис переживала, что внуки уедут в Австралию.
В этот же день, когда слушал рассказы Ларис о войне, Антон попал на ужин в семью Сократа и Аэлиты. Днем в «военный санаторий» зашла Аэлита, чтобы сказать, что скоро в дом к ним придет врач, который поможет Антону все вспомнить. Врача Аэлита очень хвалила, потому что когда Сократ был маленький – для Антона это странно звучало, ведь Сократ и сейчас не был большим, ему было семь лет – он на охоте вывихнул ногу и сильно хромал, и Аэлита боялась, что он так на всю жизнь и останется хромой. А врач пришел, посмотрел на ногу Сократа, покрутил немножко, дернул, и нога у Сократа прошла. Через три дня опять пошел на охоту.
Антон отправился с Аэлитой на встречу с врачом. По пути через деревню они столкнулись с Гамлетом, Нагапетом и Карапетом. Они ехали втроем на «уазике» с открытым кузовом и толстыми дугами, обмотанными синей изолентой. Гамлет весело спросил Антона, глянув на Аэлиту:
– Что за движения?
– Гуляем! – вместо Антона весело ответила Аэлита.
– Я смотрю, ты выздоровел? – засмеялся Гамлет и сказал Антону: – Смотри, аккуратно, не заболей обратно, у нее брат дзюдо занимается.
Гамлет, Нагапет и Карапет засмеялись.
Потом Карапет, указав на «уазик», за рулем которого сидел, сказал Антону, несколько даже хвастливо:
– Кабриолет!
– Да, – кивнул Антон, с удовлетворением осмотрев машину. – Вижу.
– Все навороты имеет, – сказал Карапет, которому все-таки хотелось более подробно похвастаться, – полный фарш. Чехлы – кожа. Руль – каштан. DVD, USB имеет, не знаю, мне зачем, но пусть будет. Крыша съемная. Зимой могу дуги снять, крышу поставить. Мосты военные. Амортизаторы военные. Вечный.
Антон кивнул, хотел как-то похвалить удачную покупку Карапета, и в этот момент откуда-то вдруг из его памяти выпрыгнуло это слово:
– Бомба! – сказал Антон про «уазик».
Карапет был польщен. А Гамлет сказал про Антона Аэлите:
– Молодчик. Переопылился пацан.
И засмеялся. Они поехали дальше.
Антон был немного смущен и подумал, что выглядит глупо, гуляя с Аэлитой по горской деревне в пиджаке покойного бедного Альберта. Но Аэлита сказала:
– Покушаете у нас. Вы же у нас дома не были.
Прошли по абхазской деревне, которая только отчасти была похожа на деревню армян. Дома были поменьше размером и редко в три этажа – чаще в два или вовсе в один, – и навесы, и веранды у дома были поменьше или совсем крохотные, и у дома не стоянка, а лужайка, а посредине нее одно дерево или два, и детские качели, подвешенные к ветке дерева. Получалось, что армяне больше заботятся о взрослых, а абхазы – о детях. Абхазов меньше, чем армян, занимал пафос быта. Заборы вокруг домов были ниже и кривее, лестницы, ведущие в дом, – короче и не такие аккуратные, многие – деревянные, и одна ступенька на лестнице – поломанная: во многих домах почему-то одна ступенька была поломана, и это явно никого не смущало, из тех, кто сто раз за день по ней ходит. Окна во многих домах были разные – два окна, например, старые, деревянные, а два – стеклопакеты. И стены разные, например, две стены дома недавно покрашены, а две другие – покрашены лет пятнадцать назад. Была во всех домах абхазов незавершенность и асимметрия – конечно, не такая, как в доме дяди Эдика, до него никто из абхазов не дотягивал. Но и чрезмерной аккуратности и домовитости армян у абхазов тоже не наблюдалось. Было как-то сразу понятно, что у абхазов до многих деталей пока не дошли руки и не дошли ноги, ну или просто абхазы понимают, как коротка эта жизнь и как жаль тратить ее на детали. Было понятно, почему долгожителей больше у абхазов, чем у армян, о чем Антон слышал от Ларис. Потому что дольше живет тот, кто тратит время на главное, пренебрегая суетой. Версия Аэлиты на этот счет была еще проще. Антон спросил Аэлиту, когда они шли по деревне:
– Как ты думаешь, почему абхазы живут так долго?
– Потому что им это нравится! – засмеялась Аэлита. – Знаешь, что больше всего любят абхазы? Любят в нарды играть. Любят чачу. Любят на внуков смотреть. Любят внуков ругать, что ничего не умеют. Любят деревья ругать, что мало урожая приносят. Любят гусениц ругать, что их отрава не берет. Любят собак ругать, что не лают, когда чужие приходят, а когда свои приходят – лают. Мамалыгу любят еще. Аджику любят… Поэтому долго живут.
Миновав дома абхазов, дошли до низеньких ворот, у которых Аэлита сказала:
– Мы тут живем. Заходите.
И, повозившись немного, открыла калитку, которая была заперта на гвоздик. Дом и двор удивили Антона тем, что все здесь было немного по-другому, чем у армян или абхазов. Двор был большим, больше, чем у абхазов, и даже больше, чем у армян. Весь двор занимала лужайка, не слишком ухоженная, и если бы не деревянный стол с двумя скамейками, она была бы похожа на солнечную поляну на окраине леса. Каких-то хозяйственных построек, кроме единственного маленького кривого сарайчика, не было видно. Дом в глубине этой поляны был даже меньше, чем у других абхазов, он был глинобитным, очень старым. Черепица на крыше выцвела от тысяч дождей, и на ней в одном месте, в тонком слое земли, застрявшей в стыках черепичных чешуй, росли пучки ярко-зеленой травы с желтыми, белыми и голубыми цветочками.
К дому вела лестница, она не была поломанная. Она была не из кирпичей или шлакоблоков, как у армян, и не из досок, как у абхазов. Лестница в доме Аэлиты была сложена из крупных прямоугольных камней, подогнанных друг к другу плотно и отшлифованных ногами, ходившими по каменным ступенькам за многие годы. Антон спросил:
– Сколько лет вы тут живете?
– Давно! – весело отозвалась Аэлита, переобуваясь на пороге.
Аэлита быстро прошмыгнула по отшлифованным камням в дом, Антон прошел за ней.
К этому времени Антон успел побывать в доме Ларис и в домах еще нескольких соседей-армян. В доме Аэлиты с Сократом все было совсем не так, как у них. Не было ковров, диванов, бархатных штор на окнах, не было телевизора и DVD – у Ларис, например, были – Ларис любила русские и индийские сериалы. Не было шкафа с хрустальной посудой и бутылками коньяка для гостей, не было фотографий живых и умерших родственников, которые в доме у Ларис составляли две отдельные экспозиции: живые стояли отдельно от мертвых, при этом фотографии мертвых выставлялись даже с большим почетом, в окружении ваз с цветами и батареи бутылок вина и коньяка. Всего этого в доме Аэлиты не было. Все было очень просто, даже бедно, но аккуратно, обстановку можно было назвать спартанской или даже походной. На кухне, однако, Антон, пройдя вслед за Аэлитой, все же обнаружил некоторое сходство с кухнями армян. Здесь стоял современный холодильник, правда, он не был усыпан магнитиками с видами Еревана, как у армян. На стенах и деревянных шкафах висели связки сморщенных тонких красных перцев и голубовато-белого крупного чеснока. На кухне Аэлита молниеносно накрыла стол, налив очень горячее и очень пахучее первое блюдо:
– Чхртма сделала. Я люблю чхртма. А вы?
– Не знаю, – смущенно сказал Антон. – Вкусно пахнет. А это из чего?
– Из всего, что было, – засмеялась Аэлита. – Ларис научила. Но я немножко по-другому сделала. По-нашему.
– По-абхазски? – улыбнулся Антон.
Аэлита кивнула, но ничего не ответила. Потом сказала:
– Артуш кюфту делает. Ларис тоже кюфту делает, по-армянски. Я делаю по-нашему, по-другому немножко. А Артуш вообще не так готовит. Как сметана получается у него, и такая вкусная, вообще. Артуш бозбаш эчмиадзинский сам делает. Он же сам эчмиадзинский. Никто так бозбаш не готовит. Даже Ларис не может, а он ей не говорит, как делает, а Ларис обижается, говорит: «Эчмиадзинцы всегда нос высоко держат, потому что католикос всех армян в Эчмиадзине живет».
Антон попытался попробовать первое блюдо, которое Аэлита назвала чхртма, но суп был очень горячий и очень острый, так что после первой же ложки Антону показалось, что во рту у него горит бензин.
Аэлита засмеялась, глядя на Антона, и сказала:
– Горячий, да? Я люблю горячий чтоб был. Сократ тоже любит.
Вторую тарелку Аэлита налила себе.
А потом налила третью тарелку. И сказала:
– Сократ говорит, вы не можете… А я думаю, может быть, сможете. Я вас Ибрагиму покажу.
– Кому? – спросил Антон, улыбнувшись.
Вместо ответа Аэлита скрылась в соседней комнате. А потом опять появилась.
Перед собой она катила старика. Сидел он в самодельной каталке, собранной из плетеного кресла и колес от велосипеда.
Вид у старика был такой, что Антону захотелось привстать, и он это сделал. На голове у сурового дедушки была черная, низкая и очень старая каракулевая папаха. Старик был древний, но глаза у него были живые, насмешливые. У него была белая борода, густая, длинная.
– Это Ибрагим, – сказала Аэлита.
Старик в самодельной коляске приподнял правую руку и царственным жестом указал на стул, на котором до этого сидел Антон.
– Садитесь, говорит, – сказала Аэлита.
Антон снова сел на стул. Аэлита придвинула Ибрагима к столу, поставила ближе к нему тарелку. Но Ибрагим некоторое время сидел и смотрел на Антона. Антон тоже не стал есть и смотрел на старика в ответ. Потом Ибрагим указал на себя сухим длинным пальцем и сказал:
– Ажы.
Потом этим же пальцем указал на Антона и сказал добродушно:
– Туа!
– Говорит, я старый. Ты молодой, – перевела Аэлита.
Антон кивнул и улыбнулся Ибрагиму вежливо.
Ибрагим взял ложку и с аппетитом съел несколько ложек раскаленного острого супа. Потом указал взглядом на тарелку Антона и сказал Антону более длинную фразу на языке, похожем на птичий. Аэлита засмеялась и перевела Антону:
– Говорит, делай, что старики говорят, а кушай, что молодые готовят.
Потом Ибрагим указал на Аэлиту и сказал:
– Туа!
– Я молодая, – весело перевела опять Аэлита.
Ибрагим кивнул и опять стал есть.
Антон тоже стал есть. Было горячо и остро, но он мужественно съел пару ложек, не подав виду, что во рту опять запылал бензин. Ибрагим поесть явно любил и ел с аппетитом. Аэлита посматривала с улыбкой на Антона. Потом сказала:
– Я вам скажу, Ибрагим разрешил вам сказать. Ибрагим – убых. Сократ тоже убых. Я тоже убыхская женщина, – Аэлита смущенно опустила глаза. – Ну, девушка.
– Вы, значит, не беженцы? – осторожно спросил Антон.
– Нет, – засмеялась Аэлита. – Мы местные. Самые местные. Мы тут жили всегда.
Антон вспомнил отшлифованные камни лестницы, ведущей в дом. И спросил:
– И… сколько лет вы тут живете?
– Ой, не знаю, тысячу, две, да, Ибрагим? – деловито обратилась к старику Аэлита по-русски.
Старик перестал есть, поднял глаза на Антона, потом указал на себя и сказал с гордостью:
– Пэх.
– Убых, – перевела Аэлита. – Пэх по-нашему значит «река», течет. А что еще может делать река! – Аэлита засмеялась. – Не будет же на месте сидеть, ждать, когда ее в море отнесут на руках! Мы убыхи, народ Аублаа, мы всегда жили здесь, с тех пор, как стал мир. Мы жрецы. Абхазы наши родственники. Мы с абхазами от двух родных братьев пошли. Вообще все люди от братьев пошли. Все люди родственники, от двенадцати братьев все люди родились, Ибрагим говорит.
Аэлита кивнула на старика.
Так Антон узнал, что не только все армяне, но и вообще все люди родственники. Так утверждал Ибрагим, а вид старика сразу почему-то заставил Антона ему верить.
Потом Аэлита убрала пустую тарелку Ибрагима – раскаленное первое блюдо он съел удивительно быстро, вместе с двумя большими кусками хлеба. Тут же Аэлита поставила Ибрагиму второе – мясо с зеленью. Ибрагим что-то требовательно сказал на птичьем языке. Аэлита сначала возразила, но Ибрагим так сердито, коротко что-то сказал, что Аэлита только что-то жалобно прощебетала в ответ. И выставила на стол бутылку чачи. И два стаканчика.
Чачу Ибрагим налил Антону и себе. Антон не отказался и даже обрадовался.
Аэлита, пока мужчины собрались выпить чачи, пошла кормить Кучку. Молодой жрец, дедушка Аэлиты и Сократа, Кучка Аублаа, после того как принял на себя все горе людей, месяц лежал, тяжело болел. Все это время его кормила Аэлита. Старым жрецом раньше был Ибрагим. Он перестал быть жрецом, когда после очередного принятия на себя всего горя мира у него отнялись ноги и он не смог встать. Ибрагим проводил обряды сотворения мира почти столько же лет, сколько было Кучке теперь. Кучке Аублаа было 93, и он считался молодым жрецом. Аэлита кормила его с ложечки.
В это время Антон с Ибрагимом выпили по маленькому стаканчику чачи. Девушка, покормив Кучку, вскоре вернулась. Немного осмелев от чачи, Антон стал расспрашивать Ибрагима и Аэлиту про убыхов. Они ему рассказали историю своего рода. Рассказ был длиннющий и сказочный. Первого убыха звали Ахун. Когда он родился – был большой, как гора. Родители его сказали: «Где возьмем люльку для такого сына, что будем делать?» А убыхи все были высокие и красивые, а в талии очень тонкие. И нога у них была маленькая. А осанка у них была как у Аякса. Аэлита сказала, что Аякс – это древний убыхский воин.