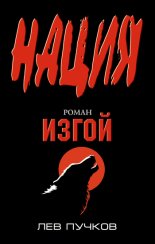Система (сборник) Покровский Александр
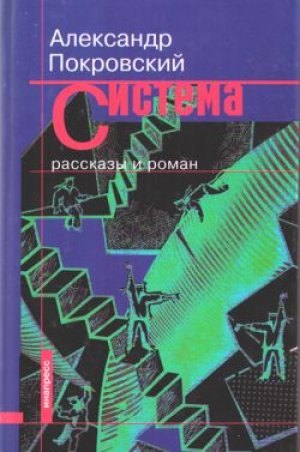
Грубейшая ошибка, я вам доложу.
Следующим у нас был Сан Саныч Раенко, наш Санчо.
Насчет разума у капитан-лейтенанта Раенко можно было спорить с кем угодно, но только не с самим Раенко.
За ним сразу же и прочно закрепилась кличка «Тихий ужас».
У человека только две голосовые связки, и капитан-лейтенант Раенко ими творил настоящие чудеса. Он мог перекричать ураган, а сила эмоций, которые он вкладывал в разговоры и команды, способна была сдвигать с места даже каловые камни. Причем неожиданно.
Представьте себе лицо, безжалостно изрытое оспой, подергивающиеся щеки, вздрагивающие губы, глаза со зрачками серого, а иногда и желтого цвета, которые, в процессе общения, казалось, выкатываются из орбит за счет высоко вздергиваемых бровей, что лезут вверх чуть ли не до корней волос, легко собирая лоб в гармошку; и то, что во время разноса меняется тембр голоса от обычного до непомерно высокого, при невиданном росте его мощи; когда это уже не голос, а рык; и глаза эти смотрят не тебе в глаза, а постепенно взбираясь по твоему лицу все выше и выше в какую-то точку у тебя на лбу – отчего-то хочется за ними следовать, для чего даже приподнимаешься на цыпочки. Представили? Ежа родить можно.
Некоторые рожали ежа. Рафик Фарзалиев при докладе о том, что за «время вашего отсутствия никакого присутствия» так трясся, что вызывал в нашем доблестном командире что-то вроде сострадания, которое выражалось в скривленном, брезгливом выражении лица, глаз, рук и ног.
А некто, назовем его курсант Кудрявый, не то чтобы просто обкакивался, а прямо-таки обсирался, этого не замечая. Командир его, стало быть, трахает с помощью речи, и тут он, командир, вдруг начинает принюхиваться, как доберман пинчер.
– Вы что? ОБОСРАЛИСЬ?!!
– Так точно!
И Кудрявый вылетает из командирского кабинета и бегом, зажав обе штанины, чтоб на палубу не выпало, своеобразными скачками до гальюна и там, сорвав с себя штаны, совершенно не обращая на окружающих никакого внимания, сперва моет их остервенело, а потом и себя, и кафель под собой – это, я вам доложу, эпоха!
А нашего дурака Дунчука он в первый же день арестовал на пять суток – строй заледенел от того крика.
У Сан Саныча это называлось «вырабатывание командного голоса».
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В училище несколько раз приезжал Алиев Гейдар Алиевич. Первый секретарь компартии Азербайджана.
Очень он любил моряков. Ходил по территории в окружении свиты и улыбался.
Потом он обязательно выступал перед курсантами в клубе.
Потом он нарезал училищу дополнительную территорию. У нас было самое большое училище.
Весна в Баку начинается с запаха. Тополя приоткрывают почки, и это их запах. А еще ветер приносит свежесть полевых цветов.
С приходом весны торговцы зеленью на Бакинских базарах кричат громче.
Через много лет я буду при всплытии подводной лодки жадно нюхать воздух. Я буду торопиться, глотать слюну и нюхать, нюхать.
Воздух – это сладко, сладко, сладко.
Легкие при этом работают, как хорошие меха.
На первом курсе нашу роту поделили. У дозиметристов завелся собственный командир Оджагов по кличке Джага. Он говорил: «В каждом тумбочке гадюк квакает».
У дозиметристов было только два взвода или класса.
У нас их осталось три: один радиохимический – где были мы, и два класса общих химиков, которые, по нашему мнению, не отличались кругозором и хорошим средним школьным образованием.
Мы их называли «всё в общем, ничего конкретно».
У нас командиром остался все тот же капитан-лейтенант Раенко Александр Александрович – «пятнадцатилетний капитан».
«Я – пятнадцать лет «товарищ капитан-лейтенант!!!» – любил он криком повторять.
И еще он говорил перед строем: «Если человека кусает энцефалитный клещ, то он или умирает, или становится идиотом! Так вот меня кусал энцефалитный клещ!!!» – вот такой разговор, если только это разговором можно назвать.
Частенько он восклицал: «Саша! С кем ты служишь?» – и это относилось к нам.
И еще он говорил: «У меня кожа на роже стала, как на жопе у крокодила!!!»
Вам смешно? Мне – нет. Никому из нас не было смешно.
Это его выражение, а так же мои личные столкновения с «Тихим ужасом», нашли свое отражение в рассказе «Мазандаранский тигр» – я был тогда маленький, совсем младой и сильно принимал все близко к мочевому пузырю.
Не скажу, что он – это я о командире – все время нас держал в страхе, просто потом мы к нему привыкли, приноровились, притерлись.
Немало этому способствовало бесконечное стояние в строю.
Чем еще в строю заниматься, как не наблюдать за поведением начальства – ты наблюдаешь, отмечаешь каждый поворот головы, каждое слово, жест, выражение, анализируешь, стараешься предугадать направление главного удара, чтоб избежать и уклониться.
Благодаря этому ты просто не попадаешь потом под горячую руку. Ты ее огибаешь, знаешь все па, уходишь в тень, растворяешься, принимаешь форму баночки, табурета, застываешь, как выпь по росе, и беда проходит мимо. Она тебя просто от травы не отличает.
Но чужим с Раенко было плохо. Их он отличал от травы. «Как вы с ним служите?» – спрашивали нас курсанты из других рот, а мы делали себе выпуклую грудь и говорили: «С тигром можно жить. Удовольствия, правда, мало, зато страху до хуя!»
Удивительно, но Сан Саныч Раенко, будучи человеком в высшей степени красноречивым (хорошо сказал), совершенно не ругался матом.
В училище, кажется, никто не ругался матом – я имею в виду командование и преподавательский состав.
Правда, великолепно ругался Вася Смертин, но он был начфаком у штурманов, а значит не в счет.
Даже старшины на младшем курсе не употребляли, вперемешку с командами, ничего такого – все было по уставу и на «вы».
Между собой мы, конечно, отводили душу, но тоже как-то не очень.
Это потом, на флоте, я вдруг услышал, как капитаны первого ранга ругаются на пирсе этим народным языком.
А после я услышал, как адмиралы ругаются – и это уже как-то успокоило, вернуло к корням, если так можно выразиться.
А то, что в училище женщины на камбузе использовали мат как средство общения, так это для меня не было неожиданностью, я слышал, как разговаривают грузчицы.
Остальные, видимо, никогда с народом так близко, как я, не общались, и на первом курсе, в хозподразделении, когда надо было одним взводом ночью чистить три тонны картошки, вздрагивали, услышав голос Вали, старшины варочного цеха, распевающей на раздаче: «Девчу-ушки!.. Бляду-ушки!.. Все ко мне!.. Живенько! Поскакали-поскакали!»
А если кто на камбузе на официанток слишком засматривался, то вполне мог услышать: «Ой, курсантик, не смотри ты так! В меня, сердешную, вкачали спермы больше, чем ты за всю жизнь киселя выпил!» – от этого можно было на какое-то время остолбенеть, поблевать киселем, чем многие и занимались – столбенели и блевали, особенно если подсматривали в дырочку на двери в женской душевой.
Алюминиевые миски-ложки-вилки, эмалированные кружки. Тарелки, стаканы, графины – только на пятом курсе. Тогда же ложки и вилки из «нержи» – нержавеющей стали.
А в хозподразделении мы должны были глазки в картофеле вырезать, потому что кожуру снимала специальная машина. В первый раз все потрогали пальчиком ее шершавые внутренности.
Включи ее вместе с пальчиком внутри, и от него останется только «дзинь!»
Глазки можно было вырезать хоть до четырех утра. И можно было гонца послать через забор за пивом на пивзавод.
Рядом с училищем имелся пивзавод и там, в специальном месте у забора, торговали ворованным пивом. Пиво тащили в училище глухими ночами и выпивали его ведрами, потому что в ведре его носить было очень удобно.
Чаще всего это происходило именно во время чистки картошки на камбузе или во время экзаменационной сессии – все равно какой, зимней или летней.
Пиво одинаково хорошо пилось в любое время года.
Так, во всяком случае, выглядела легенда.
За пять училищных лет я ни разу не видел, чтоб его пили ведрами. Разве что, может быть, кружками. Вообще-то курсанты, на моей памяти, пиву предпочитали вино «Кимширин» – вот им, действительно, напивались, но не все – кто-то пил умеренно, кто-то вообще не пил.
Например, я не пил. Я считал, что если все курят, то я курить не буду, а если пьют, то я точно буду трезвенником. Потом это у меня прошло – я все еще насчет вина, – но сначала было лихо: «Будешь пить?» – «Не буду». – «Почему?» – «Потому что».
Мне за подобное потом здорово на флоте попадало: «Химик, ты чего не пьешь?» – «Потому что не пью». – «Может, ты нас закладываешь?» – «Может и закладываю. Сказать в какие адреса?» – вот таким я был. Годам к пятидесяти только прошло.
А еще у нас Колесников Юра не пил. Мы с ним сразу подружились. Юру считали убогим и над ним все подтрунивали. Я не подтрунивал.
Юра ходил в строю странной подпрыгивающей походкой, то есть, прежде чем сделать шаг вперед, он подпрыгивал вверх.
И повернуть он мог не в ту сторону и какое-то время идти в нее, когда весь строй идет в другое место.
Сначала Вова Степочкин, как первый старшина нашего класса, пробовал его даже наказывать, а потом выяснили, что Юра так делает не со зла, и его оставили в покое.
Юра слушал пластинки с классической музыкой и читал «Былое и думы», где автор пил доброе старое вино, изменял жене с горничной, после чего у него рождались дебильные дети, а его жена изменяла ему с другом Гервигом.
Никто у нас больше не слушал классическую музыку и не читал «Былое и думы», потому что все и так были классическими мудаками, как долгое время считал Юра. Он даже об этом в дневнике написал, потому что он, естественно, вел еще и дневник, где все описывал, все события и всех нас, и где он давал себе задания как ему себя с нами вести, на кого и как воздействовать и какие средства при этом применять. Дневник этот всенепременнейше нашли и прочли, и Юре это любви не добавило.
Теперь его еще и сторонились, и даже хотели побить, но потом отложили.
После истории с дневником я от Юры тоже отошел, потому что неприятно же, отошел и подружился с Сашей Литвиновым.
Тот был спортсмен и от земли отжимался двести раз – я тоже так хотел.
А еще Саша на перекладине подтягивался очень даже легко – я немедленно стал подтягиваться на перекладине.
В те времена симпатии между нами совершенно неожиданно могли смениться антипатиями, для которых поводом служило все что угодно, ерунда какая-нибудь, но потом, через много лет, ты встречал того человека, с которым разошелся вроде бы навсегда, и оказывалось, что вы так истосковались друг по другу, что вы просто с порога бросаетесь друг другу в объятья и говорите, говорите, перебивая.
Так, через десять лет поле выпуска, я встретился с Юрой Колесниковым.
Он был уже отцом троих детей.
Он попал на Дальний Восток замполитом в стройбат – вот как иногда бывает – а потом оказался в училище начальником курса на иностранном факультете. Он теперь много занимался спортом, и мы с ним бегали на берег моря, что от училища через забор километра за два.
Там, во времена нашей юности, люди из городка загорали, купались, и переодетые в спортивное курсанты знакомились с дочками офицеров и преподавателей, которые загорали тут же и делали вид, что они не видят, что те курсанты просто прыгнули через забор и прибежали к морю.
А теперь эти места пустуют. Мы с Юриком одни, дно илистое, вода теплая.
Тот самый нескладный когда-то Юрик участвовал потом в сумгаитских событиях и голыми руками усмирял убийц. Он мне все рассказывал и рассказывал, а я сидел и слушал и у меня мороз гулял по коже. Я все хотел ему тогда что-то сказать, но слова не шли.
А Саша Литвинов попал сначала на лодки, но там он начал пить, и его списали по каким-то галлюцинациям на берег в службу радиационной безопасности, где он тоже не прижился. Он женился, родил сына.
Я как-то встретил его в нашем северном городке по дороге на службу. Он затащил меня к себе и сразу суетливо стал предлагать выпить, а потом обнял меня и вдруг заплакал.
– Меня тут никто не любит, Саня, никто! Все только следят, – говорил он мне, а я растерянно прижимал его голову к своей груди и твердил: «Тише, Саня, тише, чего ты!»
Саню потом уволили в запас по обнаруженным, в конце концов, шизофреническим явлениям, и он отправился к себе на родину в Среднюю Азию, где сейчас же бросил пить и стал тренером восточных единоборств.
На одной из встреч выпускников нашего курса он даже поднял тост за дружбу, а потом, через год, его убили, сбросили с моста.
Я же его встречал только там, на севере, когда он еще только начинал страдать манией преследования. Больше я его не видел и на той встрече, где он говорил про дружбу, не был.
Саня. Саня однажды здорово пробежал марш-бросок по полной выкладке, с оружием.
Ему отдали автоматы те, кто через три километра уже еле переставляли ноги, задыхаясь, он навесил их на себя, штук десять, и так добежал до финиша, а на флоте вот у него не получилось.
Странно, сильные так быстро ломались.
Через много лет Юра прислал мне листы того дневника.
«… мы с Сашей Туниевым подружились на втором курсе. Скорешевались, как говорит Коля Тонких. А до этого были врагами. У Шурика бешеный темперамент. Он любит поорать, повыступать, повыперндриваться, к кому-то ни с того, ни сего привязаться. Только что ссорились со Степочкиным, и вот уже поют в два голоса: «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела, ты ж мене молодого с ума, с разума свела!» – вот такой человек. Вдобавок ко всему, он стянул с меня во время большой приборки трусы. Выходки какие-то как в детском садике. Но в потоке раз за разом мы оказываемся за одной партой и наряды по камбузу тоже часто стоим вместе, и отношения налаживаются. Начинаю подмечать, что человек холерического темперамента не застрахован от депрессии и самой черной меланхолии. В такие минуты он поразительно беззащитен, нуждается в опоре, поддержке извне. Сегодня он весел. Мы стоим рабочими по камбузу. Только что убрали посуду после завтрака, столы пустые, чистые. Официантка Марина, женщина лет тридцати, плотная, гладкая, стоя на подоконнике, протирает стекло. Юбка у нее задралась, и Саня высказывается по этому поводу: «Мариночка, какие у тебя красивые ножки, и все остальное тоже. Ты меня смущаешь», – я в этот момент отхлебнул киселя. Марина поворачивается от окна и внимательно смотрит на мелкого Шурика.»
То, что Марина потом сказала Шурику, я поместил в начало этой главы.
Юрик после этих слов блевал киселем.
Вот вам еще строчки из его дневника:
«Я вечно стрижен «под жопу». Второй курс. Наши стоят в гарнизонном карауле, а я и Саша Туниев возим им жорево. С тем мы и прибыли на камбуз в это воскресное утро. Холодно, сыро, пасмурно. Только что прошел дождь. Кузов грузовика щедро залит борщом и усыпан перловкой. Термосы с кашей и чаем засунуты под сиденье, мешок с хлебом там же, сахар и масло в бачках, на коленях. В последний момент в кузов заскакивает матрос из кадровой роты. Ему тоже по каким-то делам надо в Крепость. Поехали. Некоторое время едем молча. Матрос спрашивает закурить. Шурик угощает. Слово за слово – затеялся разговор. Матрос выглядит уже вполне оформившимся мужчиной. Он познакомился с теткой лет на пятнадцать старше себя. Но до чего злоедучая попалась, с ней и полчаса не поспишь. Всю ночь мусолит. В конце, кто кого ебет, уже не понятно. Пришлось ей сказать, чтоб готовила стакан сметаны и два крутых яйца, иначе никак. И она готовит. А еще в Крепости есть одна. Ей уже за шестьдесят, но все еще любит «солдатиков» и «матросиков». Говорит, что они для нее, «как святые». Хотите, познакомлю? Ей чем больше, тем лучше. Грузовик въезжает в ворота Крепости, останавливается. Из приоткрывшийся двери гарнизонной гауптвахты появляются раенковцы: жизнерадостный Игошин, основательный Каменчук. Спускаем им термосы, мешок с хлебом, бачки с сахаром и маслом. А вот и Саша Покровский выглянул. Вид у него замученный. Взял термос и ушел. Матроса с машины сдуло, исчез он куда-то. Из дверей гауптвахты показывается «царь зверей» – начальник гарнизонного караула Сан Саныч Раенко. Не удостоив нас с Шуриком взглядом, высокомерно цедит водителю сквозь зубы, чтоб с обедом не опаздывали. Ушел. Лезем обратно в кабину и по пути назад слушаем еще одну историю. Худенький матрос со злым лицом энергично крутит баранку и делится с Шуриком переполняющим его возмущением: «Ну, блядина, ну, лярва! Ты представляешь, нас к ней человек восемь через забор перелезло. Пацаны, кто хотел, по два, по три раза через нее прошли, некоторые на карачках от нее отползали, а ей хоть бы хуй! Лежит и песенки поет: «Ля-ля-ля!» – а еще достала пилочку и ногти себе чистит. Зло взяло на это смотреть!
Взял кирпич и как уебал по чем попало! Завизжала, как свинья! В чем была, ломанулась через кусты! Только треск пошел!» – Шурик слушал с одобрением, я – с плохо скрываемым ужасом.»
Мда… даже не знаю, что сказать.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Саша Туниев – редкостный двоечник и человек дикого армянского темперамента, поступал в училище несколько раз. В очередной раз он просто устроился в училище на работу электриком и, вооружившись лестницей, вкручивал лампочки на иностранном факультете.
Их все время колотили пятикурсники. Они подкарауливали возвращающихся из увольнения арабов и канифолили им морды сразу же после разбабахивания лампочек в кромешной темноте.
На иностранном факультете учились не только арабы, но и вьетнамцы, кубинцы, поляки, немцы, конголезцы, сомалийцы, йеменцы, но попадало только первым.
Арабы – это жители Египта, седого от времени.
Очень состоятельные жители.
Они сначала заканчивали в Америке курсы зеленых беретов, а потом приезжали к нам доучиваться, причем золота у них с собой было прихвачено столько, что они легко скупали всех окружающих женщин, после чего наши пятикурсники полировали им рожи, так как считали тех женщин нашим самым главным национальным достоянием.
После рож обычно происходили смотрины. То есть побитые арабы потом ходили вдоль строя и смотрели в нахальные физиономии наших отечественных курсантов, пытаясь угадать своих вчерашних обидчиков.
К чести арабов, они ни разу не показали на невинных.
Когда наша рота перешла на пятый курс и приняла от предыдущих поколений эстафету бития сынов древнего Египта, случилось следующее: Сеня и Ерегин возвращались под утро из увольнения через забор.
Через забор во времена моего затянувшегося отрочества возвращались только те, кто своим похмельным видом попирал устои общественной нравственности (неплохо сказал); то есть Сеня и Ерегин были не совсем трезвы.
Рядом с забором стояла стайка народа с Ближнего Востока, и среди них угадывалась женщина.
Вдруг она закричала «помогите». Сеня и Ерегин сразу же бросились помогать.
Сене дали ногой по морде, а при росте нашего Сенечки сто девяносто сантиметров и весе сто двадцать, это было еще то зрелище.
Потом эти герои в кабинете начальника училища какое-то время ожидали своей участи. Обоих паршивцев по настоянию все тех же арабов собирались из училища выгонять.
Положение спас начальник училища, в то время – контр-адмирал Глебов.
Он вошел в кабинет, Сеня с Ерегиным встали по стойке «смирно».
– Ну? – сказал Глебов. – Рассказывайте, – и налил им по рюмке коньяка.
Через десять минут общими усилиями нашли единственно правильное решение: арабам объявили, что с их стороны в нашу сторону наблюдалась подлая провокация.
Так что Сеня с Ерегиным стали офицерами только благодаря Глебову Евгению Павловичу.
В Каспийское училище к тому времени попадали или очень умные адмиралы, или адмиралы, красящие училищные заборы мазутом для того, чтоб внезапно устраивать в ротах проверки с показом рук – у кого они в мазуте, тот и находился некоторое время в самовольной отлучке.
И те, и другие ни на какое другое дело в нашем родном военном флоте в те годы уже не были пригодны.
Евгений Павлович Глебов пришел к нам тогда, когда мы перешли на четвертый курс. С его приходом из училища исчез замначальника училища контр-адмирал Дронов, автор идеи с забором и мазутом.
Его отправили служить в Севастопольское училище, где он немедленно испачкал всю ограду, за что курсанты этого училища прислали на адрес нашего телеграмму: «Спасибо за подарок!» – на что наши, вроде, послали им: «Носите на здоровье!»
С приходом Глебова исчезла слежка и сыск. Он имел славу гения и фрондера.
Поговаривали, что он настоящий ученый, не то что некоторые; что он чуть ли не академик и одно время даже занимался космосом, но вот незадача, он где-то что-то сказал не то, и в тот же миг оказался в нашем училище начальником, а не сказал бы – видели бы мы его в нашей Тмутаракани.
А еще говорили, что он большой бабник, но с нашей точки зрения это его качество сразу же попадало в разряд самых главных достоинств, а еще говорили, что честнее его людей не бывает, но это мы и сами видели.
В общем, контр-адмирал Глебов получил то, что называется любовью подчиненных – эту самую высокую из наград.
Вот только нужна ли она ему была? Мы его не слышали и не видели, а уж через забор мы теперь лазали совершенно без всякого опасения – нас никто не ловил.
По отношению к делу под стать Глебову был и его зам – капитан первого ранга Бекетов.
Но если Глебов возвышался над землей на целых два метра, и еще столько же он имел в ширину, то Бекетов в холме от силы достигал ста пятидесяти сантиметров и рядом с ним выглядел, как оловянный солдатик, временно вынутый из коробки; но он был бывшим командиром подводной лодки, списанным с нее за лихость и прочие безобразия, а потому человеком почитаемым и уважаемым.
Когда они шли вдвоем через плац, это выглядело так же, как если б большая белая медведица шла рядом со своим неразумным медвежонком. Но это была только видимость.
Капитан первого ранга Бекетов знал эту жизнь с многих сторон.
Он обожал строить все училище после обеда на плацу, после чего он выходил в середину и начинал рассказывать примерно такое: «Лежу я вчера после обеда в траве за училищным забором и загораю, и вдруг мимо меня бежит нечто в тренировочных штанах. Я встаю и бегу за ним. Через пару минут я ему говорю: «Нечто! Вы мне напоминаете курсанта», – на что он мне говорит: «Отвяжись, дед!» – должен вам доложить, что я пока еще не дед». Из строя: «А чем дело кончилось?» – Бекетов: «Он убежал».
Сам я с адмиралом Глебовым встречался только два раза. Первый – я опаздывал из увольнения, а курсант, потный, бегущий наперегонки с секундной стрелкой, чтоб только успеть, чтоб добежать, всегда вызывал во всех встречных невыразимое сочувствие.
Словом, я бежал – автобус, собака, затормозил не там, и я через пампасы опрометью, рысью до забора, рывком на забор, прыжок вверх и вперед, и вот оно училище с высоты воробьиного полета.
Распластавшись в воздухе, как летающая лисица, я заметил, что лечу я прямо на адмирала Глебова, неторопливо бредущего со стороны иностранного факультета, а если и приземлюсь когда-нибудь, то уж точно у его ног, поэтому еще в воздухе я приложил руку к головному убору, чтоб на земле сразу же отдать ему честь.
Надо заметить, что он увидел меня и сейчас же понял мое состояние, потому что он остановился, развернулся в мою сторону, и, наблюдая за моими отчаянными попытками достичь земли, тоже приложил руку к головному убору, таким образом приветствуя и меня, и мои летательные достижения.
Наконец я достиг почвы. Удар был так силен, что ноги мои согнулись донельзя, а грудью я чуть не коснулся земли. Следует добавить, что честь я ему все еще отдавал, а выпрямившись, произнес что-то среднее между «здравия желаю» и «прошу разрешения». Он кивнул и сказал: «Разрешаю!» – я пулей помчался на факультет.
Второй раз мы встретились с ним, когда он мне вручал кортик и лейтенантские погоны.
Он мне их вручил, я развернулся лицом к строю и стал офицером.
Евгений Павлович Глебов умер через полгода после нашего выпуска.
Флот узнал об этом мгновенно – кто-то кому-то сказал, позвонил.
Я тогда купил водки, налил себе стакан, подошел к зеркалу, сказал сам себе: «За упокой души настоящего человека», – и выпил в полном одиночестве.
Остатки той водки я тут же вылил в раковину, потому что я ее вообще никогда не пил – ни до, ни после этого.
Через много-много лет мой бывший замкомдив капитан первого ранга Люлин Виталий Александрович пришлет мне письмо:
«Александр, здравствуй!
Я не случайно упомянул в прошлый раз о Евгении Павловиче Глебове.
Глыбище по уму и порядочности. Мне хотелось узнать о нем твое мнение. У меня, кроме восторга и желания хоть чуть-чуть быть похожим на него, другой оценки нет. И как же было больно услышать о том, что его не стало! В мои времена он руководил кафедрой технических средств кораблевождения и впихивал в нас познания гироскопии. Евгений Павлович каждым своим жестом поднимал обучаемого до своего уровня. Самой страшной его «ругачкой» в адрес курсанта было шутливое обещание добавить ему извилин.
Училище Фрунзе отличалось множеством темных и узких коридоров. На переменах курсанты носились по ним, как угорелые.
Бежал однажды коридором мой однокашник, Борис Мурга, и впилился он со всего разбега башкой в живот Глебову. Боря (метр с небольшим) – упал и сомлел от страха. Глебов (два метра и вширь без ущерба) – поднял его и говорит: «Счастье твое, Мурга, что эм вэ квадрат делится на два. Потом мне расскажешь, что было бы, если бы не делилось. Беги дальше».
В аудитории, где он нам читал свои лекции, были размещены тренажеры локационных станций. Их резиновые «намордники», величиной с хорошую кастрюлю, в перерывах непременно швырялись друг в друга. На истечении перерыва тот же Мурга очень удачно «отстрелялся» такой «кастрюлей» по приятелю и выскочил за дверь. Приятель изготовился для поражающего ответного залпа (уже звенит звонок и Мурга должен войти), дверь открывается, «кастрюля» летит и…влепляется в грудь Глебова, а за его спиной прячется Мурга. Здесь уже «сомлел» весь класс. Глебов берет за ухо Мургу и говорит: «Ты видишь, от чего я тебя прикрыл своей грудью? Это тебе предназначалось», – потом он обращается к классу: «Садитесь все. Предупреждаю, повторное использование материальной части не по назначению вынудит меня добавить вам извилин. Ищите другие шалости. Хотя, перерыв для того и существует, чтобы разрядится. Недавно я читал лекцию в академии Генштаба и, после перерыва, увидел такую картину – четыре генерала жопой пятого стирали с доски. Вот как надо вдумчиво, по-генеральски, разряжаться. А вы все еще школярничаете. Продолжим дальше…»
Потом, уже после выпуска, отгуляв отпуск, мы – десять однокашников-штурманов, оказались одновременно в гостинице «Ваенга» в Североморске. Мы получили направления в госпиталь для прохождения медкомиссии на предмет годности к службе на атомных подводных лодках. Деньги моментально кончились. Припухать бы нам с голодухи крепенько, если бы не Глебов.
На наше счастье он прилетел на флот учить уму разуму флагманов и флотоводцев и на пару дней поселился в той же «Ваенге». Коллектив «изголодавшихся», просветлев умом, поручил мне перехватить у него «взаймы» хоть что-то. Вечером я отыскал Евгения Павловича в номере. Его реакция была мгновенной:
– Виталий! Большой сбор всем, у меня в номере. Ступай.
Через десять минут, гурьбой, мы ввалились к нему в номер. Пока здоровались-обнимались, в номере зазвонил телефон. Глебов снял трубку: «Спасибо, мы сейчас будем», – это ему доложились о готовности из ресторана.
– Други мои! – сказал он нам. – Мне хочется отужинать вместе с вами. Приглашаю. И вот еще что. На всякий случай, для вас я выкроил небольшую сумму из своих командировочных запасов, отдаю их Виталию. Живите по средствам. А сейчас – к столу.
Накормил нас «от пуза» и дал мне двести пятьдесят рублей (по двадцать пять на нос)».
Ну, какое может быть мнение об адмирале Глебове? Это был человек.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На мысе Султан, что рядом с училищем (пешком можно дойти по тропе мимо заболоченной низины), стоял отряд катеров, и мы проходили там шлюпочную практику и на «курсе молодого бойца» упрямо гребли.
Шестивесельный ял – это я вам скажу штука, а две морские мили по одна тысяча восемьсот пятьдесят два метра каждая, да под волну, до вешки туда, остальное назад, – это визг и ветер.
А валек весла держать, если у тебя ладошка еще совсем детская, да не просто держать, а еще и грести под мичманское «Весла! На воду!!!» – это что-то.
Старшими на шлюпке ходили мичмана с кафедры морской практики – «Табань!.. Весла!.. На воду!.. Та-бань!..» – и так часа на три.
С той же шлюпки мы и купались, раздевшись голышом – «Не ссы, Маша, – смеялись мичмана, – с берега все равно не видать!» – и мы плюхались в прохладную воду, при этом приятно щекотало ничем не защищенную промежность.
От весел мозоли на руках, от баночек – то бишь, скамеечек для гребцов – мозоли на юных задницах. Первыми с кормы самые сильные, называются они «загребные».
Потом, на училищных танцах, показывали девицам мозоли на ладонях и под их восторженное аханье говорили им: «Это еще что, а видели бы вы, что у меня на жопе творится!»
В шлюпке меня сажали загребным. Рядом со мной обычно сидел Валера Собко – высокий и сутулый.
Валера был полунемец, что выяснилось много позже, и от этого жутко страдал.
Тогда у нас никто не обращал внимания на такую ерунду – кто, откуда и почем, у кого какая мама, а Валера, оказывается, обращал.
А еще у нас в клубе все время фильмы шли про то какие немцы обалдуи – в общем, чушь.
Рассмешить его было сложно, все время ходил с опущенной головой, говорил мало.
Он был самбист, чуть ли не мастер спорта, и к нему особенно никто не лез.
Валера попал на лодки.
Перестройка его оттуда вымела, в конце-то концов, а потом – сердце, два инфаркта и инсульт – и схоронили мы его.
Умирал он дома в полном одиночестве. Умирал целый год.
Его болей семья не выдержала, и он лежал один.
Как-то ночью от удушья он испустил дух. Кажется, его утром нашел сын.
Он все время жаловался жене: «Мне так больно!»
Она потом звонила мне и говорила: «Ты меня не осуждаешь?» – «Ну, что ты, Ирина!»
Валерка – это моя юность, в одном кубрике по подъему вскакивали вместе.
Однажды он явился с увольнения часов в двенадцать ночи под шафе и зажег свет в нашем ротном помещении под собственное ехидное: «Спите?!!» – в него немедленно полетел ботинок юфтевый по кличке «говнодав», который Валера принял на себя, после чего он аккуратненько и молча потушил свет.
А однажды сцепились в классе, и он позволил мне себя к парте прижать. «Ну что, все, что ли?» – сказал он мне тогда. – «Все!» – сказал я и отпустил его – и чего мы тогда сцепились?
В классе редко дрались.
К примеру, Олег Смирнов схватился с Башаровым. Свирепо и коротко – за ворот и молотком по лицу. Еле растащили.
Башаров помнится мелким и вредным. Мы его звали «Украшение шкентеля».
«Шкентель» – это, по-нашему, конец строя.
До выпуска Башаров не дожил, ушел на флот.
Те, кто не доживал до выпуска, уходили дослуживать на флот, года на полтора.
Те, кто остались, учили, кроме всего прочего, химию, да еще и не одну.
В разные года у нас были: неорганическая, органическая, физическая, коллоидная, аналитическая, химия отравляющих и взрывчатых веществ, и собственно радиохимия – химия радиоактивных изотопов.
В ходе изучения различных видов химии мы сталкивались с гениями.
Вова Вьюгин за банку сгущенки на вкус определял анионы и катионы на аналитике. Там каждый получал свою склянку с раствором и должен был определить, с помощью различных методик, что у него там.
Вове достаточно было одного глотка. Потом он говорил: «Катионы: марганец, натрий, алюминий и медь», – а хлебнет из другой посудины, и – «Анионы: хлор, эс-о-четыре, эн-о-три и кажется, це-о-три, ну-ка, дай еще, да, точно, це-о-три.»
Вова никогда не ошибался.
После этих лабораторных его воротило от сгущенки.
Был еще Лобов или Лобыч, по кличке Лоб, который обожал на лабораторных работах все реактивы сливать в одну плошку до взрыва; а если на работах по органической химии говорилось, что надо следить за вот этим вот пузырьком и чтоб он ни в коем случае до вот этого места не доходил, то Лобыч доводил его до «этого» самого «места», а потом зажмуривал глаза, когда оборудование разлеталось на куски.
Правда, когда на практических занятиях по «процессам и аппаратам» у Гешки Родина гигантский кипятильник в руках рванул и все окружающие были посыпаны специальным белейшим песком из его внутренностей, Любыча рядом не было, зато там рядом был я и Олег Смирнов, и я был поражен той скоростью, с которой Олежка оказался под столом с полным ртом этого песка.
В классе меня немедленно стали называть «Папулей», потому что некоторым я прямо с порога объяснил, что такое грамм-молекула вещества.
«Папуля» – это кличка. Сокращенное от «Отца русской математики», потому что математику я им тоже объяснял.
Обычно это были нахимовцы. Этих зачисляли в училище без вступительных экзаменов на том простом основании, что они заканчивали нахимовское училище, а выпускники этого дивного учреждения в военно-морские училища поступали без особой натуги. Они здорово знали английский язык, а вот химия доходила до них в сильно искаженном виде.
Грамм-молекула способна была вызвать шок.
– Это количества вещества в граммах, численно равное его молекулярному весу, – я старался изо всех сил.
– А для чего?
– Что «для чего»?
– Для чего оно ему равно?