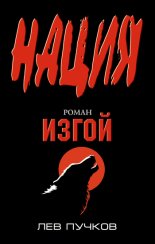Система (сборник) Покровский Александр
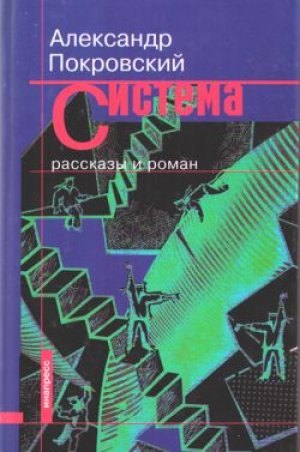
Сначала я думал, что надо мной издеваются, а потом понял, что мы имеем дело с девственностью сознания.
– Хорошо! – я решил, что на пальцах получится быстрее. – Ты себе на член можешь сразу двух женщин посадить? (Насчет члена нахимовцы все понимали.) Нет? Вот так же и молекулы. Парами они! Ебутся! Понятно?
– Парами? Понятно. А вес здесь при чем?
Блин! Разум мелкий, торопливый, взор таинственный.
– Вес – это и есть молекула. У каждой молекулы свой вес! Молекулярный! Ты пишешь реакцию для одной молекулы, а подразумевается, что.
– Ебутся миллионы?
– Копать мой лысый череп! Ты все понял, сын мой!
Ну, и так далее.
А теорию спинов я вообще объяснял на примере ботинок.
– Они уложены на орбите в разных направлениях.
– Зачем?
– Что «зачем»?
– Зачем в разных?
– Для экономии пространства. В коробке из-под обуви ботинки тоже лежат носами в разные стороны, для того.
– …чтоб в коробку влезли?
– Да ты у нас гений, Козлодоев! Тебе это еще никто не говорил?
С математикой было хуже. Юра Васильев, читавший с шести до семи утра каждый день Диккенса в подлиннике, для чего его дневальные будили в пять пятьдесят пять, никак не хотел согласиться с тем, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов. Мы с ним начали с интегралов и дошли до Пифагора, имея целью, видимо, таблицу умножения.
– Юра, блин! – кипел я.
– Папа! – говорил он мне и фальшиво плакал, а потом он еще раз кричал, – ПАПА!!! – и уже падал мне на грудь.
Так что в училище меня называли «Папой».
В училище было много кличек. Меня звали «Папой» или «Папулей». Лобова – «Лобычем» или «Лбом». Минькова – «Миней» или «Миндозой», Маратика Бекмурзина – «Маратадзе, Чавчавадце, Коки» (это я придумал), Юру Васильева – «Васей», а Вову Шелковникова – почему-то «Петей».
Не оброс вовремя волосами – значит, ты у нас будешь «Лысым».
Перетянули в училище из института – значит, ты навсегда «Студент».
Юрку Колесникова звали «Колесо».
– Колесо, Колесо, – говорил ему преподаватель физической культуры майор Стожик, обладатель только одного легкого, второе ампутировали, – Колесо, встал на краюшке, вытянулся весь, и не смотрим вниз, и падаем.
Это у нас идут занятия в бассейне. Надо прыгнуть с пятиметровой вышки.
Юра отчаянно кивает головой, стоя на самом краюшке.
Потом он падает. Плашмя – туча брызг, майор Стожик стряхивает воду с середины штанов, а Юра всплывает из пучины, как лист фанеры, из стороны в сторону, после чего он, красный телом, опять лезет на вышку – надо прыгнуть правильно, зачет.
– Колесо, Колесо, аккуратней. Да не смотри ты вниз!
Хлоп! – тучи брызг. Опять плашмя.
– Колесо! Ты меня слышишь? Ты все понял? Смотри на меня! Ты все понял? – Юра кивает отчаянно, как влюбленный ишак, на ресницах у него капли воды, они никак не слетают, отчего те ресницы кажутся жутко лохматыми.
– Давай, Колесо!
Хлоп! – опять плашмя.
А Сережа Юровский никак не мог себя заставить подойти к краю вышки. Он только большие глаза делал да мотал головой – нет, ни за что!
И вот он решился – с разбега. Разбежался, прыгнул, но в последний момент, на одних рефлексах, выбросил руку в сторону и, как шимпанзе, поймал перила – его на лету развернуло и как лягву об асфальт – на!
Еле выловили потом в бассейне.
Бассейн – это всегда приключение. При сдаче вступительных экзаменов надо было проплыть в бассейне сто метров. Один парень из Дагестана так хотел поступить, что никому не сказал, что он плавать не умеет.
По команде он прыгнул, погрузился на дно и уже по дну, цепляясь когтями, пополз к финишу.
В бассейне не соскучишься.
Олег, к примеру, Смирнов плавал брассом так шикарно, что при каждом нырке казалось, он обязательно хочет воды напиться. Он делал гребок, открывал пошире рот, потом нырок с открытым ртом, потом выныривал, отплевывался, обязательно вытирал себе рукой лицо, потом делал еще один нырок – и так, все время запивая, плыл себе сто метров.
Я же плавал, как молодая выдра, но это у меня с детских желез.
Мне только трудно было сдать на вступительных экзаменах бег – я в десятом классе перенес ревмокардит – это такая замечательная болезнь миокарда. Возникает она как осложнение после гриппа, когда он дает осложнение на гланды, а уже они на сердце, и вы учитесь сперва ходить по стеночке, а сердечко противно, как резиновое, стучит в ушах, и даже не стучит, а как-то шелестит; а после вы добираетесь до врача, и он за двадцать рублей – в те времена неплохие деньги – вырывает вам гланды почти по живому – не успело, видимо, как следует заморозиться, взяться новокаином, – после чего вы ходите по земле с каждым месяцем все лучше и лучше; а вот уже и побежали-побежали, сначала всего несколько шагов, потому что сердце из ушей сейчас выпрыгнет, а там и вовсе пробегаете сто метров – вот бы не умереть, а на экзаменах побегаете и того больше, кажется, тысячу.
У меня сердце в ушах шумело еще несколько лет, затем шум потихоньку стих.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Запах хлорки напополам с дерьмом. Это я про училищную столовую – запах хлорки напополам с дерьмом.
Летом перед входом в столовую стояли лагуны с хлоркой, а потом этими руками надо было есть.
Той же хлоркой посыпались туалеты.
Дивно.
На училищной фотографии мы стоим с Гешей Родиным. Лысые и счастливые – это мы после присяги.
Принимали мы ее с автоматами. Утром почистили автоматы, и на плац. Солнце и в душе ликованье, а вдалеке – стайка родителей, потому что день открытых дверей, и их пустили на территорию, и они ходят по ней взволнованные, особенно почему-то отцы.
Как-то считалось, что отцы-то уж точно волноваться не должны, это мамы льют слезы, непонятно почему, а вот отцы – это да, эти лить не должны, но они часто отворачивались и чего-то там шмыгали, подозрительное это дело.
Только к собственным пятидесяти годам я понял, что это такое – быть отцом, когда мой личный сын три ночи ночевал где попало. Он ушел просто из дома, а мы все звонили по его знакомым: где он и как. Был праздник города, и он в свои семнадцать напился так, что сам идти не мог и его тащили окружающие. Устали тащить – бросили, и его подобрала милиция, потом скорая, больница.
А мы обзвонили уже все милиции, все морги – так что нашли, поехали, да, привезли, накормили, да, отмыли-отмыли.
Отправляясь спать, он все твердил: «Простите меня, пожалуйста! Простите меня, пожалуйста!»
А в скорой он еще подрался с санитарами, потому что они его назвали обезьяной – он у нас черненький, маленький, ершистый.
А я потом себе говорил, что это все от любви, оттого, что мы его любим, а он нами пренебрегает и надо любить его меньше, а лучше сделать над собой усилие и вообще не любить, и быть готовыми ко всему – убьют, закопаем.
Как его можно любить? Как? Он же каждый день другой, он растет и сегодня он уже не тот, что был вчера, а ты любишь вчерашнего, а перед тобой стоит чужой уже человек. Ты любишь чужого – так я себе говорил, убеждал, что все приму, все, что ни случится, только так, чтоб без дрожания губ и ресниц, чтоб заранее себя настроить, навострить.
А поехали из больницы забирать, и одежду теплую для него захватил. Там, правда, я ее ему швырнул, но потом, ночью, подходил к его кровати и слушал, как он дышит.
Так что тогда, на нашей присяге, отцы не знали куда себя деть – все верно, и мы были взволнованы и тоже не знали куда себя деть, ходили и улыбались.
А Генке Родину я отдавал свое яйцо.
Но это на пятом курсе.
Паек курсантский увеличили, кажется, на девять копеек, и нам стали каждое воскресенье давать на завтрак вареное яйцо.
За нашим столом в столовой четверо – я, Генка Родин или «Гешка», Вова Стукалов – кличка «Стукал» и Олег Смирнов – кличка «Сэ-Мэ-эР».
Мы со Стукалом были местные и с пятого курса ходили на ночь в увольнение, так что мое яйцо забирал Гешка, а Стукаловское – Олег, так и кормились.
До сих пор помню коричневые макароны, капусту кислую, а затем тушеную и сало свиное, заменяющее мясо.
– Ро-та-ааа!.. Сесть!.. – когда заходит рота в столовую, то она выстраивается вдоль своих столов и по этой команде старшины садится и ест, потом – заправить тарелки, ложки, то есть сложить их горочкой на угол стола, старшина пройдет, проверит и.
– Ро-тааа!.. Встать!.. На выход марш!..
После обеда мы обязательно перехватывали в ларьке пачку молока – ноль пять литра – и коржик, а то до ужина не дотянуть.
А на ужин – вечный рис, а мимо нас, рождая зависть, вьетнамцам везли тележки с жареной картошкой, но это только до тех пор, пока вьетнамцы не пожаловались: «У нас картошку ест самый бедный человек во Вьетнаме», – им хотелось нашего риса.
А еще нам очень хотелось мяса. Я и не знал раньше, что так может хотеться мяса, когда представляешь себе, какое оно по внешности и на вкус.
Мы его искали везде – в основном, на дне бачка с первым – там иногда выуживалось что-то напоминающее старую вареную парусину, которая разрезалась на равные кусочки на четверых.
Куском мяса мы особенно бредили после тренировок, когда под душем, без сил, лежали все ватерполисты и я в том числе, или когда поднимали гири, штангу. Жрать, жрать! – орало молодое тело. Оно хотело жрать всегда – мы никак не могли наесться.
А на тренировках огромные дяди из водного поло выставляли ногу на пути девочек-пловчих: «Бутерброд принесла?.. Какой-какой! Какой обещала!.. Тащи!!!»
Стыдно, но дома я мог съесть сковородку еды – а ведь она была на всех. Я краснел и сдавал бабушке свою училищную получку. На первом курсе – три рубля восемьдесят копеек, на втором – почти шесть рублей, на третьем – пятнадцать.
А еще в увольнении я отправлялся к своим девчонкам из бывшего класса, и они меня кормили.
Особенно в доме у Наты – за что она потом попала ко мне замуж, и через множество лет уже моя жена Ната с утра сказала: «Посмотри, что у меня под глазом, – под глазом небольшая припухлость, – что там?» – «Ничего. Это называется: с пятидесятилетием, дорогая. Ничего особенного. К столетию такая же вырастет под другим глазом».
Ната сейчас же побормотала в мою сторону: «Дурак! – потом отошла и добавила, – Вот идиот!»
А у Бобиковых мне разбавляли компот. Их бабушка говорила: «Разбавьте ему компот», – и мне его разводили водой. Я этого не замечал, мне компот все равно казался жутко сладким, а Таня Бобикова, по кличке «Бобик», спрашивала меня, еле сдерживая смех: «Покровский, тебе еще компот налить?» – а я не понимал причину такого веселья и кивал – налить.
Девочки. Они потом превратились в женщин. От девушек и женщин всегда так восхитительно пахнет.
Ты не видел их неделю, а потом вышел в город в увольнение и сердце забилось в ушах.
Другая жизнь. Там, за забором, была другая жизнь. У нее другие звуки, ты от них отвык, они пугают.
У нее другие запахи, и тебя к ним тянет.
В увольнение строились сначала в роте.
– Первая шеренга шаг вперед шаго-ом марш!.. Кру-гом!..
Старшина медленно идет, осматривая тебя спереди и сзади. Ты затылком чувствуешь его обшаривающий взгляд.
Если он ткнет тебя, то ты должен обернуться и представиться: «Курсант Покровский!» – а он тебе скажет: «Стричься!» – и побежишь стричься.
Если он скажет: «Бляха не драена!» – помчишься с остервенением ее драить.
Главное успеть встать в строй увольняемых. Невыносимо, если он проходит мимо тебя.
Меня на первом курсе замкомандира взвода главный старшина Завитуха, который был с четвертого курса, научил подшивать белоснежный подворотничок к сопливчику так, чтоб белых ниток не было видно.
Сопливчиком мы называли поворотничек, прикрывающий горло. Его носили с бушлатом или шинелью.
Застегивался он на крючок на шее сзади.
А спереди над ним должна была виднеться узкая белая полоска. Ее-то и нашивали, а белизна ее проверялась перед увольнением – «Подворотнички к осмотру!» – расстегиваешь, снимаешь, держишь перед собой в руках.
– Смотри, – говорил он, – надо втыкать иголку в то же место, а длинный стежок делать сзади. В то же место ты все равно не попадешь, нитка сама найдет за что зацепиться, но ее не будет видно.
У бушлата, как и у шинели, имелся еще и собственный крючок впереди на горле. Застегнешь его, и концы воротника встают на свое место. Этот крючок всегда находил на кадыке во что воткнуться.
Главный старшина Завитуха – ясноглазый, невысокий парень с железным рукопожатием.
Он попал служить на Балтику. Говорили, что на флоте он спился.
Его лицо у меня перед глазами. Он что-то говорит, говорит. Я не слышу что, потому что он говорит в моих воспоминаниях. Помню только, что он всегда говорил только правильные вещи.
А вот я опять в столовой за столом, и мы снова едим, едим.
Я не мог есть училищное первое – борщ с комбижиром. Кажется, этой дрянью можно было заправить керосиновую лампу, и она бы отлично горела. Это собрание различных жиров отдавало машинным маслом, и его очень сложно было, запихав в рот, протолкнуть дальше в желудок – комбижир застывал тут же, на губах. Не знаю, на что нас только готовили, но переваривать гвозди мы научились быстро.
За училищным забором начиналась огромная маслиновая роща. Там трава в пояс, там инжир и тутовники. Мы называли это место «пампасами»: «Пошли в пампасы?»
В пампасах бегали кроссы, перелезали через забор и бегали. Если натыкались на инжировое дерево, то бег заканчивался – ели инжир. Бегали парами и в одиночку. Самоволкой это не считалось, но лучше было сбегать так, чтоб никто не видел.
А еще мы ели маслины. Их вокруг и внутри училища было полно. Сначала шутили над иногородними: «Вот это маслины и их можно есть», – и горечь во рту немедленно отражалась на их лицах.
Маслины мы готовили в тех же химических лабораториях, где и учились – выдерживали их в поташе и в соли.
У Гешки Родина они получались очень вкусные. Гешка был в этом деле специалист. Он совсем не читал художественных книг. Лишен был этой извилины.
Зато он читал учебники по химии и работал во Всесоюзном научном обществе (слепых, чуть не сказал) курсантов.
Я тоже в нем состоял: писал работу по ядерной физике «Электрон так же неисчерпаем, как и атом».
Использовалась, конечно же, такая умопомрачительная работа Владимира Ильича Ленина, как «Материализм и эмпириокритицизм».
За нее обещали «пять» на экзамене.
Обещал мне ее Роджер Дмитриевич Житков, полковник и блестящий офицер.
Он блестел в буквальном смысле этого слова – аккуратный, начищенный, всегда сияющий. Он входил в наш класс, принимал идеальную строевую стойку во время доклада дежурного, потом – превосходный поворот «налево» и с улыбкой: «Прошу садиться!»
Мы назвали его «Веселый Роджер». Он так был всегда рад любому нашему участию в жизни пю-мезонов и лямбда-минус-гюперонов, что просто удивительно, а электроны на околоатомных орбитах у него всегда находились там, где и положено – в энергетических ямах.
Он считал, что все курсанты знают его предмет на «пять». Экзаменационные билеты раскладывали обычно мичмана с кафедры ядерной физики, и Роджер никогда их не перемешивал. Ему это, кажется, и в голову не приходило. Мичмана за бутылку коньяка светили билеты, и надо было только на бутылку сброситься.
Не знаю, что за приступ жадности тогда во мне случился, но я объявил в классе, что мне и так ставят «пять» за реферат и чего мне сбрасываться на бутылку.
Никто не возражал, и меня обязали идти на экзамен последним, чтоб остальным не мешать.
Так и договорились.
Роджер спутал нам все карты. Увидев меня в строю испытуемых, он воскликнул: «Друг мой! Вы отвечаете первым. Берите билет».
Полумертвый от ужаса, я взял билет. Это был билет Толи Денисенко. Я не помнил, что я там лепетал, ядерная физика немедленно испарилась из моей головы. Я подвел, подвел весь класс, билеты смешались.
Столько лет прошло, а я помню, как у меня от стыда горели уши.
Роджер сразу понял в чем дело. Ни одним движением он не выдал того, что ему все стало ясно.
Весь класс сдал на «отлично». Я готов был сквозь землю провалиться.
Через много лет я встретился с «Веселым Роджером». Он тогда уволился в запас, но все еще бодрился, бегал кроссы.
А потом, за ненужностью, он быстро постарел, стал выпивать и получил свой рак.
Меня он по-прежнему привечал, говорил при встрече: «Друг мой!»
У меня есть подаренная им книга, «Прикладная ядерная физика».
Я ее десять лет по разным местам на севере таскал и на саночках в чемодане перевозил с точки на точку.
В чемодане было много книг, но со временем они куда-то пропадали, их воровали.
«Прикладную ядерную физику» Роджера Дмитриевича Житкова, блестящего офицера, никто не украл.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
– Папа-док! Пошли загорать! – это Маратик Бекмурзин. Я его зову «Маратадзе».
– Пошли.
Мы берем с собой Вовку Шелковникова (кличка «Петя») и идем на стенку, к воде, загорать.
Тепло, солнышко и от воды блики. Мы жмуримся и ложимся на сухие водоросли. Их выбросили волны на камни, и теперь они высохли как сено – приятно, тепло.
Прежде чем лечь, лучше осмотреться, а то вляпаешься в мазут, его тоже выбрасывает на камни вместе с водорослями.
Обеденный перерыв до 15.00. Святое время сна на флоте.
Построение в 14.55 на верхней палубе. Место построения – шкафут, правый борт.
Шкафут – это, по-человечьему, середина корабля.
Этот сон еще называют «адмиральским».
То ли адмиралы так спят, то ли они разрешают другим в это время дрыхнуть – этого мы еще не знаем. «Адмиральский» так «адмиральский». Нам все одно. Лишь бы не трогали.
Можно и в кубрике спать, но там из вентиляции крысами воняет.
Мы на практике после первого курса. У нас месячная практика на СКР-е.
СКР – сторожевой корабль. Ему куча лет. Он старенький, принадлежит Краснознаменной Каспийской флотилии и стоит у причальной стенки.
У нас корабельная практика на этом славном корабле.
Все это на Баилове, о котором мы уже упоминали. Там у стенки все время стоят какие-то военные корабли, из которых один наш.
В основном мы на нем приборку делаем по три раза в день водой и шваброй, и один раз в неделю – большая приборка с мылом.
Швабра на длиной палке – куча веревок, тяжелая. Ее называют здесь «машка».
Все расписаны по участкам верхней палубы и внутренних помещений.
Мой участок на баке, то есть на носу, рядом с носовым орудием.
На приборке есть старший – старший матрос с корабля – спокойный, ленивый «годок».
«Старший матрос» – это воинское звание. Я на втором курсе училища тоже был старшим матросом – это одна лычка на погонах.
«Годок» – это тот, кому осталось служить только один год. Два он уже прослужил.
Раньше срочную служили пять лет, и тогда «годками» считались те, кто прослужил четыре.
Теперь служат по три года, и годок помолодел.
На нем все здесь держится. Он что-то вроде старосты. Таких орлов на корабле с десяток.
Они им и управляют.
Есть еще боцман – этот как рявкнет утром на кого-нибудь, так палуба и мертвеет – все куда-то исчезают. Есть старпом – но в его присутствии мертвеет боцман.
Есть еще командир – но его мы видели только парочку раз.
Есть еще командир дивизиона сторожевых кораблей – стремительный капдва, с быстрой речью, и надо соображать с великой скоростью, чтоб ему вовремя ответить.
А так всем заправляют «годки».
Приборка на них. Они строят молодых матросов, раздают инвентарь – и зашуршали.
Мы слышали про годков всякое. Жесткое это воинство, жестокое.
Странно, но «годки» на этом СКР-е никого не уродуют, ленивые какие-то.
Только один раз мы видели сцену в матросском кубрике: годок вроде бы боролся с молодым.
Была освобождена площадка, они возились, и зрители подбадривали и того, и другого.
Все закончилось так же, как и началось – вдруг. В конце схватки молодому шлепнули по шее – он не возражал.
От подобных сцен нас – курсантов – берегли. Мы все-таки были из другого мира.
Но приборку мы «шарашили» так же, как и все остальные, и наш «годок» работал вместе с нами.
Кажется, ему нравилось, что он командует будущими офицерами.
А еще мы изучали устройство корабля, корабельные расписания, организацию жизни, службы.
Мы были дублерами на боевых постах. Я, например, был артиллеристом.
Устройство корабля нам рассказывали те же годки. Они же с удовольствием проводили экскурсию, каждый по своему заведованию. Самое запоминающееся из нее то, как они спускались по вертикальному трапу без помощи рук – это высший шик, и такой спуск мог быть повторен только «на бис».
Выглядело это так же лихо, как, например, движения гиббона по лианам.
«Как это вы делаете, а можно еще раз?» – Бога ради, на еще раз.
В конце месяца СКР, наконец, вышел с море на артиллерийские стрельбы – море, скорость, боевые развороты, подготовка к стрельбе, ветер в ушах.
Было отчаянно свежо, я блевал.
В промежутках я успевал затыкать уши – стреляла стомиллиметровая пушка. Ох, она и давала! Бах-бах! Трах! – в голове нытье. Сперва она била по плавучей мишени, а потом по берегу, по скале.
Корабельные дела у нас теперь будут летом и каждый год.
На втором курсе нас вывезут на штурманскую практику на ОС-15.
ОС-15 – опытовое судно. Переоборудовано из СДК – среднего десантного корабля – под курсантские кубрики – двухярусные койки в гигантском носовом трюме. Вниз – крутая лестница – трап. По нему спускаешься, как в чрево невольничьего судна. Наверху – световые люки. Заглянешь – страшно падать…
А качает как – мама дорогая. Не то что я – половина народа в лежку.
– Штурманская рубка, штурманский класс, время поворота на курс 270 градусов! – это нам по корабельной трансляции.
«Штурманский класс» – это место на нижней палубе, где столы с картами и где мы, химики, ведем прокладку – работаем штурманами. Поблевал и за дело.
Нос корабля выпрыгивает на волну, потом вниз, и тебя вжимает в палубу, отчего подгибаются ноги.
В носовой гальюн лучше не ходить. От удара о воду вышибает гидрозатворы и из дучки струя бьет вместе с дерьмом сначала строго вверх, в подволок, а потом по стенам и вниз. Удар – опять вверх.
Плохо всем, даже крысам.
Сложнее всего в это время бачковать, то есть с бачком под второе стоять в очереди на камбузе. Получил – рис и мясо горкой сверху. Теперь осторожно назад, бачок впереди себя двумя руками, и тут на трапе попадаешь под волну, и тебя на каждой ступени вжимает в палубу так, что глаза уже впереди бачка, и ты с этим тазиком у ноздрей, растопырив локти, летишь вперед – есть!
Вывалил на палубу.
Руками, обжигаясь, все назад в бачок – рис, а теперь и мясо аккуратненько сверху, – ой, как хорошо! – и бегом в трюм. Расскажешь – убьют.
– Саня, ты чего не ешь?
– Качает. Не могу.
– Ну, тогда я за тебя.
Чуть не сказал: «На здоровье!»
Некоторые при качке активнейше жрут, остальных поводит да поташнивает.
С нами тогда Раенко ходил. Читал нам Корабельный Устав. Как-то в кубрике на занятиях объявили по радио: «Космонавты такие-то при приземлении погибли. Разгерметизировалась капсула».
Раенко прервал занятие. Я встал первый, за мной – все остальные, потом командир наш сказал: «Прошу садиться». Занятия продолжились.
Сан Саныч Раенко, доблестный наш командарм, продолжил бы занятия, даже если б его мама померла. Мы в этом были уверены.
И еще мы были уверены в том, что если чуть чего, то мы к нему прибежим.
Старшим в этом походе у нас ходил капитан первого ранга Бегеба – списанный командир лодки. Шепотом говорили, что у него на лодке был пожар, потом взрыв торпедного боезапаса. Спаслись только Бегеба – он был наверху, его отбросило так, что на руках потом волокли, и он никого не узнавал, и командир БЧ-5 – тот вообще во время взрыва в штабе был.
Погибли и люди, и лодка. Никто не знает, почему никого не спасли. Скорее всего, все были в шоке и не думали спасать людей.
Бегеба – спокойный, медлительный, будет мучиться этим до конца дней своих.
Я у него в каюте приборку делал.