Слёзы Шороша Братья Бри
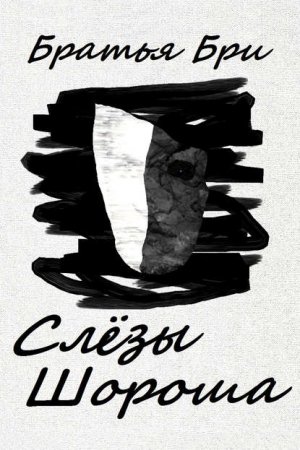
«Говори то, чего не ждёшь от себя», – снова промелькнуло в голове у Дэниела.
– Про заветное Слово, что должно помочь людям одолеть… тебя, Повелитель.
– Слово при тебе?
– Можно сказать, при мне: я запомнил его, а листок с начертанным на нём Словом, что я взял у убитого Дэнэда в кармане, уничтожил, чтобы он не достался дорлифянам.
– Разумно. Открой мне Слово.
– Скорбь Шороша вобравший словокруг
Навек себя испепеляет вдруг, – размеренно прочитал Дэниел.
– Скорбь Шороша вобравший словокруг
Навек себя испепеляет вдруг, – шёпотом произнёс Зусуз слова стиха и затем словно ответил им: – Проникни в суть и подчини. Я подчиню себе это тайное Слово.
– Те, с кем я шёл, намеревались убить тебя, Повелитель, и этим обезглавить силы Выпитого Озера. Это была их последняя надежда, потому что они думали, что Слово утеряно.
– Пусть тебя больше не заботит это, Мартрам. Гура отправил в погоню за ними пять сотен воинов. Я приказал убить всех до единого. Малам возглавляет их? Ведь это он сотряс нынче мой дом?
– Да, Повелитель. Он возомнил себя всесильным.
– Скажи мне, как ты оказался под его началом.
Дэниел всё время силился удержать взгляд на лице Зусуза, чтобы тот верил ему, и трудно было противиться его встречному взгляду, что проникал в самую душу, и его голосу, который ломал преграду, под названием воля.
– Как оказался? Просто. Друг Дэнэда, который был с ним в Дорлифе, вернулся в Нет-Мир.
– Помню его, повстречал однажды. Отчаянный, но не воин.
Дэниел продолжал:
– Он узнал, что Дэнэд погиб и пришёл к нему на похороны. Я воспользовался его горем и втёрся к нему в доверие, и мы вместе вернулись в Дорлиф. Они поверили, что я им друг и взяли меня на Выпитое Озеро. Когда мы добрались, я побежал от них, чтобы предупредить тебя об опасности. Это всё.
Сафа шагнула к Зусузу и, наклонясь, прошептала ему на ухо (Дэниел разобрал её слова):
– Повелитель, в его незрячем глазу сила, что заставила его явиться в Выпитое Озеро. Он нужен тебе.
Зусуз взял палку, стоявшую у стены подле кровати, и поднялся. Затем приблизил узловатый конец двухтрубчатника к чёрному глазу Дэниела – боль тотчас объяла левую сторону его головы и лица. Он сжал челюсти и терпел, терпел, терпел, чтобы не выказать то, чем, возможно, мог выдать себя. Зусуз, опустив палку, сказал:
– В твоём глазу нашла пристанище стрела Чёрной Молнии.
– Я рад этому, Повелитель, – ответил Дэниел, не очень-то понимая, что это означает.
– Сафа, отведи его в соседнюю комнату и накорми. Я полежу, устал. Ничего, нынче Малам будет наказан за дерзость своей палки, причинившей мне страдания. (Зусуз ещё не окреп после схватки с Маламом.)
Дэниела встревожили слова Зусуза: «Гура отправил в погоню за ними пять сотен воинов». Дэниела встревожили слова, что сказала ему Сафа напоследок, перед тем, как оставить его: «Знай, Мартрам: Повелителю нужен тот, кто восполнит ослабленную в нём силу. Но прежде он испытает тебя».
Так и случилось, но случилось неожиданно и исподволь.
Минуло три дня. Во время совместной с Зусузом трапезы, которая уже становилась для Дэниела привычной, как и слова, разбавлявшие её, хозяин сказал:
– Телесное недомогание, которое оставила во мне разящая сила двухтрубчатника Малама, надолго уложило меня в постель и понудило предаться размышлениям, что сторонятся помыслов о расширении границ власти Выпитого Озера. Признаки спеси, кои ты, верно, разглядел во мне за эти дни, всего лишь дань привычке… потому как слова Малама, что запали мне в душу, неотступно пытают меня.
– Какие слова, Повелитель? – спросил Дэниел.
– Вот его слова: «Сам поразмысли над тем, по какой дороге дальше тебе идти». Они пытают меня и зарождают во мне сомнения.
– В чём же ты усомнился?
– Малам живёт среди людей и не повелевает ими. Просто живёт… как все они. Обзавёлся козой и пасынком-получеловеком. Но я слышал (и не раз), что люди прислушиваются к нему, идут в его дом за советом. И он даёт им его. И это мудро, ведь советы его, слова его – это те нити, которыми он связывает людей и которые при надобности тянет или дёргает, как поводья узды, направляя их взор туда, куда надо ему. И я спрашиваю себя: может, людям не нужна моя палка, ломающая хребты? Может, их взором должно управлять, как это делает Малам? Это значит, стать таким же, как они, завести козу и пригреть приёмыша и, помимо иных прелестей жизни (как, например, это вино на моём столе, на нашем столе), наслаждаться скрытой властью. Я спрашиваю себя: если ты рождён властвовать, если в тебе горит этот огонь, власть твоя должна быть скрытой или принуждающей… кровавой? Что скажешь, Мартрам?
Дэниел задумался, но не нашёл слов, чтобы тотчас ответить. Но он всегда помнил, что пришёл в Выпитое Озеро не для словесного ответа Повелителю Тьмы. И он воспользовался моментом.
– Повелитель, твои слова озадачили меня, а вкус твоего вина пленил. Откуда оно? – сказал он, хотя узнал эти милые бочонки, величиной с хороший кулак, из трактира «У Фелклефа».
– Я беру его у Блолба, старшего брата моего друга детства, Фелклефа, – ответил Зусуз, и сильный голос его выразил трепетное чувство в нём.
– Ты хранишь вино в погребе под башней? Мне бы взглянуть на твои запасы.
Зусуз усмехнулся.
– Ступай вниз и скажи Сафе, чтобы она сопроводила тебя в подземелье… Постой, Мартрам.
– Да, Повелитель?
– Ты не дал ответа на мой вопрос.
– Чтобы ответить, мне нужно немного времени: прежде я не задумывался над этим.
– Ступай – потрафи своему любопытству.
Спустившись, Дэниел постучался к Сафе. Она выглянула.
– Что тебе, Мартрам?
– Сафа, дорогая, проводи меня в погреб. (Он уже второй день говорил ей «дорогая», и это работало: она была мягка с ним, как только может быть мягка корявырьша.)
Сафа вышла и запалила факел. На поясе у неё висел кинжал, что он подарил ей. Вместе они спустились через люк в погреб. Дэниел заметил, что замка на крышке нет. Внутри Сафа зажгла свечи по обе стороны от двери. В обширном подземном помещении по стенам тянулись полки, по большей части уставленные горшочками с вареньем (точь-в-точь в таких подавали варенье «У Фелклефа»), бочками с соленьями и бочонками с винами. По полу стелился серый туман.
– Возьму два.
– Бери, Мартрам. Значит, испытал тебя Повелитель?
Как только Дэниел услышал эти слова, тотчас вспомнил её предупреждение в первую ночь в башне и смекнул: «Он проверял меня».
– Да, испытал. Вот решили вина выпить, – ответил он и подумал: «Ахинею несу».
– Ну, ступай – не заставляй Повелителя ждать.
– Я благодарен тебе, Сафа.
«Что ему сказать?.. что ему сказать? – думал он, перебирая ногами ступеньки под глухое рычание горхуна. – Говори то, чего не ждёшь от себя». Вдруг он понял, что скажет. Снова спустился и, застав Сафу возле двери её комнаты, сказал:
– Сафа, дорогая, мне нужно ненадолго выйти из башни.
– На кой?
– Хочу показать Повелителю, на что я способен.
Возвратясь к Зусузу, он поставил бочонки с вином на стол.
– Повелитель, я готов дать тебе ответ.
– Говори.
– Прошу тебя: выйди со мной на балкон.
Зусуз молча встал и, прихватив с собой палку, направился к двери балкона. Дэниел взял бочонок с вином, принесённый им из погреба, и вышел следом за мнимым горбуном.
– Смотри, – сказал Дэниел.
И Зусуз увидел, как пелену тумана над Выпитым Озером пронзил и скрылся в ней Болобов бочонок, а через несколько мгновений, едва показавшись вновь, был вдребезги разбит камнем, запущенным в него Дэниелом, вернее, рукой Мартина.
– Я хочу, чтобы во мне, как и в этом булыжнике, не было ни капли сомнения на пути от воли Повелителя до кровавых осколков. И ни одного мгновения не хочу сожалеть о разбитом бочонке.
Глаза Зусуза заблестели. Дэниел продолжал:
– В тебя же, Повелитель, прокрались сомнения не только оттого, что ты ослабел, но оттого, что ты долго не был среди людей и забыл их глаза. Люди не изменились. Они судят обо всём, глядя наружу, но не внутрь себя. Они говорят про меня «урод» и не видят, что вместе с этим словом зачали урода в своей крови, которая через два или три поколения обагрит руки повивальной бабки и заставит её уста вернуть слово, и слово вернётся: «Урод!» Но я не могу ждать два-три поколения, чтобы быть отмщённым. Нет, сомнения не для меня, Повелитель.
Наступило молчание. «Поверил, по глазам вижу, поверил», – подумал Дэниел и, словно в подтверждение этой мысли, услышал:
– Мартрам, вижу, что ты не тот слабый рисовальщик, который залез в чужую шкуру. Прошу тебя: будь моей правой рукой.
– Да, Повелитель. Это большая честь для меня, – ответил Дэниел и, недолго помолчав, тихо сказал, напустив на себя неловкость: – Повелитель… хотел спросить и всё не решался. Одна вещица не даёт мне покоя. Она подмигнула мне, когда я впервые увидел Дэнэда, и теперь притягивает мой единственный глаз и поддразнивает меня.
Зусуз раскатисто рассмеялся и сказал:
– Она твоя, забирай.
Дэниел подошёл к стене и снял серебряную цепочку с пёрышком из аснардата, висевшую рядом с подсвечником над кроватью хозяина, над изголовьем.
– Я отплачу тебе за это, Повелитель, обещаю, – эти слова не подчинялись правилу, которое нашептали Дэниелу стены башни: «Говори то, чего не ждёшь от себя».
– Да, Мартрам, – коротко ответил Зусуз и мысленно продолжил: «Ты отплатишь мне, когда мы вместе ступим в пещеру Руш, что в горе Рафрут, а вернёмся единым целым. И Выпитое Озеро возопит: „Марзузрам!“
В середине пересудов того же дня Дэниел снова постучал в знакомую дверь внизу башни.
– Мартрам?! – удивилась Сафа.
– Сафа, дорогая, у тебя не найдётся мешка для меня?
– Для какой надобности?
– Пойду камней наберу. Я ведь камнями головы сношу. Может, вместе прогуляемся, – предложил он.
– Ладно, Мартрам, пойдём: мне тоже ноги размять надобно, – ответила Сафа (на самом деле она решила приглядеть за ним: вдруг что-то не так, как он говорит).
Рассветное небо взирало на землю глазами орлов, парящих под фиолетовыми волнами. От Выпитого Озера до реки Гвиз и от реки Гвиз до разлома в земле, что протянулся на тысячи шагов по левому берегу её, поверхность была облеплена мясом, от остывшего до ещё тёплого, облачённым в железо, отдавшим и отдававшим ей багряный нектар жизни. И запах нектара густо пропитал воздух до самого неба и наделял то, что видели глаза, манящим вкусом. По дальнюю сторону разлома за камнями укрылись люди. Их было четверо. И за них были только камни, потому что накидки людей превращали их в соплеменников серых глыб и валунов. И разлом, сотворённый неистовой силой двухтрубчатника, отдалял мгновение последней схватки и помогал им оставаться ещё живым мясом, кровоточащим, обессиленным, смирившимся с предстоящей участью, но ещё живым мясом. У них не было ни единой Слезы Шороша, которая указала бы им спасительный Путь. С их языков не соскакивали бодрящие, с подковыркой, слова, потому что их рты сковала боль и сухость, а дух их истощился, ведь они жаждали и силились сделать больше, чем могли, и всё, что от него осталось, было сосредоточено на смерти, на убийстве.
Один из них, тот, локоны которого горели живым огнём, лишь одни локоны которого горели живым огнём, сидел на земле почти недвижимо, опершись спиною на камень и из последних сил натягивая тетиву, чтобы выпустить приближавшую смерть одних и отдалявшую смерть других стрелу. Ноги его уже три дня не мерили путь (жала корявырей обездвижили их), и три дня он не выдёргивал из ножен своих коротких мечей, и это ранило его не меньше, чем стрелы, мечи и секиры воинов Тьмы. И ему бы впору сказать: „Если бы Савасард был целым человеком…“
Поблизости ползал на четвереньках один из его друзей, тот что в первой же ночной схватке израсходовал весь запас свинцовых убойных коротышей. Он не стал обузой. Напротив (так было угодно судьбе), три дня он тащил на себе друга. И теперь укоротился на четверть не оттого, что страшился смерти – ноги и спина отказывались повиноваться ему. И он ползал на четвереньках, и подбирал стрелы корявырей, и подносил их огненноволосому. Кровь проливалась на его лицо и застила ему глаза – это вражья стрела ковырнула ему темя. Грудь его и живот были залиты кровью – это вражье лезвие рассекло защитную рубаху и обожгло тело, и он почувствовал, как по груди и животу заструилось тепло. И теперь ему уже было плевать на то, что он пресмыкается, что он истекает кровью, что скоро его не будет. Ему было наплевать на всё больше, чем его друзьям, потому что он понял, что всё кончено и больше ничего не будет… и плевать на то, что всё кончено, и пусть больше ничего не будет. И он ползал и подбирал стрелы, ползал и подавал стрелы, потому что огненноволосый выпускал и выпускал их.
К камню по дальнюю сторону разлома прилипли ещё два ошмётка полуживого мяса. Они бессловесно ждали последней драки, последней в их жизни драки.
Им досталось по полной, но на их окровавленных лицах не было сожаления, была боль – отпечаток боли телесной, но не было знаков сожаления. В первую ночь, как только выбрались из котловины Выпитого Озера, Хранители Слова могли оторваться от преследователей: темень и камни были им в подмогу. Но они засели в засаду и напали. Они просчитались: вместо десятков, их обступили сотни, и, как ни хороши, как ни дерзки были палка одного, дубинка другого, мечи третьего и „бульдог“ четвёртого, мечи, секиры и стрелы корявырей, перевесив числом, пробивали защиту, секли, дырявили и рвали их тела. И из ран, оставленных кровожадным железом, из этих дыр и щелей, выходила жизнь. Через четыре дня и пять ночей одно теребило души двух кроваво-оранжевых с лица человечков – зияющая рана на земле. Палка одного и дубинка другого разом ударились оземь и сотворили разлом, иначе их друзьям не спастись бы, разлом в земле, которую один их них давно полюбил и к которой другой успел проникнуться добрым чувством.
Корявыри уже соорудили мост, и оставалось только перекинуть его через разлом. Малам и Гройорг, не сказав друг другу ни слова, кряхтя и стоная, отлепились от камня и, крепко сжав оружие, которое некогда вручил им янтарный Элэ, двинулись к бездне. Упав на противоположный край земли, мост соединил поле битвы.
Вдруг в пространстве, которое охватили своим взором парящие в небе орлы, раздалось ржание. И все как один по обе стороны разлома повернули головы на клич, словно возвещавший о начале последней схватки клич. От подножия Кадухара вдоль зияющей раны земли мчался на вороном коне воин. В руке над головой он держал палку. Это был третий двухтрубчатник, который вот-вот обрушится на корявырей. Тут же два десятка их арбалетов звучно стеганули своими жилами. Конь встал на дыбы, и стрелы, назначенные пронзить всадника на нём, пронзили его разгорячённое галопом тело – он рухнул на землю. И в это мгновение вся любовь Семимеса к своему Вороному обернулась яростью, с которой он, двужильный, вёрткий и хитрый в драке (таким он был всегда), отмеченный невидимой меткой победителя, точимый виной перед друзьями и пылающий жаждой мести за своего Вороного (таким он был в эти мгновения), ринулся в гущу корявырей.
– Семимес-Победитель! – прохрипел Гройорг.
– Сынок! – прохрипел Малам.
– Семимес! – словно прошептали стрелы Савасарда, летевшие в корявырей.
И только у Мэтью не было сил на слова – слёзы стекали по его щекам.
…В самый разгар битвы Савасард вздрогнет… не от вражьей стрелы, что заставляет тело передёрнуться от боли, но от звуков, которые пронзят его сердце:
– Савас!
Он обернётся на голос из детства.
– Отец!
– Я возьму твои мечи.
– Твои мечи, отец.
Мечи тотчас узнают эти руки и воспылают былой страстью. И блеск их брызнет бликами в глазах орлов.
К началу пересудов всё кончится. А к ночи одна из пещер Кадухара, вход в которую был отмечен изображением двух скрещённых мечей (в ней когда-то нашёл пристанище Фэдэф), вновь оживёт… но оживёт слабой, едва слышимой жизнью, привнесённой в неё ещё живыми ошмётками мяса, не доставшимися орлам.
„Всё, пора“, – мысленно сказал себе Дэниел, когда ночь сгустилась до слепой черноты. Из мешка с камнями достал гнейсовый мешочек со Слезами, незамысловато, так, чтобы одним рывком за кончик бечёвки отделить его, привязал к ремню и, прикрыв полой накидки, вышел из комнаты. Горхун, будто учуяв неладное, рыкнул и зашипел. Вчера ночью эти рык и шипение застали его уже на лестнице, на полпути вниз, и, напугав, понудили вернуться в свою комнату и оставить драгоценный груз. Он решил проверить, как пройдёт задуманное, пока без мешочка, без Слёз, пока лишь проверить.
Дэниел как всегда осторожно, не зажигая свечи, ощупью спустился и подошёл к двери, за которой то ли спала, то ли бдела Сафа. Хорошо, если она, как и вчера, скажет ему: „Вот тебе факел. Ступай один. Возьми бочонок и мигом назад“. Он постучался. Было слышно, как Сафа поднялась с кровати. В освещённой тусклым светом огарка щели показался ореховый лик.
– Ну? – прохрипел он.
– Сафа, дорогая, опять мне что-то не спится. Что если я в погреб за бочонком спущусь? Ты только не серчай.
– Повадился ты по ночам расхаживать. Загодя надо брать.
– Буду загодя.
– Ладно, погоди, факел зажгу.
Сафа вынесла факел и запалила его от огарка.
– Ступай, Мартрам.
– Факел завтра верну. Что я будоражить тебя лишний раз стану.
– Нет, факел занеси.
– Как скажешь.
Дэниел быстро спустился в погреб. Он торопился. „Не повезло: будет ждать, скоро хватится, – подумал он. – Или повезло? Я в подземелье, уже в подземелье… один. Что сказал Фэдэф? „Туман, что стелется в подземелье, поманит тебя“. Уже манит“.
Дэниел опустился на колени, чтобы разглядеть ход, из которого медленно выплывал туман. „Пролезу“. Он лёг на землю и вполз внутрь хода, держа перед собой факел. Продвигался с трудом, долго, или показалось, что долго, потому что подгонял себя желанием „быстрее, быстрее“, а неуклюжие движения опаздывали за ним.
– Мартрам! – донёсся приглушённый сжатым пространством голос Сафы, и через не давшее опомниться время снова: – Мартрам!
„Только бы не учуяла меня носом… Учует, как пить дать учует“, – промелькнуло у него в голове. И в подтверждение этой мысли:
– Мартрам! Мартрам!
Дэниел кожей ощутил запущенный в нору голос, натужный, напряжённый, догоняющий и страшащий жертву, и услышал, как сердце его припустило… Наконец теснившие его стены оборвались, и он вывалился в небольшую пещеру, пространство которой не было гнетущим, а воздух не заставлял морщиться. „Уютно“, – усмехнулся Дэниел, успокаивая себя, и встал. В центре её возвышался массивный, с плоским гладким верхом камень. Он приблизился к камню, и свет пламени факела вдруг высветил его тайну – Дэниела проняла дрожь: он увидел начертанные на нём в виде замкнутого круга слова: скорбь Шороша вобравший словокруг навек себя испепеляет вдруг.
– Мартрам! Мартрам, откликнись! – зловеще прозвучало изнутри хода.
Между словами в камне были выдолблены глубокие лунки, и одна из восьми, что разделяла слова „вдруг“ и „скорбь“, была занята бежевой Слезой Шороша.
„Какой провидец начертал на камне этот стих?.. опустил Слезу в лунку?.. и погрузил камень на дно озера, ещё не выпитого чудовищем?“ – подумал Дэниел. Он положил факел на середину камня, снял с ремня гнейсовый мешочек, развязал его и принялся одну за другой выкладывать Слёзы, заполняя ими пустые чашечки, назначенные быть наполненными толиками скорби Шороша. Когда в словокруге было семь Слёз, а у него осталось две: белая с фиолетовым отливом и глазастый (с бирюзовым глазом) камень, он вспомнил, что должен был найти вход на Путь, и для этого у него в кармане джинсов – зеркальце. „Теперь мне не нужно таращиться на свой чёрный глаз – глазастый камень выведет меня. Но найти вход на Путь надо прежде, чем…“
Дэниел поднял перед собой глазастый камень, и тут из норы выползла Сафа. (Раньше она не догадывалась о существовании этой пещеры, а в эти мгновения не знала, для чего чужак проник в неё. Но она знала, что он не вернулся из погреба – значит, он затеял недоброе… против Повелителя, против Выпитого Озера, против Сафы, кою нарочно кличет: „Сафа, дорогая“). Она поднялась. В левой руке она держала свечу, правой – выдернула из ножен кинжал, тот самый, его подарок. Дэниел попятился к камню. Сафа двинулась на него, и глаза её выказали жажду кровавой мести. Он быстро ткнул белую с фиолетовым отливом Слезу в последнюю лунку, схватил факел и шагнул корявырьше навстречу, размахивая им перед её лицом. Попытался выбить у неё из руки кинжал – удар пришёлся по свече, и она полетела в сторону. Попытался ещё раз – промахнулся, и тут же получил удар в грудь. Но защитная рубаха не пропустила клинок к телу, и Дэниел, обронив факел и глазастый камень, вцепился в её жилистую, намертво сжавшую кинжал руку обеими своими.
Вдруг пространство стало насыщаться какой-то гнетущей энергией, осязаемой телом и перепонками ушей, насыщаться быстро, заставляя всё вокруг дрожать и не позволяя опомниться. Стены пещеры дали трещины. И в это мгновение (это длилось всего лишь мгновение) Дэниел, вместе с неистовой болью в незрячем глазу, ощутил, как между этим глазом и словокругом возник сгусток воздуха, который… который… который вот-вот лопнет, разорвав чёрный клубок в глазнице, приютившей его, разорвав его голову. В следующее мгновение, которого чувства и мысли Дэниела не знали, сгусток вытолкнул его наружу, за пределы котловины Выпитого Озера. А в самой котловине властвовал гигантский огненный шар…
Глава одиннадцатая
Не нужен последний раз
Из бессонной ночи, густо окутанной воспоминаниями, Дэниела высвободил стук в дверь. Он живо встал и оделся.
– Войди, лесовик! – сказал он нарочито бодрым тоном, предположив, что принесли завтрак или весть о продолжении расследования и не желая показывать уныния, в котором он пребывал.
– Не угадал. Лесовичка к тебе в гости. Привет, дорлифянин!
Это была Эстеан (печаль в её глазах не могла спрятаться за весёлостью слов). Она пришла раньше всех. Она хотела прийти раньше всех. И она хотела, чтобы он видел, что она пришла раньше всех.
– Не знаю, кому я порадовался бы сейчас больше, чем тебе. (Дэниел не лукавил: с ней ему всегда было хорошо.)
– Тому, кто принёс бы тебе добрую весть – слова, которые подтверждали бы, что ты Дэнэд.
– Это правда. Но этим вестником была бы ты.
– Это правда, – сказала Эстеан, ласково улыбаясь глазами. – Дэн, я пришла сказать, что отец сегодня не мрачен, каким был третьего дня и вчера. И он не сторонился меня.
– Только палачи по утрам мрачны… а он лишь отдаёт приказы.
– Ты несправедлив к палерардцам.
– Я несправедлив лишь к справедливости белой комнаты.
В дверь постучали.
– Вот и твой завтрак, – сказала Эстеан, открыла дверь и приняла поднос. – Что тут у тебя? Руксовый чай, творожники и козье молоко.
– Не хочу есть, только чаю попью… хоть и не паратовый.
– Думала тебе так много сказать.
– Готов слушать тебя… слушать, слушать…
– Не обманывай.
– Сама видишь, что не обманываю. Ты лучше других видишь и всё понимаешь.
– Слов нет… куда-то подевались слова.
– Как же ты хотела много сказать без слов?
– Не знаю. Душа хотела, а слов нет.
– Тогда давай молча сидеть, и я буду слушать твою душу.
– А я твою. Дэн… – Эстеан запнулась.
– Слова появились? Давай их сюда.
– Прости меня за то, что случилось в лодке.
– Это ты прости меня… за то, что я убежал.
– Уплыл.
– Просто я вспомнил, что я Дэн. Ты сама внушила мне это. Не будь я Дэном, я бы не уплыл… от тебя.
– Но ты Дэн, а я не Лэоэли.
– Эстеан, знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется? Только ты можешь угадать.
– Я съем творожник?
Эстеан поднесла творожник ко рту и тут же вернула на поднос. Слёзы скатывались по её щекам. Она не успела перебить нахлынувшую волну чувств пережёвыванием творожника или ещё чем-нибудь.
– Я знаю, Дэн, чего тебе больше всего хочется.
– Не вообще, а в эти мгновения, – уточнил Дэниел.
– Я и говорю про эти мгновения.
– Эстеан, давай на счёт три вместе скажем, чего мне хочется… чтобы ты потом не сказала, что я обманщик.
– Давай.
– Раз… два…
Вместо «три», раздался стук в дверь.
– Войди, вестник белой комнаты!
В дверях появился Озуард.
– Эстеан?! – сказал он негромко, но не успев спрятать удивление.
– Да, отец, ты узнал меня. Пришла проведать Дэнэда. Может, не доведётся больше увидеть его живым.
– Дэнэд, мы ждём тебя в белой комнате, чтобы продолжить расследование, – сухо сказал Озуард и вышел.
– Эстеан, мне надо идти.
– Подожди. Больше всего ты хотел бы сейчас быть в комнате камней. Правильно?
Дэниел приблизился к ней и поцеловал её в щёку.
– Ты удивительная, – сказал он и направился к двери. Остановился. – Эстеан, чуть не забыл. У меня к тебе просьба. (Эстеан смотрела на него, едва сдерживая слёзы.) Когда всё кончится, загляни под мою подушку. Если найдёшь там что-нибудь, распорядись, как сочтёшь нужным.
По обе стороны от двери в роковую комнату стояли два воина, вооружённые кинжалами. Это было впервые за всё время, пока Дэниел носил на руке белую повязку, и неприятно тронуло его чувства.
Внутри, кроме четверых палерардцев, которые вели расследование, находился ещё один человек, тот, кого он совсем не ожидал встретить: на скамейке, на том же самом месте, где и в прошлый раз, сидела Лэоэли.
– Приветствую вас, – сказал он и затем обратил свой взор к Лэоэли: – Доброе утро, дорлифянка.
– Доброе, – ответила она.
– Займи своё место, Дэнэд, и начнём… Лэоэли, сначала мы хотим послушать тебя. Ты что-то желаешь добавить к тому, что уже сообщила нам?
– Может, не надо? – сказал Дэниел, уставившись на неё, и в этих словах, и в этом взгляде чувствовалось: «Не пожалела бы ты потом».
– Я хочу, – ответила Лэоэли.
– Посмотри на меня! – выкрикнул он (Лэоэли вздрогнула, палерардцы взирали бесстрастно). – Может, не надо, зеленоглазка?! Не надо!
– Я хочу сказать и скажу! – с нотками взыгравшей гордости ответила Лэоэли.
– Говори, дорогая Лэоэли, – поддержал её Озуард.
Она приготовилась и, казалось, вот-вот начнёт говорить, как вдруг…
– Не могу, – прошептала она, закрыв лицо руками.
– Так, может, и вправду не стоит ничего говорить, Лэоэли? Ты уже и так обо всём поведала нам в прошлый раз, – высказался Ретовал и этой подсказкой словно тронул её оголённый нерв.
– Он снится мне каждую ночь! – воскликнула она. – Этот человек, – она указала пальцем на Дэниела, – который назвался Дэнэдом, снится мне каждую ночь!.. Мы сидим с ним вдвоём и плачем. Он смотрит на меня своими глазами. Не этим чёрным клубком, а глазами… глазами… синим и бирюзовым… Я всякий раз узнаю это место. Это… скамейка возле дома Фэлэфи. Мы сидим на ней вдвоём и плачем. И я говорю ему «Дэн», всякий раз говорю ему «Дэн». Слышите меня?! И когда я произношу его имя, во мне нет сомнений… в моих чувствах нет сомнений, что он Дэн! И такого не могло бы быть, если бы этот человек не был Дэнэдом! Если бы он не был Дэнэдом!
Проговорив всё это, Лэоэли выбежала из белой комнаты.
Слова её ошеломили Дэниела и словно вернули ему утерянное прошлое, и он ощутил себя тем Дэном, каким был когда-то давно, уже так давно. И он словно забыл, что здесь, в белой комнате, прямо сейчас прозвучат другие слова.
– Дэнэд, ты слышишь меня? – спросил Озуард.
– Похоже, нет, – ответил он, очнувшись.
– Вижу, что уже да. И коли так, продолжаем расследование. Вчера служанка Зусуза…
– Что с Зусузом? – перебил Озуарда Дэниел.
– Обратился в пепел, как и все те, кто находился в Выпитом Озере. Люди, о которых нам рассказала Фэлэфи, уничтожили логово Тьмы тайным огнём, – ответил Эвнар.
– Что с теми людьми? – взволновался Дэниел, вдруг подумав…
– Скорее всего, они пожертвовали своими жизнями. Огонь не знает пощады, – ответил Озуард.
– К слову сказать, среди названных Фэлэфи имён твоего не было, – заметил Ретовал (голос его был переполнен дразнящей издёвкой).
– Я всё-таки задам свой вопрос, – вернул всех к началу разговора Озуард. – Сафа поведала нам о том, что ты явился в Выпитое Озеро по воле тёмной силы, которая нашла в тебе, в твоей глазнице, прибежище. Есть ли у тебя доводы, способные опровергнуть это?
– Только не говори, что ты причастен к победе над силами Тьмы, – это снова был Ретовал, сегодня он словно старался за двоих: за себя и за тихо сидевшего (с перевязанной головой) Эвнара.
– Я и не собирался, – спокойно ответил Дэниел. – Но я хочу попросить каждого из вас: тебя, Озуард, тебя, Фелтраур, тебя, Эвнар, и тебя, Ретовал, – ответить… себе ответить на два вопроса. Вот первый. Почему и Гура, и Сафа говорили обо мне, как о том, кто был с ними заодно, кто был, как и они, приспешником Зусуза?.. почему, если обиталище Тьмы было уничтожено и осталась лишь капля её, та, что затаилась во мне? Чтобы сохранить её, чтобы она стала той каплей, с которой начнётся новое Выпитое Озеро, им бы впору кричать, что я их враг и смеяться вам в лицо перед смертью. И второй вопрос. Почему камень, запущенный моей рукой, угодил в Гонтеара через полмгновения после того, как его стрела сразила Сафу, стоявшую между нами в двадцати шагах от меня?.. Это всё, что я хотел сказать в своё оправдание.
– Есть ли у кого-то ещё вопросы или суждения? – спросил Озуард.






