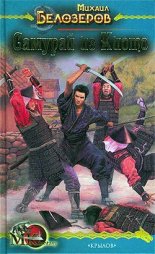Место Горенштейн Фридрих

– Никакого у меня акта нету, – сказал я, – и подвала нету… Я живу в общежитии…
– Что вы мне морочите голову? – в сердцах бросив ручку на стол, так что перо оставило на бумаге кляксу, сказала плоскогрудая. – У меня очередь, а вы здесь… – Она помолчала, видно несколько овладев собой и отыскивая слово помягче. – А вы здесь суетесь, – сказала она.
Но как бы она ни подыскивала помягче, «суетесь» вполне меня устраивало и могло служить хорошим поводом.
– Кто суется! – крикнул я тем новым петушиным звонким голосом, который впоследствии часто из меня исторгался. – Кто?! А?! У меня семью разорили… Я с трех лет по чужим углам валяюсь… – (В коридоре за дверьми ожидающие приема притихли, видно прислушиваясь.) – Сталинская… – крикнул я (не знаю, каким чудом окончательно не потерял голову и не выпалил следом грязное ругательство), – сталинская… сталинская… сталинская… – Из-за того, что усилием воли я отсек второе слово, у меня в голове образовался некий вакуум, промежуток, который я не мог миновать на пути дальнейшего логического изложения мысли. Поэтому я все время повторял: – Сталинская… сталинская… сталинская… – И вскоре уже не говорил это слово, а как бы икал его…
Плоскогрудая побледнела от испуга и злости. Дверь из коридора приоткрылась, и оттуда заглядывали очнувшиеся от сонной одури посетители. Открылась и иная дверь, с противоположного конца кабинета, и оттуда вышла женщина, которую я даже первоначально принял за Корневу. Должен сказать, что, во-первых, в подобных учреждениях служит большое количество женщин, а во-вторых, типы этих женщин не отличаются разнообразием. Это либо плоскогрудые, мужеподобные личности, либо женщины типа А. Ф. Корневой, обладающие не утонченной, но народной женственностью, которую они, возможно не без легкого кокетства (приталенный пиджак лишь подчеркивает бедра), итак, не без кокетства пытаются прикрыть мужскими элементами в одежде. Вошедшая женщина была постарше А. Ф. Корневой, однако, несмотря на это, пожалуй, помиловидней, причем эту миловидность придавала ей как раз легкая полнота ответработника… В частности, у нее была очень мягкая красивая шея, именно за счет легкой полноты.
– Вот, Ирина Алексеевна, – сказала плоскогрудая, – ворвался, морочит голову… Оказывается, он живет в общежитии, а требует улучшения условий… Да еще нагло оскорбляет…
– Во-первых, я не ворвался, – повернувшись к плоскогрудой и глядя на нее с ненавистью, сказал я. – Я сидел в очереди… У меня очередь. – Я говорил это, уже стоя посреди кабинета, вскочив со стула.
– Мы, миленький, – мягко сказала мне Ирина Алексеевна, – мы живущих в общежитии на учет не берем… А вообще, кто вы такой?
– Вот, – сказал я и в ответ на ее вопрос, кто я такой, почему-то вытащил полученный в КГБ старый пропуск с фотографией отца, – вот… (так получилось, что словно схитрил я, подменив и выставив отца вместо себя).
Ирина Алексеевна взяла пропуск, прочла, глянула на фотографию.
– Надо таких учить, – зло сказала плоскогрудая, – ничего не стоит ворваться со своими наглостями в государственное учреждение…
– Оставьте, – резко сказала плоскогрудой Ирина Алексеевна, – не трогайте его… Закройте дверь! – так же резко сказала она посетителям, заглядывающим из коридора.
Лица исчезли, дверь в испуге захлопнулась.
– Мой отец был генерал-лейтенант, – тихо сказал я.
– Красивый какой парень был ваш отец, – с какими-то искренними нотками сказала Ирина Алексеевна.
Тут-то и произошел эмоциональный срыв, причем как-то внезапно и неподготовленно. Я вдруг выхватил пропуск из пальцев Ирины Алексеевны, пронзительно звонко, с полной отдачей сил, зарыдал и выбежал из кабинета. Помню, когда я пробегал по коридору райисполкома, двери в разных концах открывались, находящиеся же в коридоре от меня в страхе шарахались… Позднее, после ряда эксцессов и припадков, я привык, что от меня шарахаются, ныне же подобное меня покоробило… Я долго петлял по переулкам, точно за мной гнались, и, лишь оказавшись далеко от райисполкома, оглядевшись и увидев, что вокруг люди не обращают на меня никакого внимания, я успокоился, вытер насухо носовым платком лицо, выпил несколько стаканов газированной воды и поехал в Управление строймеханизации – творить суд и расправу над гонителями своими, три года унижавшими и оскорблявшими меня.
Летом двор Управления строймеханизации выглядел еще более неопрятно. Во-первых, на линии летом работает больше механизмов, а следовательно, больше их и стоит здесь в порченом виде. Кроме того, если зимой или ранней весной, когда я был здесь последний раз, копоть впитывалась в снег, лужи мазутной воды вылизывал мороз, а запахи пережженного металла уносил ветер, то ныне копоть оседала на лицах и одежде вместе с пылью, мазутные лужи закисали и застаивались в выбоинах, а душные запахи пережженного металла висели в воздухе неподвижно… Во дворе меня встретил какой-то темный от мазута человек, отчего зубы при улыбке у него сверкали белизной.
– Здравствуйте, Григорий Матвеевич, – сказал он мне.
Это было несколько неожиданно и удивило меня. Лишь приглядевшись, я узнал одного из экскаваторщиков, даже вспомнил фамилию: Гагич.
– Где вы сейчас? – спросил Гагич.
– Работаю, – высокомерно ответил я, – свет клином не сошелся на этой шараге.
– Это верно, – сказал Гагич, – многие ребята считают, что вас уволили несправедливо. – Он понизил голос и огляделся.
– Отчего ж вы боитесь? – сказал я раздраженно и в повышенном тоне.
Гагич посмотрел на меня пристально и понял, очевидно, что дела мои плохи и что пришел я не по делу, а ругаться.
– Ничего вы им не докажете. – сказал он тихо. – Что вас, они вон Мукало уволили.
– Мукало! – крикнул я. – Мукало главная сука! Это он меня спровоцировал.
– Ну, тут уж вы не правы, – сказал Гагич. – Мукало был толковый мужик. Он меня обещал посадить на новый экскаватор и посадил бы… А я ему кто? Я ему никто… Вот Юницкий свояка посадил…
– Да брось ты, Гагич, – сказал какой-то рабочий (на нас уже обращали внимание, и ходивший по двору главный механик Тищенко смотрел в нашу сторону). – Брось, Гагич, – продолжал рабочий, – у тебя хорош тот, кто тебе хорошо делает. – Он сказал это громко, чтоб слышал Тищенко.
– Вот-вот, – сказал я с раздражением и сарказмом. – Вы, Гагич, отойдите от меня… Постоите еще со мной рядом, не то что новый – старый экскаватор отберут… Переведут в разнорабочие. – И, криво улыбнувшись, я пошел к конторе.
По дороге мимо меня мелькнул Райков, но не поздоровался, просто остановился и посмотрел. В коридоре я рывком открывал двери кабинетов и, ничего не говоря, осматривал всех там находящихся, криво улыбаясь. В бухгалтерии на меня посмотрели в недоумении, видно не узнав, в производственном отделе находилась одна Коновалова, которая, увидев меня, улыбнулась. Но тут я, правда, высказался:
– А где ж твой братец? В рожу ему плюнуть хочу, – и захлопнул дверь.
Открыл я и отдел кадров, поглядел на Назарова, но ничего ему не сказал, это была личность нейтральная, хоть и бывший прокурор, но мне ничего дурного не сделавший. Наконец, открывая по пути двери, я добрался к секретарской, где сидела все та же Ирина Николаевна, бывшая моя покровительница. Ни слова ей не говоря, я прошел мимо прямо в кабинет к Брацлавскому. Иван Тимофеевич был на месте и по какому-то поводу рылся в ящиках стола, что-то искал. Увидев меня, он не удивился, а лишь грубо спросил:
– Тебе чего надо?
Я с радостью применил прием самоутверждения: грохнул стулом и сел нога на ногу. С радостью, ибо, откровенно говоря, боялся, что по инстинкту прежних лет сробею. Но получилось все удачно. Несмотря на двадцать лет работы в качестве выдвиженца, Брацлавский не был кабинетный работник и, если надо, действовал грубо, по-уличному, как старый кузнец. Он покрыл меня матом в три погибели. Я с радостью ответил ему тем же. Так мы препирались некоторое время, упражняясь в матерщине, пока в кабинет осторожно, по-лисьи, краснея от стыда (шокированная нашим словоблудием), не вошла Ирина Николаевна.
– Гоша, – сказала она, неожиданно назвав меня по имени, – пойдемте, я хочу с вами поговорить… Иван Тимофеевич, – подняла она голову к Брацлавскому, – зачем вы сердце свое тратите?.. Потом будете валидол сосать…
– Я ему морду сейчас набью, – грубо и откровенно сказал Брацлавский.
– Гоша, – снова обратилась Ирина Николаевна ко мне, – пойдемте. – Она взяла меня об руку.
Я хотел освободиться, но получилось так, что Ирина Николаевна от моего резкого движения пошатнулась и, едва не упав, взвизгнула.
– Ах ты, падло! – по-рабочему просто крикнул начальник управления Брацлавский и схватил меня за ворот.
Руки у него были большие, но уже мягкие, ибо возраст и руководящая должность давали себя знать. Успешно борясь, я крикнул в лицо Брацлавскому:
– Мой отец генерал-лейтенант!.. А ты сталинская шкура!.. Понял, ты!..
Таким образом, я все укрупнял и переводил на политический уровень, но слишком поздно, с этого надо было начинать, а я мельчил и бранил по-бытовому. В это время в кабинет ворвался Лойко. Откуда он взялся, не знаю, – видно, только что приехал, и Ирина Николаевна, ввиду крайнего положения и зная его ненависть ко мне, сразу этого негодяя позвала. Хоть у Лойко сквозь зачесанные назад волосы уже заметно проглядывала лысина, был он физически силен и широкоплеч (среди моих врагов вообще много физически сильных личностей, я на это обратил внимание как на определенную закономерность).
– Иван Тимофеевич, – крикнул Лойко, – не надо вам тратиться, не надо, я сам его!
Он легко оторвал меня от начальника, выволок в секретарскую, оттуда в коридор, но, поскольку в коридоре было много встревоженных сотрудников, он проволок меня в кабинет производственно-технического отдела и заперся со мной на крючок, захлопнув дверь перед носом Коноваловой, очевидно пытавшейся мне помочь. И все это, держа меня одной рукой за грудь. Мне трудно было сразу оказать сопротивление, ибо Лойко несколько раз успел ударить меня мимоходом головой о стену, вымазав при этом мне голову штукатуркой, и передо мной все кружилось, а уши совершенно заложило. Поэтому первоначально я не слышал, что кричал Лойко, а видел его не столько злое, сколько радостное лицо. Взаимной драки никакой не было. Запершись со мной в кабинете, он бил меня минут десять, как ему нравилось – и бросая на пол, и ногами. А после этого я его избил. То есть мы друг друга били поочередно. Когда, насытившись палачеством надо мной и устав, Лойко хотел было уже прекратить и выйти, может несколько испугавшись (у меня все лицо было в крови), испугавшись и, таким образом, расслабившись, я неожиданно даже для себя нанес ему удивительно точный удар ногой в живот, а когда он упал (и откуда только силы взялись во мне, избитом), начал его бить, как никогда ранее не бил (избиение случайного пьянчужки и Берегового – школьная драчка по сравнению с этой моей расправой). Бессчетное число раз я ударял Лойко, лежавшего на полу, коленом в лицо – своим излюбленным приемом, и всякий раз получалось удачно, согласно традиции… Я разорвал на нем пиджак, я вырвал у него из головы клок волос… Ситуация складывалась довольно комичная. Я бил Лойко, а в дверь стучали Коновалова и Ирина Николаевна и нервно говорили:
– Лойко, прекратите, немедленно откройте!.. Слышите, прекратите, вы попадете под суд, а у вас семья…
Наконец постучал даже сам Брацлавский.
– Николай, – сказал он, – это Иван Тимофеевич… открой…
О, какое это было счастье! Никогда позже не удавалось мне так полно и до конца насладиться расплатой и ненавистью. На левой щеке у меня текла кровь из рассеченной скулы, и, схватив со стола обыкновенную канцелярскую кнопку, крепко зажав ее меж пальцев, я разодрал Лойко щеку в том же месте.
– Ломайте дверь, – услышал я голос Юницкого, но, прежде чем они успели это сделать, я встал с Лойко (я сидел на нем верхом) и откинул крючок.
Коридор был полон (было время съезда прорабов с объектов, и многие успели подъехать). Здесь стояли и Брацлавский, и Юницкий, и Коновалов, и Литвинов и т. д. Все три года унижения и насмешек толпились передо мной в коридоре, а главный мой враг лежал у меня за спиной окровавленный, на полу.
– Что смотрите? – спросил я и засмеялся клейкими от крови губами.
Но это были, видно, последние мои усилия, и силы разом настолько покинули меня, что уборщица, старая женщина (кажется, ее звали Горпына), легко, схватив меня за шиворот, вывела из конторы. Рядом, взяв меня об руку, шел неизвестно откуда взявшийся Шлафштейн (в том смысле, что я его в коридоре не видел, и мне показалось, что он подошел ко мне во дворе).
– Степа, – сказал он Гагичу, – у вас тут аптечка, кажется, в цехе есть. Вот парня надо в порядок привести.
– Я ж ему говорил, ничего он им не докажет, – вздохнув, сказал Гагич.
Мы пришли в цех, где закопченные окна подрагивали от работы станков.
– Прикройся полой пиджака, – сказал мне Гагич (ранее он говорил мне «вы», как бывшему прорабу, но после того, как я был избит, он перешел на «ты»). – Прикройся, а то сбегутся…
Мы прошли за перегородку, где находилась аптечка и сидела женщина в халате медсестры.
– Вот, Варвара, – сказал Гагич, – упал парень, помочь надо.
Медсестра глянула на меня.
– Что вы мне голову морочите? – сказала она. – Это побои, надо акт составить, его, может, в больницу…
– Не надо акта, – тихо сказал Шлафштейн, – помоги ему, и он уйдет… Ты сможешь уйти?
– Смогу, – сказал я, ибо действительно чувствовал себя хорошо (в тот день я нашел в себе силы избить еще двоих и лишь ночью почувствовал себя плохо… Болело все и всюду, снаружи и изнутри). – Степа, – сказал я Гагичу (медсестра обработала мне раны, заклеила их пластырем, и мы с Гагичем вышли во двор), – Степа, нельзя в цехе выточить кастет? Я заплачу.
– А это что такое? – спросил Гагич.
– Ну на пальцы надевается, чтоб уж если дашь в зубы, так ни одного не останется.
– Ах, рукоятка, – понял Гагич, – не надо это тебе… Брось, в тюрягу попадешь.
– Степа, – сказал я, – но ведь они меня лицом в дерьмо три года подряд…
Мы стояли посреди двора. Шлафштейн ушел еще раньше, едва медсестра начала мне обрабатывать раны. Во-первых, он торопился на планерку, а во-вторых, как бы там ни было, я оценил его поступок, ибо в сложившихся обстоятельствах он, находившийся в зависимости от моих врагов, все-таки не оставил меня одного, увидев, что никого из моих доброжелателей нет рядом (Свечков и Сидерский еще не приехали. Они обязательно приняли бы мою сторону, причем Свечков, может, даже открыто).
– Меня три года… – повторил я, – в дерьмо мордой, да каких три года – всю жизнь… А мой отец – генерал-лейтенант…
– Чего ж он тебе не помогает? – удивился Гагич. – Побочный ты, что ли?.. Бросил он тебя?
– Да нет, – невольно даже в моем положении улыбнулся я наивности и нелепости мышления Гагича. – Ты вот как к Сталину относишься? – спросил я неожиданно.
– А что, – удивился Гагич, – Сталин есть Сталин… Что бы там ни сочинял Хрущев… Ты новый анекдот про Хрущева слышал?
– Анекдот! – выкрикнул я. – А знаешь, сколько он людей угробил, Сталин ваш!..
Разговор становился скользким, напряженным и, главное, глупым и несвоевременным.
– Я понимаю, куда ты клонишь, – помолчав, ответил Гагич, – твоего отца посадили, это я понял… У меня дядька тоже десять лет отсидел… Вышел на волю и через месяц помер… Но что б там ни было, а Сталин есть Сталин…
И эта ясная, простая, искренняя, затверженная формулировка настолько полно и всесторонне выразила суть сталинизма, особенно конца сороковых – начала пятидесятых годов, когда Сталина не сравнивали уже ни с солнцем, ни с горным орлом, а только лишь с самим Сталиным, и в этой формулировке настолько полно и искренне выразилась мифологическая народная любовь к своему кумиру, которую невозможно уничтожить никакой логикой и правдой, по крайней мере в период нынешних, современных Сталину и освященных им поколений, что я испытал перед этой твердостью растерянность, не дав себе даже передышки, необходимой для восстановления сил.
– Тупой ты! – крикнул я Гагичу, человеку, который, в общем-то, мне помог. – Все вы тупые, как кирпичный забор… Ух, стрелять вас надо… вот что… Из пулеметов… Вот оно что… Сталинские гады…
В конце концов все снова приняло закономерную этому времени политическую окраску, однако – и это также закономерно – в основе своей направленную не по адресу. Глянув еще раз со злостью на Гагича, я плюнул наземь и покинул двор стройуправления.
Глава пятая
Итак, как сказано выше, невзирая на крайнее истощение сил, в тот день я избил еще двоих. Один был случайный прохожий, и я не помню, по какому поводу я к нему придрался (именно к нему придрался). Второй был инструктор райкома Колесник (впоследствии, как мне стало известно, из райкома уволенный по настоянию секретаря райкома Моторнюка, против которого Колесник интриговал, но не рассчитал своих сил). Интересно, что не только случайный прохожий (какая-то ничтожная личность в кепочке; кажется, эта кепочка меня и разозлила, теперь смутно вспоминаю), не только случайный прохожий, но и Колесник, который еще недавно меня унижал как хотел, ныне бежал, не оказав сопротивления. Правда, надо сказать, вид мой был действительно страшен (я понял это, глянув на себя потом в зеркало): волосы мои, давно не мытые и жесткие, в нескольких местах стояли торчком, глаза, обрамленные черными кругами, блестели, а лицо было сплошь покрыто кровоподтеками и заклеено пластырями. Случайного прохожего я избил тотчас же, выйдя из ворот Строймеханизации. Впрочем, избил – сильно сказано. Я успел лишь ударить его в спину меж лопаток, он оглянулся на меня и сразу же побежал вместе со своей кепочкой (именно «кепочка» – теперь вспоминаю точно), побежал через дорогу на противоположную сторону улицы, даже не позвав милиционера, на что я рассчитывал (я не терял надежды на громкий политический процесс, где смог бы превратить многолетнее страдание мое в живое обличение и оказаться в центре общества).
Колесника я перехватил вечером в коридоре. Он снова жарил картошку на общественной кухне, и я, выскочив из комнаты, откуда, приоткрыв дверь, подсматривал, сразу же схватил Колесника пальцами за лицо. Интересно, что все время реабилитации, пока живы были надежды, что реабилитация принесет для меня реальные положительные изменения, я о Колеснике и прочих даже не вспоминал. Теперь же пришел их черед. Колесник выпрыгнул (именно выпрыгнул из моих пальцев), сделав вращательное движение головой, а затем, прыгнув спиной вперед от меня, повернулся и побежал. Он заперся в своей комнате. Я уперся коленом и ладонью левой руки в стену коридора, правую же руку положил на дверную ручку и сильно рванул. Звякнув, полетел крючок, заплакал ребенок Колесника трех лет, закричала его жена, продавщица универмага, но меня увели Григоренко и Рахутин, обняв за плечи. И снова, невзирая на явное буйство, милицию не вызвали, не знаю почему. Может, вследствие слухов о моем отце генерал-лейтенанте, может, также и потому, что как-то прослышали о насмешках и издевательстве надо мной Колесника, не удержавшегося на уровне служебных обязанностей и допустившего в мой адрес перегибы. Так что и комендантша, по своей инициативе привлекшая Колесника к борьбе против меня, теперь, возможно, жалела и опасалась для себя неприятных последствий. К тому ж пугал мой внешний вид. За несколько дней я сильно изменился, и в облике моем проступило воспаление, заставлявшее людей держаться от меня подальше, и бороться со мной непосредственно никто лично не хотел (как я ныне понимаю, считали меня свихнувшимся. А таких опасаются и одновременно брезгуют). Даже Григоренко и Рахутин, мои друзья, подошли ко мне не сразу, предварительно пошептавшись в конце коридора, причем подошли, когда случай был крайний и следовало спасать меня от роковых и эмоциональных шагов в отношении Колесника, которые я намеревался предпринять. В общем, тогда мне просто помогли улечься в постель мои друзья. Я хотел бы выпить перед сном чаю с карамелью, но сами они (друзья мои) не догадались, явно спеша уйти и считая свою миссию выполненной. Впрочем, попроси я, они бы, конечно, согрели и принесли чай, но отныне я решил никогда и ничего не просить. Ночь, проведенная мной, была тяжела, но частые бессонницы, приступы печени и прочие болезни, нередко обострявшиеся у меня ночью и ранее, приучили мой организм приспосабливаться и бороться. Интересно, что, вынужденный ночью среди храпа жильцов оказывать себе помощь, я несколько успокоился душой. У меня сильно горело под пластырями лицо (главную массу ударов Лойко обрушил именно на мое лицо, которое он особенно ненавидел, я это чувствовал), а также болела грудь (Лойко ударил меня несколько раз ногой и по груди, когда я лежал). В общем, болело все тело, казалось, нет на нем живого места, однако лицо и грудь были центрами, и им прежде всего следовало уделить внимание, я знал, что стоит мне успокоить боль в лице и груди, как она успокоится во всем теле. Осторожно встав и неслышно ступая (не потому, чтоб не нарушить сон жильцов, плевать мне на них, а потому, чтоб, проснувшись, они не увидели моих мучений), осторожно ступая, я на ощупь нашел в тумбочке тройной одеколон, и так же на ощупь, содрогаясь от боли, я сдирал пластыри, смазывал раны тройным одеколоном и снова их заклеивал. Лицо сперва пекло и мучило сильней, но затем, полностью так обработанное, начало успокаиваться. Сложней было с грудью. Мне трудно было дышать, но ничего, прямо воздействующего на грудь (типа тройного одеколона для лица), я предпринять не мог (попытка приложить теплый шарф для согревания груди никак не воздействовала). Однако я нашел положение тела, облегчающее боль в груди: именно сидя и опираясь о койку рукой. В таком положении боль утихала, когда же я вставал и прислонялся спиной к шкафу, то она вовсе пропадала, и, стоя у шкафа, я ухитрился даже вздремнуть. Так, изыскивая всевозможные способы оказания себе помощи, провел я хоть и тяжело, но довольно деятельно ночь. Ранний июльский рассвет (было, между прочим, уже начало июля, и прошел почти месяц с начала реабилитации), ранний рассвет застал меня более свежим, чем вечером, хоть я почти не закрыл глаз (за исключением отдельных моментов, когда я дремал, прислонившись к шкафу). Но свежесть эта была деятельная, дневная и требовала движений. Я оделся (боль в груди миновала совершенно, лицо же несколько щемило), я оделся, вышел на улицу, погулял на свежем воздухе до времени начала работ министерств и главков и после этого позвонил в Главк Саливоненко. Разговор с ним (явно не догадывающимся о произошедших со мной изменениях), разговор с ним приведен мной в одной из предыдущих глав. Решение же внести Саливоненко в список моих врагов и избить его возникло именно тогда, но должен добавить, что никаких подобных списков еще не существовало и как раз данный разговор натолкнул меня на мысль об этих списках и вообще о более серьезной и разумной тактике. Этот телефонный разговор с Саливоненко я считаю переломным, то есть переходом от анархической, бесплановой ненависти к планомерным и продуманным действиям. Тут уже чувствовались зачатки подпольной организации, к необходимости которой я впоследствии пришел. Действительно, сразу же после разговора с Саливоненко, вернувшись в общежитие и усевшись у своей тумбочки, я принялся составлять список своих врагов, прикрывая бумагу локтем. В противоположном конце комнаты сидел Жуков и, также прикрывая от меня бумагу локтем, что-то, по обыкновению, вычерчивал, заглядывая в учебник физики седьмого класса. Таким образом, в конечном итоге техническая графомания Жукова, над которой я ранее насмехался, ныне пошла мне на пользу, ибо я не выделялся в своих действиях и мог конспиративно маскировать их хотя бы под стихотворчество… Список лиц, враждебно ко мне настроенных (первоначально я так его наименовал, однако вскоре нашел это название рыхлым, перечеркнул и просто коротко написал: «врагов»), список этот, даже в его первоначальном варианте, ибо впоследствии он вырос чрезмерно, был весьма пестр. Кроме одноплановых Лойко и Колесника, сюда входил Саливоненко, некогда оказавший мне услугу и покровительство, входили Брацлавский, Юницкий, Коновалов (эти, правда, близки к типу Лойко – Колесник), входили комендантша Софья Ивановна, завкамерой хранения Тэтяна, несмотря на некоторые неожиданные послабления с ее стороны ко мне. Входил полузабытый и зафиксированный в списке лишь после раздумий работник военкомата Сичкин. Неожиданно вошла семья Чертогов, некогда предоставившая мне ночлег, но впоследствии попросту выгнавшая меня. Вошла и такая ничтожная личность, как Вава, муж Цветы, а озлобившись, я внес в список и стариков Бройдов, милых людей, но неожиданно переменившихся ко мне… Это были те самые щепки, которые летят, когда рубят лес… Вообще бюрократия в террористической деятельности (а именно к ней я приближался) – вопрос необходимый, но нелегкий… В прямой борьбе, когда физическое противостояние перевешивает идейное, чрезвычайную роль играет эмоция момента, и это влечет за собой ряд неизбежных ошибок и в ту и в другую сторону. В частности, в списке фигурировали старики Бройды, поступившие со мной пусть несправедливо, но в бытовом плане, в то же время отсутствовал мой враг студент Орлов, и вовсе не потому, что я забыл о нем, а потому, что ошибочно полагал, будто он, как бы там ни было, подобно мне, недоволен официальностью и ведет против нее борьбу. Впрочем, в первоначальном, черновом варианте списка вообще сильно еще было анархическое начало, то есть лица вносились на основе их личных поступков по отношению ко мне, политические же их воззрения учитывались во вторую очередь… Кстати, в данном случае весьма наглядно сработал закон политической физиологии (термин мой), то есть люди физически крепкие, высокого роста, простые в своих жизненных отправлениях, не любящие евреев (даже тех евреев, которые любят Сталина, как, например, Маргулис), – эти люди, как правило, сталинисты (бывают и исключения). Когда впоследствии я попытался придать моему списку политическую окраску, то оказалось, что большинство лиц, внесенных экспромтом, под воздействием момента, были сталинистами (я заключил это аналитически, ибо ни с кем из них, кроме разве Колесника, на политическую тему не говорил, но думаю, что не ошибся). Несколько путали карты старики Бройды и Вава… Эти были, конечно, левые и антисталинисты, но за что именно они были, понять мне было трудно, – кажется, за интернационализм, свободу и демократию…
Первым в списке был Саливоненко, ответственный работник Главка, еще недавно находящийся не только административно (это сохранилось), но и морально высоко надо мной. Подобная ситуация, когда административная высота сохранена, а моральная уничтожена, объясняет суть и форму моих действий… Нападение и месть за обиды (моральная высота уничтожена), причем по возможности в уединенном месте (административная высота сохранена). Да, в дело с моей стороны вступили уже не анархические всплески эмоции, а продуманный расчет, пристрастие к которому я, кстати, если вспомнить, питал и ранее, ведь на основании корыстных расчетов я и строил свои отношения с людьми, ища среди них лишь полезных мне лиц и покровителей. Так вот, в новой своей деятельности я был чрезвычайно обязан прежним навыкам. В переходный период без планового озлобления в случайных уличных драках и бесконтрольных вспышках эмоций я терпел бесконечные беды, довел себя чуть ли не до безумия и выглядел чрезвычайно неприятно со стороны (я это чувствовал, и это меня, дорожащего мнением окружающих, особенно женщин, очень угнетало). Итак, я довел себя до безумия в переходный период именно благодаря забвению, вернее, неумению применить в новых условиях прежние навыки и расчеты… Короче, в моих действиях против Евсей Евсеевича Саливоненко (уверен, сталинист, хоть и дружащий с Михайловым), в моих действиях уже присутствовал элемент некой организации, в которой, однако, пока был лишь один член – именно я.
Прежде всего я организовал слежку за зданием республиканского Совета министров. На это ушла неделя, если придерживаться по-прежнему, для простоты принципов, календарной организации событий, а в общем ушло больше недели дня на два, на три… Утром, встав, наскоро позавтракав, я садился на троллейбус, потом пересаживался на трамвай и так добирался к зданию Совета министров. Здание это было огромно (я его уже в свое время описывал), с множеством подъездов, через которые входили и выходили многочисленные работники главков и министерств, здесь расположенных. Выследить Саливоненко, самому оставшись незамеченным, дело нелегкое. Но проблема состоит не только в том, чтоб выследить, но и в том, чтоб терпеливо дождаться ситуации, пригодной для действия… Выследил я его на пятый день работы, он входил обычно через седьмой подъезд где-то около одиннадцати и покидал здание через него же в основном между шестью и семью…
Должен сказать, что, несмотря на то что работал я много (а вернее, благодаря тому), сон у меня улучшился и на душе стало спокойней. К тому ж июль выдался на редкость по-июльски (термин далеко не ироничный; как часто в июле случается октябрь или даже ноябрь, портящий настроение и угнетающий), итак, по-июльски теплый, но не знойный, с легкими освежающими дождиками, и я оправился, окреп, проводя постоянно время в хорошо озелененном районе Совета министров, на свежем воздухе и все-таки при деле. С питанием также улучшилось. Днем я обедал в расположенной неподалеку от Совета министров довольно приличной столовой, куда ходили даже некоторые низовые работники этого учреждения и работники охраны (однажды я обедал за одним столиком с сержантом из охраны). Так проходили дни, но терпение мое не истощалось, даже наоборот, я втянулся в ритм. Поэтому, когда однажды Саливоненко вышел один и направился в сторону парка (я внимательно обследовал весь район и нашел, что для меня это наиболее пригодный участок, но, к сожалению, Саливоненко либо уезжал на автомобиле, либо шел с группой сослуживцев, а случалось даже и один, но вниз по шумным и людным улицам), итак, когда Саливоненко вышел один, направившись в сторону парка, я даже испытал легкое разочарование, свойственное концу всякой интересной работы.
Саливоненко жил неподалеку (я проследил), и к дому его (великолепному пятиэтажному красавцу) можно было выйти и через парк (я не бездумно отметил парк, а именно потому). Однако Саливоненко ни разу этой дорогой не пользовался, не знаю почему, я даже начал подозревать, не заметил ли он чего-либо, но сразу же подобное отверг, поскольку вел себя весьма конспиративно: чтоб не бросаться в глаза, каждый день в меру своих скромных возможностей одевался по-разному, меняя рубахи, благо было тепло. Пиджака у меня всего два, и то один драный, в котором в этот район города ходить неприлично, так что, будь похолодней, мне пришлось бы все время ходить в выходном вельветовом, что весьма могло бы меня подвести. В вельветовом пиджаке я вообще выделяюсь и на меня обращают внимание даже такие красивые женщины, которые редко кого одаряют взглядом.
Вечер (был уже вечер, Саливоненко задержался, и я подумал, не проморгал ли его, но он вдруг вышел из совершенно другого подъезда), вечер, в который мне предстояло действовать, был удивительно хорош (наверно, потому Саливоненко и избрал путь через парк). Правда, в июле время где-то около восьми назвать вечером можно лишь весьма условно… Солнце опустилось и стало совершенно мягким, бархатным на ощупь, а по виду придало воздуху кремовый уютный цвет… В парке вольно, по-лесному пахло грибами, свежей травой, мокрыми стволами деревьев после легкого дождика (сырая древесина обладает запахом спирта, и именно она придает лесному воздуху веселящий сердце аромат, это я узнал позже). Саливоненко шел, глубоко дыша, держа шляпу в руке, красивый мужчина (славянский профиль и восточные глаза), красивый мужчина с серебряной мягкой шевелюрой. Я осторожно крался сзади между деревьев, но, очевидно, красота природы подействовала и на меня, так что я упустил благоприятный для нападения момент, пока Саливоненко находился в глухой части парка у забора… Далее уже были довольно многолюдные аллеи, по которым, я знал, ему следовало идти, чтобы пересечь парк и выйти к своему дому. Однако в тот день (такие дни бывают), в тот день словно судьба и обстоятельства шли мне навстречу и не усугубляли, а исправляли все мои упущения. Дойдя до поворота, Саливоненко не вышел на людную аллею, а, наоборот, начал забирать вправо, в места вовсе ныне глухие. Я говорю «ныне», ибо ранее тут были места весьма шумные и располагался эстрадный Театр миниатюр… Однако еще с весны (я бывал здесь весной раза два или три, чтоб смотреть на девушек, когда получил передышку в борьбе за койко-место), еще с весны тут начата была перейстройка, потом заброшена, театр стоял в разобранном виде, без крыши и окон, валялся вокруг кирпич, кучи известки, прочий строительный хлам, были какие-то кучи земли, недорытые траншеи, и место вовсе стало безлюдным. Вот сюда-то и направлялся почему-то Саливоненко. Я следовал не сзади уже, а параллельным курсом, обойдя с фланга и отрезая дорогу Саливоненко к людным местам. Саливоненко обошел стройку с тыла, и в тот момент, когда он находился между стройкой и глухим забором парка, я и выскочил. Я хотел начать издевательски цинично, попав ему в тон и словно продолжая прерванный телефонный разговор, но в новой ситуации: когда я уже диктовал бы, а он бы нервничал… Однако вместо этого, сам не справившись с нервами и возбуждением (в решительной, завершающей стадии я вновь перешел на примитивный уровень неорганизованных эмоций), не справившись, я крикнул звонко:
– Значит, я выдавал себя за специалиста по небьющемуся стеклу?! Сталинский клеветник!.. Сталинская шкура!..
Саливоненко ахнул, быстро огляделся и побежал от меня вниз по склону. Я выхватил из кармана замок от тумбочки с острыми краями и, зажав его в кулаке, кинулся следом…
Здесь необходимо прерваться для объяснений. То, что крупный работник Главка побежал от меня, снова отщепенца, в который раз свидетельствует об удивительной неразберихе, которая на короткое время, непосредственно после публичных хрущевских разоблечений сталинских ужасов и преступлений, воцарилась в государственных и общественных отношениях. Деятельность карательных органов оказалась публично опороченной настолько, что даже число молодых людей, желающих посвятить себя этого рода работе, то есть пополнить органы охраны, существенно сократилось, а в училищах подобного профиля оказался недобор, в то время как еще недавно они пользовались популярностью, да и спустя некоторый срок они вновь были переполнены. В этой государственной обстановке Саливоненко сразу понял, увидев меня в определенном состоянии, свойственном тогда главным образом людям реабилитированным, Саливоненко сразу понял, что публичный скандал с привлечением органов охраны, не имеющих в тот период четких инструкций, запутанных окончательно дикими полулегальными обличительными речами главы государства Хрущева и потому занимающихся несвойственными им и неприятными мероприятиями, так называемыми исправлениями прежних несправедливостей, массовыми извинениями перед бывшими заключенными, а также перед членами их семей, что в какой-то степени парализовало на время их активную деятельность, – в такой обстановке, понял Саливоненко, публичный скандал будет выгоден скорей мне, отщепенцу, чем ему, ответработнику. Тем более с первых же слов я придал этому скандалу политический характер. Но все это я понял и осмыслил лишь впоследствии, тогда же бегство Саливоненко отнес исключительно на свой счет. Саливоненко мне настичь не удалось. Я был намного моложе его, однако, несмотря на то что в последнюю неделю слежки за Саливоненко несколько окреп, все ж сказывалось систематическое недоедание, нервные потрясения и побои. В частности, во время бега у меня снова закололо в груди, как тогда ночью, и я начал задыхаться. Потому, остановившись, я изо всех сил метнул замок и попал им Саливоненко между лопаток. Саливоненко вздрогнул, пригнул голову, но бега не замедлил и вскоре скрылся за кустами. Искать замок, чтоб им вновь вооружиться, было бессмысленно: он покатился куда-то вниз по склону. Я побрел зачем-то назад, к верхнему выходу из парка (скорей по привычке), хоть спокойно мог также спуститься и выйти через нижние ворота на улицу, откуда, кстати, шел к общежитию прямой трамвай. Устало переставляя ноги, перегорев, я медленно поднимался по тропке. Вдруг, нечаянно подняв голову, я остановился потрясенный. Молоденькая девушка небесной красоты стояла здесь, в этом захламленном уединенном месте, среди куч битого кирпича. Рядом с ней сразу поблек не только облик всех моих фавориток из библиотеки, но и образ Нели из газетного архива. Такого совершенства я не мог вообразить даже в самых счастливых снах. Ее стройные ножки с аккуратными икрами (мне очень хотелось поцеловать именно икры на ее ножках), ее стройные ножки были покрыты ровным бронзовым загаром. Цыганская юбка, раздутая колоколом (по моде сезона), нависала над круглыми коленками и закреплена была поясом, охватывающим тонкую талию… Две игрушечные точеные груденочки грациозно оттягивали прозрачную блузку, под которой виднелось умопомрачительное тело и не менее умопомрачительная, отделанная кружевами розовая комбинация. Точеная шейка подымалась из выреза блузки, а на шее этой росло самое прекрасное в этом прекрасном существе, именно головка, лишенная даже малейших недостатков. Здесь все было на месте и дополняло друг друга: густые русые волосы, которые хотелось понюхать, маленький носик, вызывающий радостное восхищение, и пунцовые губки, вызывающие прилив ласковой тоски… Такая девушка может привести в восторг и растерянность даже более удачливых людей, чем я…
Я старался не шелохнуться и не дышать (хоть после бега мне хотелось громко отдышаться и откашляться, ибо грудь покалывало). Я старался не дышать, чтоб не напугать девушку, радостно сознавая, что здесь, в уединенном месте, она совершенно беззащитна и единственный человек, способный защитить ее от грубого посягательства и уже защищает своим присутствием, – это я, незаметно стоящий за кустами. Мысль эта умилила меня до слез, и я осторожно вытер глаза мизинцем. Грудь у меня покалывало, однако сердце мое, горячее от ненависти, остыло до уровня приятного и милосердного. В то короткое мгновение я любил всех и готов был со слезами мириться со всеми (даже со сталинистами) и говорить со всеми по душам.
Уже потемнело. В здании республиканского Совета министров, виднеющемся за забором, были освещены большие красивые окна, какая-то редкая в городе, очевидно лесная, птица, перелетая с дерева на дерево, шурша листвой, издавала свистящие звуки, со стороны танцплощадки слышалась мелодия непритязательного, может быть, даже безвкусного вальсишки. У меня сильно и по-новому билось сердце, и очень хотелось долгого полного счастья… Как никогда ранее хотелось… Меж тем девушка все не уходила, поглядывая на маленькие часики у запястья (я, кажется, еще не описывал ее руки. Мне кажется, именно таковыми должны были бы быть утраченные руки Венеры Милосской. Стройные, но не худые, обнаженные, покрытые тем же, что и ножки, ровным загаром). Подумав о ее обнаженных руках, я тут же подумал, что, после того как солнце зашло, стало прохладнее и девушке, пожалуй, холодно. На мне пиджака не было, но, поскольку с утра небо хмурилось, я надел легкую курточку, купленную недавно на деньги, полученные за смерть отца, то есть за двухмесячную компенсацию на уровне его последней должности плановика. Курточка эта мне чрезвычайно понравилась, стоила она недорого, и я решил ее приобрести, несколько урезав фонд на развлечения и сладости… Эту курточку я и смогу теперь в крайнем случае предложить девушке. Она все не уходила, но уже начала кусать губки… Надо было прийти ей на помощь, но с чего начать, чтоб не напугать и не вызвать неприятных подозрений? Прежде всего я рассудил, что если сразу выйти из засады, это будет и неприлично, и страшно. Девушка должна быть подготовлена к моему присутствию. Поэтому, неслышно ступая с носка на пятку (такой способ мне известен давно), стараясь не зацепить куст или не наступить на сухую ветку, я отошел подальше, а потом пошел размашисто в направлении девушки, так чтоб она услышала еще издали мои шаги. И точно, девушка ждала моего появления с радостью и надеждой, повернув в сторону шагов свое личико… Увидев меня, она лишь испытала разочарование, но не испугалась. Она ждала кого-то другого. И вдруг как молния сверкнула в мозгу, и я понял, кого она ждала. Она ждала Саливоненко… Собственно, чтобы догадаться об этом, пророком быть не следует, особенно учитывая мою склонность к анализу и сопоставлению. Но надо помнить мое чувственное состояние, близкое к мгновенной, на уровне помешательства, влюбленности, чтоб понять, почему эта догадка пришла ко мне с таким запозданием… Она, великолепная и юная, ждала седого Саливоненко, еще эффектно выглядевшего, занимавшего высокую должность со служебным автомобилем, но все-таки годящегося этой девушке в отцы. Вот почему Саливоненко сразу же кинулся в сторону, пытаясь увести меня с этого места. Он не хотел, чтоб я стал свидетелем его предосудительного свидания, и боялся, что наш политический скандал напугает и травмирует его юную возлюбленную. Что же касается второй причины: уменьшения на тот короткий период авторитета карательных органов – как причины его бегства от меня, отщепенца, – то я понял и осмыслил это, повторяю, лишь впоследствии… Теперь же я понял одно: девушка любила именно Саливоненко… Хмельная ревность волной ударила мне в голову, и милосердие покинуло мое сердце.
– Между прочим, – сказал я, обращаясь к девушке, – я пришел сюда, чтоб открыть вам глаза на подноготную человека, которому вы чересчур доверяете и которым явно увлечены…
Это «между прочим» погубило фразу – я понял тотчас же, как произнес. Оно сделало фразу провинциальной, неискренней и лишенной благородства. Насколько лучше звучало бы просто «я пришел сюда» и т. д. Неудачным было и слово «подноготную», но это уже следствие волнения от неумного начала. Я ожидал чего угодно, начиная говорить. Я понимал, что это рискованно, я ожидал, что девушка испугается, заплачет, растеряется, но я не ожидал, что это юное прекрасное существо может так разъяриться и сразу закричать на меня, употребляя грубые, грязные слова.
– Я знаю, кто тебя подослал! – кричала она. – Ты брат его жены, этой стервозы, у которой воняет изо рта, как из помойки!.. У которой тело покрыто волосами и липкое от пота!.. Евсея тянет на тошноту, когда он ложится с ней в постель!.. Он сам мне в этом признался! – Она громко, нервно захохотала.
Я был ошеломлен. Правда, в свои двадцать девять лет я был девственником по причине своей материальной и моральной ущемленности, но все-таки я вращался в грубой среде рабочего люда, говорившего об интимных отношениях мужчины и женщины довольно прямо и неинтеллигентно. И все-таки многие вещи, касающиеся этих интимных сторон, я слышал впервые так откровенно, с такой по-медицински циничной правдивостью (возможно, девушка была медичкой – я подумал о том после). Правда, в конце этих нецензурных в большинстве своем воплей (иначе не назовешь) она несколько если не оправдала, то объяснила причину случившейся с ней мгновенной истерики (это, конечно, была истерика).
– Вы следите за нами! – крикнула девушка. – Вы не даете нам любить!.. Скоты, ничего у вас не выйдет! Мы с Евсеем будем любить друг друга, пока живы… Вы мучаете нас только за то, что мы красивы, а вы уродливы и противны. – И она заплакала.
В последних этих фразах почти уже не было грубых выражений, а наоборот, некоторая глупая трогательность и отчаяние, которые подчас так украшают слабость, а значит, и красоту женщины и которых я ждал от нее с самого начала, когда решился говорить. Отчаяние и слабость женщины делают любовь мужчины сильней и безумней, то есть он сразу забывает о всем дурном в женщине и помнит лишь о своей природной обязанности защитить слабость – обязанности, которая для влюбленного наиболее сладка. Шагнув к этой слабой, плачущей девушке, я широким жестом снял со своих плеч новую, из сурового полотна летнюю курточку и набросил девушке поверх прозрачной кофточки на ее плечики. Но она не приняла моей защиты, и это, может быть, самое оскорбительное, что возможно для влюбленного мужчины… Она сбросила курточку с плечиков на землю, причем каким-то брезгливым жестом, пнула ее стройной ножкой и крикнула:
– Чего ты суешься со своим вшивым пиджаком, чего ты трогаешь меня со своим рылом уродливым!.. Сестре своей передай – плюю я на нее!.. Евсей будет со мной!..
И она убежала. Я остался стоять, опустив голову. Так меня никогда еще не оскорбляли, даже если учесть, что она меня с кем-то путала, ибо оскорбление в конце концов касалось непосредственно моего лица. В свое время сильно оскорбила меня Неля из газетного архива, назвав меня крысой. Но, во-первых, она впоследствии фактически извинилась своим мягким поведением и взглядом, а во-вторых, в Нелю я все-таки не был так влюблен, как в эту юную блондинку, причем мгновенно и безумно.
Глава шестая
Не прошло и двух дней, как я отомстил этой юной богине, именно богине, ибо, как говорил уже, красивая женщина являлась для меня существом святым и великим, которое заставляло молиться мою душу атеиста. В облике русоголовой, голубоглазой девушки святое для меня существо достигло предела совершенства, но потрясения, испытанные мной, побудили к бунту против созданного мной божества красоты и любви… Робость, пылкое воодушевление, стыд являлись обрядами той религии… Это была единственная религия, которую я исповедовал. Однако, горько разочарованный и глубоко обманутый, я становился и здесь воинствующим атеистом. И русоголовой девушке я отомстил не так, как мстил до сего времени своим обидчикам, не так, как мстят человеку, а так, как мстят высшему существу, то есть тому святому, что имеется в собственной душе. Главным из обрядов любви является стыд, и стоит надсмеяться над этим обрядом, как рушатся и остальные: мечта, робость, воодушевление… Самое священное, прочел я впоследствии у Мережковского, есть самое стыдливое, потому что стыд есть чувство телесной святости. Вот это чувство телесной святости, которое прежде скупо берег для любви, я и отбросил через два дня с рябой уборщицей Надей…
Едва Надя с Колечкой вошла в комнату, где я был один, как я встал, накинул крючок и положил на край стола три рубля… Она поставила веник в угол, посадила Колечку на дальнюю кровать, сама взяла в моей тумбочке пригоршню карамели и положила сыну в ручонку… После чего она начала расстегивать блузку… Жестокость я испытывал первоначально, когда накинул крючок, положил три рубля и Надя начала расстегивать блузку… Потом, когда все началось, я не испытывал ничего, кроме тошноты, гадливости и ужаса перед тем, что происходит со мной… Позднее, когда такие случаи повторялись, я перестал испытывать тошноту, даже научился получать удовольствие, пусть не такое сильное, как испытывал в снах либо в мечтах, кстати с того момента навсегда исчезнувших… Тогда же я в ужасе и отвращении отворачивал свое лицо от потного рябого лица Нади, метавшегося по подушке, стонущего, пытающегося поймать своим ртом мой рот… Все-таки я нашел в себе силы в самый тошный момент вообразить и представить себе в подробностях прекрасное лицо юной надменной красавицы, дабы она вместе со мной разделила ужас и позор… Но потом, отворачивая все дальше свое лицо от Надиных поцелуев, я увидел мельком Колечку, сидящего на койке и сосущего свой кулачок, полный размякшей карамели. Мне стало так нехорошо, что, забыв обо всем, я вскочил, стыдливо отворачиваясь и наглухо застегиваясь, даже ворот рубахи под самый ворот застегнув. Надя же продолжала лежать на койке, в бесстыдстве разметавшись, однако, глянув несколько раз, я вдруг ощутил, что это было уже не уличное продажное бесстыдство, а какое-то женское, спокойное, чуть ли не доверчивое… Я, новичок, не знал еще, что так лежат усталые от искренней страсти женщины. Лицо ее также стало мягче, порок исчез с него, и появились даже миловидность и тишина. Ошеломленный новым поворотом, я стоял в растерянности посреди комнаты. Так продолжалась минута-другая. Надя встала, натянула юбку, застегнула блузку и тихо сказала:
– Приходи ко мне, я тебе адрес оставлю…
Это было уже слишком. Разом вспомнилось отвращение и тошнота, которые я испытывал, когда Надя ртом своим ловила мой рот, и я понял, что на ее глупое предложение следует ответить какой-нибудь грубостью… Мгновенно перебрав в уме несколько, я остановился на трех рублях, которые по-прежнему лежали с края стола.
– Не забудь, – сказал я, криво улыбнувшись и щелчком подвинув три рубля к Наде.
После чего вышел из комнаты, где Надя приступила к уборке.
А к вечеру, вернувшись в комнату после долгой прогулки, во время которой заметил, что поглядываю на встречных женщин по-новому, вернувшись в комнату, я обнаружил, что совершилось то, чего я опасался все три года моей бесправной жизни здесь и чего мне до сих пор удавалось избегать с помощью покровителей. Именно койка моя стояла голой и с обнаженной панцирной сеткой приобрела тощий нежилой вид. У меня отобрали постель, на этот раз без всяких предупреждений, как было прежде во время моего бесправия… Но в чем я уверен, это в том, что Надя непосредственно в данном случае к отбору постели не причастна. Возможно, за ней следили. Мне вспоминается теперь, что кто-то дергал дверь в самый разгар наших взаимоотношений. И все ж если в прошлый раз у меня пытались отобрать постель именно благодаря скандалу с Надей, когда я толкнул в отвращении ее Колечку, перелапавшего и испортившего мои продукты из тумбочки, то ныне это, конечно, были интриги Колесника вместе с комендантшей Софьей Ивановной… Именно новое мое положение равноправного гражданина, лишившее их возможности к грубому произволу в мой адрес, толкнуло этих людей на интриги и козни, которые бывают весьма даже эффективней грубого произвола, где в руках у интриганов имеется административная власть.
Я бросился в жилконтору. За столом Маргулиса сидел новый начальник, молодой, но рано полысевший. Лишь увидав начальника, я понял, что мой мгновенный порыв в жилконтору был нелеп, ибо давно уже рабочий день окончен. Побежал я под воздействием не разума, а порыва, однако в данном случае мне повезло, и случайно начальник задержался по какому-то делу.
– Я Цвибышев, – крикнул я начальнику чуть ли не с порога.
– Так, – ответил начальник с таким видом, будто он подтверждает действительность моей фамилии.
– Кто дал право отбирать у меня постель?
– Но что можно сделать, дорогой? – сказал мне начальник. – У нас ведомственное общежитие… Мы обязаны предоставлять койко-место лишь рабочим-строителям, в которых испытываем нужду.
То, что этот начальник говорил мягко, ввело меня в заблуждение. Подсознательно я никак не мог еще освободиться от своего прошлого бесправия и от примитивно унизительного стиля, с которым ранее со мной общались должностные лица. И я не понял, что передо мной работник новой эпохи и нового, послесталинского стиля. Потому, приняв его мягкий стиль за податливость, я решил, что его легко, сразу и без разведки, можно запугать… И вновь, в который раз, я сразу выложил козыри.
– Я сын генерал-лейтенанта! – крикнул я. – Ясно?.. Вам звонили по моему поводу из военной прокуратуры?
– Звонили, – вежливо ответил начальник. – Мы пошли им навстречу, поскольку речь шла о вашем временном пребывании… Но где же предел? Если они так хорошо к вам относятся, то пусть дадут вам жилье…
Он попал в самую точку, в самое мое больное место и, кажется, почувствовал это, ибо слегка, вежливо правда, улыбнулся… Эта ядовитая вежливая улыбка и толкнула меня на новую глупость.
– Вы не указывайте военной прокуратуре, что она должна делать… Ясно? Я буду здесь находиться и занимать койко-место сколько потребуется… Ясно?.. Военная прокуратура укажет вам, и не пикнете… Ясно?
Фраза вышла нелепая и какая-то военная с многочисленными «ясно». Это я понял, как всегда, тотчас, едва произнес. Смысл фразы получался таков, будто я занимаю койко-место в этом общежитии не от безвыходности и отсутствия иного ночлега, а чуть ли не по заданию военной прокуратуры.
– Ну уж нет, молодой человек, – сказал начальник, – времена беззакония и произвола кончились… Военная прокуратура не имеет права нарушать закон и поселять посторонних в ведомственное общежитие.
И тут не знаю, что получилось. Может, от отчаяния, от ощущения того, что все, чего я боялся и против чего боролся три года, свершилось ныне так просто, причем нынешнее мое положение лишает меня возможности просить, унижаться и искать повод действовать на начальника через покровителей, может, оттого я как-то потерял ориентиры и, яростно, сломя голову вступив в противоборство, вынужден был, поскольку мой враг взял на вооружение новые, послесталинские веяния, использовать старое, консервативное сталинское начало.
– Нет уж, – сказал я, размахивая угрожающе пальцем, – военная прокуратура прикажет, и ты (я сказал со злости «ты»), и ты со своим законом знаешь куда пойдешь?.. Прикажут лошадей в комнаты поселить – поселишь (об этом сравнении можно сказать, что оно не очень удачно. Однако назавтра в общежитии его приводили как пример моей психической болезни. Я сам слыхал, как о том шептались на кухне жены семейных).
– Вот что, молодой человек, – сказал начальник, – я думал, у вас хватит такта не вынуждать меня объявить и вторую, главную может быть, причину изъятия у вас постели… Понимаете, живут у нас молодые ребята, холостяки… – Он усмехнулся. – Вы человек уже немолодой, под тридцать… Но устраивать в комнатах разврат мы не позволим… Это плохо влияет на молодежь… Так мы и скажем, если позвонят из военной прокуратуры. Если вам это выгодно, так что ж…
Вот когда этот новый, мягкий, послесталинский стиль показал свои коготки… Я был убит, раздавлен и обезоружен, ибо просьбы и унижения даже во имя сохранения ночлега были невозможны из-за возвращенного мне реабилитацией достоинства, а противоборство невозможно также, ибо не только положение мое до конца не было ясно, но даже и позиция моя по поводу этого положения была путана, по крайней мере в той части, где я пытался запугать начальника прежними методами произвола, которые чуть ли не применят карательные органы, дабы сохранить за мной койко-место. Вот тут-то начальник и выложил свой козырь, прибереженный под самый конец, именно насчет моей связи с уборщицей Надей, причем меня даже в жар бросило, поскольку я представил, что за нами подглядывали в замочную скважину, куда по неопытности я не вставил ключ.
– Что же делать, – сказал я чуть ли не вслух, – что делать?.. Вы думаете, взяли меня за горло… А докажите… Да… Пусть кто-нибудь подойдет к моим вещам в шкафу или тумбочке, глаза выбью… Попробуйте не вернуть постель, сталинские морды!..
Я защищался как мог, отбросив щепетильность и душевную сложность… В общем, если вспомнить, положение мое начало налаживаться именно за счет простоты и крайних понятий, во время слежки за Саливоненко я даже окреп. И наоборот, душевные сложности, размышления и любовь привели меня, в который уже раз, на грань катастрофы…
Пнув ногой стул и сильно хлопнув дверью, дабы хоть частично растратить накопившуюся нервную энергию, я вышел от начальника, и, придя в комнату, не глядя на жильцов, которые при моем появлении замолкли, стараясь не встречаться со мной глазами, не глядя ни на кого, я начал готовиться к ночлегу… Если б койка моя была обычна, то есть с обычной, а не панцирной сеткой, то положение мое вовсе было бы плачевно. Но в период дружбы моей с Береговым он раздобыл себе и мне койки с панцирной сеткой, более мягкой, пружинистой и густой, не имеющей в соединениях металлических звеньев острых, жестких крючков… Вместо матраца я положил несколько пар белья, которое собирался отдать в стирку, однако ныне задержу до получения назад постели. Конечно, они заняли лишь часть панцирной сетки, и я выложил чуть ли не все содержимое чемодана: рубашки, майки, даже носки. В дело пошло и несколько старых газет, обнаруженных мной в тумбочке. В резерве у меня оставались главные, так называемые основные вещи, которые можно было использовать вместо постели, а именно: пиджак на каждый день, пальто и плащ… Выходной вельветовый пиджак, новую летнюю курточку и брюки я использовать не решился, дабы не измять и не лишить себя возможности в исключительных случаях иметь приличный вид. Надо было распределить, что под голову, а что в качестве одеяла. Лучшим изголовьем было, конечно, пальто, особенно учитывая металлическую полосу, скрепляющую в конце сетку, полоса эта ощущалась даже сквозь втрое сложенный пиджак. Но, использовав таким образом пальто, я лишился бы хорошего одеяла, каким оно являлось и каким не могли явиться ни плащ, ни пиджак, вместе взятые… Постояв так и подумав, я вынужден был, сокрушенно вздохнув, присовокупить в качестве постельной принадлежности также и выходной вельветовый пиджак, использовав его в изголовье и стараясь сложить как можно аккуратнее – рукав в рукав. Таким образом, оба пиджака были в изголовье, пальто в качестве одеяла, а плащом я укутал ноги. Пока я стелил, все жильцы, кроме Берегового, который с невозмутимым видом читал, лежа на своей постели, юмористические рассказы Остапа Вишни, все жильцы следили за мной с каким-то хмурым сочувствием и жалостью, которые меня раздражали… Жуков перемигивался с Петровым, они вышли, позвали Саламова, Саламов вернулся и предложил мне две простыни… Во-первых, что мне две тонкие простыни, разве защитят они от жесткой сетки или холода (ночи, особенно перед рассветом, все ж были холодные, хоть бы и в июле, поскольку Береговой настежь распахивал окно), итак, что мне две простыни? Во-вторых, терпеть не могу этой мышиной возни и помощи со стороны людей, которые даже и не разговаривали со мной, и помощь предложили через посредника. Поэтому я не только в достаточно обидной форме отказался от простыней, взяв их из рук Саламова и молча бросив назад – одну на постель Петрова, вторую на постель Жукова, но, чтоб продемонстрировать свою твердость и права в комнате, несмотря на отобранную постель, подошел широким шагом к радио и выключил его. Береговой поднял голову, однако промолчал. Я лег. Первоначально было, конечно, непривычно, но потом я приспособился, подобрал ноги, дабы не лежали они на металлической полосе, нашел удобное положение почти на спине, но чуть повернувшись на правый бок, и таким образом даже вздремнул. Однако ночью, проснувшись от холода, с затекшими ногами, я начал ворочаться, распрямил ноющие колени и при этом угодил пятками на холодную металлическую полосу. Чем более я пытался улечься удобнее, тем более все из-под меня и с меня расползалось, шелестели и рвались газеты, и тут-то я понял подлинную цену мягкому матрацу, подушке и одеялу, в ночные часы доставляющим такое удовольствие телу, что большее удовольствие, чем сон на мягкой постели, даже трудно было придумать… Конечно же, всю ночь я не спал, тело мое было словно истерзано, но это как раз и позволило мне окончательно вернуться в состояние ожесточения и крайней твердости… Когда все жильцы утром ушли, я вздремнул часа три на постели Саламова, предварительно накинув крючок. После этого я вынул список моих врагов и вписал туда Жукова, Петрова и нового начальника, фамилию которого я пока не знал и обозначил двумя буквами: Н. Н. (новый начальник). Я отвинтил от койки металлический болт с крупной нарезкой, и он на первых порах вполне мог заменить мне утраченный замок от тумбочки. Зажав болт в кулаке, я некоторое время тренировался, нанося удары воображаемому врагу. Помимо болта, в подвале, в комнате, предназначенной для стирки, я обнаружил довольно увесистый предмет продолговатой формы, железный или чугунный, с удобной ручкой… В предмете были пазы и просверлено несколько отверстий, – очевидно, он был какой-то деталью чего-то мне неизвестного и кем-то сюда с неизвестной же целью принесенной… Рукоять я обмотал мягкой тряпочкой, чтоб руке было удобно, сам же предмет оттер от ржавчины наждачной бумагой, найденной под кроватью у Жукова. За этой работой незаметно прошло несколько часов, в течение которых я ни с кем не разговаривал, никого не видел. Тем не менее в тот же день пошли слухи о том, что я психически больной. Меня начали опасаться и избегать. Если помните, в общежитии жил уже подлинный психический больной, именно каменщик Адам, который тратил большую часть своего заработка на портреты знаменитых людей и дарил эти портреты в детские сады. Но Адама этого все, кроме меня, любили и не позволяли обижать… Впрочем, если подумать спокойно, беспристрастно, на что я тогда, будучи озлобленным, не имел возможности, то оно и понятно. На Руси любят только блаженненьких. Я же ходил по коридору шумно, всюду заглядывал, не уступая никому дороги, а наоборот, желая столкнуться… В состоянии моем снова была значительная доля капризности, причем капризности мрачной, и вскоре я услышал на общественной кухне, парламенте нашего общежития, как жены семейных, депутаты этого парламента (мысленно давая такие сравнения, я потешался), жены семейных роптали в том смысле, что я, мол, пугаю детей, и собирались куда-то писать. Не знаю, писали ли они, – во всяком случае, после того, как у меня отобрали постель, ничего более не предпринималось конкретного и административного, с одной стороны, наверное в расчете, что я сам не выдержу ночевок на голых металлических пружинах, с другой же стороны, все же, наверное, принимая во внимание звонок из военной прокуратуры в мою защиту. Так что на отбор постели они, пожалуй, пошли из крайнего пристрастия, убедив в том и даже уговорив нового начальника, ибо, не сообщи я в райком на комендантшу и не избей Колесника, желая расплатиться за унижения, им сочиненные, все, возможно, пришло бы в равновесие, я имел бы возможность продолжительное, может очень продолжительное, время жить на койко-месте с казенной постелью. Администрация смотрела бы на это сквозь пальцы, лишь бы я оплачивал аккуратно койко-место. То есть согласись я забыть прошлые унижения и удовлетворись реабилитацией в той форме, в которой она была для меня проведена. Но я сам нарушил равновесие, в частности напав на Колесника и тем самым сделав контрпроцесс неизбежным. Интересен еще один факт. Григоренко, мой друг, показал себя человеком совершенно чужим, не мне как личности, а мне как идее. Это требует пояснения. Каждый человек, помимо своей личности, несет еще и определенную идею, не в социальном лишь, а даже в более широком, общественно-историческом смысле. Так вот, Григоренко, хорошо относясь ко мне лично, принадлежал в то же время к иной общественно-исторической идее и вследствие этого, потеряв ориентировку, попытался самым нелепейшим образом агитировать на общественной кухне, этой цитадели враждебности ко мне, агитировать в мою пользу, пытаясь возмутить общественное мнение совершенными против меня несправедливостями.
– Отобрали у человека постель! – кричал он среди наиболее активного элемента общежития, жен семейных. – Спит на пружинах человек, все тело в полосах…
Но жены семейных его быстро заклевали:
– А так и надо. Бардак из общежития устроил, детей пугает… Совсем его выгнать… Чего жалеть…
Услышав такое, я вовсе перестал с Григоренко общаться, несколько раз прошел не здороваясь, на какой-то его вопрос ответил грубо, и мы довольно быстро разошлись (я избегал его также из-за того, что мне было стыдно: я, сын генерал-лейтенанта, по-прежнему пребываю в ничтожестве). С Рахутиным я вообще никогда особым приятелем не был и общался с ним исключительно через Григоренко, к тому ж по поводу отца-генерала Рахутин может весьма сильно съязвить, он человек с юмором, хоть и глуп.
Между тем, когда первые порывы, вызванные совершенной против меня несправедливостью, иссякли, я притих и замкнулся. Не то чтоб я смирился. Я нашел в себе силы побороть эмоциональную лихорадку и вернуться к тому четкому ритму, которым характеризовался период слежки за Саливоненко и который следовало положить в основу организационных принципов борьбы.
Как-то на койке своей я обнаружил старую тяжелую штору от большого окна Ленуголка и диванную подушечку. Штора эта из плотного материала была явно списана по старости и грубости и заменена шелковой (я это проверил). Но, сложенная втрое, штора могла в какой-то степени заменить матрац и, будучи длинной, несколько подвернутая в изголовье, служить опорой для подушечки. Не знаю, кто мне это подбросил, однако, измученный сном на пружинах, я не нашел в себе сил и принципиальности отказаться и в этом вопросе пошел на небольшой компромисс, ибо для рассчитанного мной плана борьбы необходима была хорошая физическая форма, а значит, хороший сон. Первоначально я решил, что штору и диванную подушечку подбросил кто-то из моих бывших друзей – тот же Григоренко, потом подумал об уборщице Наде (я старался о ней не вспоминать, но в этом ракурсе для анализа вспомнил). Позднее мне начало казаться, и на то имелись определенные намеки, что, как ни странно, в тайной благотворительности участвовала сама комендантша Софья Ивановна. Будучи человеком тучным, Софья Ивановна не могла, подобно мне, долго находиться в ненависти, однако постель вернуть также не могла по ряду сложных административно-психологических причин. Как бы там ни было, после нескольких тяжелых, растерзанных ночей я начал спать и высыпаться, так что даже, наоборот, обычная моя бессонница исчезла… В результате же слухов о моей психической болезни приснился мне сон, который меня скорее рассмешил, чем напугал. Разумеется, рассмешил, когда я проснулся и вспомнил его. Снилось мне, что я пришел в сумасшедший дом в качестве корреспондента (некогда я мечтал о данной профессии, однако по положению в обществе она была мне недоступна, я помню, как Колесник крикнул: «Какое право ты имеешь заниматься идеологической работой?»). Так вот – сумасшедший дом. Дом этот – просто большая комната, и в ней ходят обычные молодые люди в пиджаках, но не общаясь друг с другом. Посреди комнаты за столом сидит машинистка, печатает. Подхожу к ней.
– Мне б поговорить с кем-нибудь из товарищей…
Машинистка подозвала одного из молодых людей.
– Проводи товарища, – сказала она ему, – проводи к остановке трамвая и по дороге расскажи, как мы здесь живем.
И вдруг этот молодой человек, до того совершенно спокойный, вдруг он разволновался, схватил какой-то прибор, вроде батарейного аккумулятора, но величиной с термос, и приставил его мне пониже спины, то есть, прямо говоря, к заднему месту.
– Хочет знать, как мы здесь живем! – крикнул молодой человек (иные обитатели сумасшедшего дома, кажется, не обратили внимания на этот инцидент). – Хочет знать – пусть чувствует на себе, сладко ли нам…
Я абсолютно ничего особого не ощущаю, вернее, ощущаю то же, что ощущал бы, если б мне приставили к филейным частям пустой термос или любой нейтральный предмет. Тем не менее в сильном испуге я прогибаюсь, и мне страшно во сне. Проснувшись же и вспомнив, я рассмеялся, и у меня как-то поднялось настроение.
По утрам я начал активно заниматься физической зарядкой и в умывальнике обтирать тело холодной водой, стоя перед зеркалом, если никого в умывальнике не было, играя мускулами и уже через неделю находя, что дряблость исчезает… Культ силы и оружия постепенно овладел мной так, что даже чисто абстрактно начал приносить радость. Собственно, чувство это не новое, силу и оружие я любил давно, еще с детства. Но материальные невзгоды (вернее, материальное ничтожество, ибо даже материальные невзгоды – это слишком оптимистично для моего прежнего положения), итак, материальное ничтожество и бесправие заставили меня бороться за существование иными методами, поисками покровителей, что исключает силу и прямое противоборство. Ныне, благодаря реабилитации (и тут следует отдать ей должное), все изменилось. Примерно к тому времени, то есть к систематическим тренировкам, физическим упражнениям (я купил гимнастическую резину и с упоением терзал ею свои мышцы, часто ощупывал их в разных местах: на руках, на груди, на животе), итак, примерно к этому времени и относится мое первое продуманное выступление против сталинистов.
В списке моих врагов был существенный недостаток, который я осознавал, а именно наличие личностного элемента, придающее идейно-политической борьбе бытовую окраску. Дело дошло до того, что, как я уже указывал, в список даже затесалось несколько левых и антисталинистов (Бройды, Вава). Меня это угнетало, хоть я понимал, что это неизбежно. Понимал, разумеется, не так широко, как впоследствии, когда пришел к выводу, что бытовой элемент вообще есть основа политической борьбы и именно он усложняет ее до такой степени, что приводит к грани искусства, где лишь таланты добиваются успеха. Не будь этого бытового элемента, не было бы более ясной области человеческой деятельности, чем политика, а значит, и более лучшего поприща для людей честных… Должен сказать, что уже несколько дней я занимался тем, что впоследствии получило наименование «политического патрулирования улиц» (термин этот мой понравился и был принят потом организацией). Итак, политическое патрулирование состояло в том, что я бродил, прислушиваясь к разговорам и беря на заметку элемент, высказывающийся в пользу Сталина. Хоть в те дни печатные органы и официальные лица высказывались достаточно однообразно и недискуссионно, клеймя культ личности, дискуссия в обществе существовала, но переместилась в частные места, на улицу и в квартиры граждан, то есть не только антисталинисты, но и сталинисты, недовольные официальностью, способствовали пробуждению общества от политической спячки, а именно спячка составляла основу, альфу и омегу прежних методов. В этой обстановке, осуществляя политическое патрулирование улиц (ибо частные квартиры были мне недоступны и с обыском я ворваться, конечно же, не мог), осуществляя патрулирование, я довольно часто слышал дискуссии либо просто разговоры, полные главным образом неприязни к Хрущеву и любви к Сталину. К счастью, жизнь в общежитии закалила меня в этом смысле, и по мелочам я не кидался. Например, на такие реплики, встречавшиеся довольно часто, как: «При Сталине было все дешево и снижение цен», «При Сталине не было такого хулиганства и воровства», «Сталин хотел выслать всех евреев на Север, и правильно – меньше спекулировать будут», «Если б не Сталин, проиграла б Россия войну» и т. д., на подобные реплики я даже не реагировал, разве что первое время разглядывал лица говоривших для анализа. Но и анализ я вскоре делать прекратил, ибо это были обычные лица, чаще простонародные, но иногда и интеллигентные, чаще мужские, но в немалой степени и женские, чаще пожилого возраста, но немало и молодежи, чаще подвыпившие, однако нередко и в трезвом виде (отсюда видно, что какие-то элементы анализа все же существовали первоначально). Правда, бывали случаи, когда я за гражданами подобного рода следил и записывал их адреса либо адреса учреждений, где они работали. В блокнот я записывал характерную реплику из речи сталиниста и его адрес (лучше домашний, ибо в учреждении неясно, то ли он пришел по делу, то ли там постоянно работает). Чтоб не отвлекаться, не занимать места (эти записи впоследствии не пригодились), я приведу лишь одну для характеристики… Например: «Сталин – правая рука Ленина – адрес: улица Урицкого, пять…» Из этой записи (каламбурность ее в том смысле, что улица также названа фамилией политического деятеля), из этой записи видна ненужность и никчемность проделанной мной работы, там не указывались ни внешний вид, ни возраст, ни прочие приметы идейного противника. Но в то же время ощущалась уже политическая направленность моей борьбы, лишенная личных бытовых элементов. Именно результатом политического патрулирования является первое мое идейное избиение. Сталинист вступил в идейную схватку не со мной, а с неким гражданином интеллигентного вида, сидящим с ним за одним столиком (дело было в столовой). Особыми аргументами доводы его не блистали, тут все те же ординарные перечисления: «Сталин снижал цены, Сталин выиграл войну» и прочее, весь набор… Но меня поразило, как с помощью этих стандартных доводов сталинист легко расправлялся с аргументами своего оппонента, у которого самые личные, полные искренности доводы повисали в воздухе, не встречая поддержки других обедающих (спор привлек всеобщее внимание). Например, антисталинист рассказал о своем сыне, который был посажен за анекдот и умер в тюрьме двадцати пяти лет от тифа, а вскоре умерла и жена, не выдержав горя, и вот он теперь один, ходит по столовым, хоть у него язва, каждую ночь болит… За что же так?.. Он, кажется, даже всплакнул. Вот где ошибка – слезы. Он разозлил даже и меня, единомышленника, глубоко этому человеку сочувствующего. Что же говорить о массе обедающих? Сразу несколько человек сказало, что у них тоже погибли сыновья, не за подленькие анекдоты, а за родину. Один из обедающих сталинистов оказался нервным и с землистым лицом (как и у антисталиниста. Вообще же физически слабые сталинисты попадаются гораздо реже, чем антисталинисты, и физически слабые сталинисты, как правило, люди нервные, активные, настойчивые антисемиты, поскольку они недовольны, что из-за физической слабости их самих можно принять за евреев, каковых они сплошь считают физически слабыми и потому ненавидящими Сталина, вождя мускулов и силы, что, конечно, схематично). И действительно, подойдя к антисталинисту (который, судя по внешнему виду, евреем не был), худой сталинист не совсем логично крикнул, что в их воинской части не было ни одного еврея, единственный еврей по дороге на фронт со страха застрелился. В конечном итоге, под воздействием всестороннего напора и испугавшись упреков национального характера, антисталинист признался, что, несмотря ни на что, Сталин обладал рядом достоинств в государственном масштабе. Короче, пошел на попятную. Вот что заставило меня действовать немедленно, вопреки рассудку и организационному расчету, ибо первоначально я рассчитывал организовать за матерым сталинистом слежку и расправиться с ним, соблюдая личную безопасность (пригодился бы опыт расправы над Саливоненко). Но в данном случае вопрос шел уже о публичной защите идеи, и личное отошло на второй план. Прежде всего необходимо было опровергнуть аргументы сталинистов, поскольку предыдущий оратор от нас, антисталинистов, здорово напутал и напортил из-за душевной слабости. Подойдя к столику матерого сталиниста, но обращаясь не к нему, а к массе обедающих, я сказал:
– Товарищи, вдумайтесь в то, что пытается вам внушить этот сталинский прихлебатель. – И коротким острым жестом политического оратора я как бы вонзил палец в матерого сталиниста, от неожиданности растерявшегося (растерялись все, в том числе и антисталинист). – Лучших людей нашего общества положили в могилу, – продолжал я, вдохновляясь, – поэтов, старых большевиков, генералов… Тысячи, сотни тысяч, миллионы разрушенных судеб… Вот, например, у этого товарища, – я повернулся к антисталинисту, – умер в тюрьме сын… умер молодым… И таких тысячи, сотни тысяч, миллионы (я начал повторяться, поскольку каким-то внутренним чутьем ощутил отсутствие контакта с аудиторией и, наоборот, растущую враждебность после первых секунд недоумения и растерянности). Товарищи, – пытался я все-таки переломить в свою пользу, – существует письмо Владимира Ильича Ленина к съезду, в котором он предупреждает против опасных и преступных наклонностей Сталина…
Матерый сталинист продолжал сидеть, чуть улыбаясь истинно русской загадочной улыбкой, но на меня сбоку набежал сталинист с землистым, больным лицом. Я оттолкнул его со злобой, помешавшей мне быть логичным и хладнокровным, что необходимо в политической агитации… Я хотел было разбить все стандартные аргументы матерого сталиниста, указав, что первоначально снижение цен было возможно, поскольку цены эти были непомерно раздуты войной, а позднее они снижались без учета хозяйственных возможностей (я слышал такую версию), а победа в войне была достигнута огромными жертвами и, вопреки Сталину, благодаря мужеству солдат и находчивости полководцев… И привел бы множество примеров нерасторопности, растерянности и военных ошибок Сталина, которые тогда публиковались…
Позднее, когда первоначальная моя политическая наивность улетучилась, я понял, что поколение победителей никогда не отдает на поругание могилы своих вождей, находящиеся под защитой национального патриотизма. Народ-победитель всегда более склонен к мифотворчеству, в то время как побежденный народ – к ревизии и анализу. Не понимая всего этого тогда, во время произнесения фактически первой моей политической речи в столовой самообслуживания (столовая самообслуживания тогда еще была прогрессивным новшеством послесталинского периода), не понимая всего этого, я тем не менее собственной злобой, помешавшей логичным построениям, был спасен от еще большего озлобления массы обедающих. Как только я оттолкнул сталиниста с землистым лицом, на меня набежало еще несколько из поколения победителей. Я понял ситуацию и вытащил свой последний аргумент, именно болт с крупной нарезкой от своего койко-места. Размахнувшись, я ударил этим болтом не по черепу, как жаждал, а по тарелке с супом матерого сталиниста. Перестав по-русски загадочно улыбаться, сталинист вскочил, поскольку горячий суп ошпарил ему колени. Вскочил и антисталинист.
– Как вы себя ведете, молодой человек? – к моему ужасу (именно ужасу), крикнул антисталинист.
Даже и тогда, в золотой век реабилитации, антисталинисты, подобно всяким пострадавшим элементам, в большинстве не любили друг друга, ревниво относились к страданию друг друга, а в некоторых случаях, при учете собственной выгоды или собственной безопасности, готовы были против своего же брата вступить в союз со сталинистами, которые в основном были гораздо более сплоченны. Так, например, на меня набежала какая-то совершенно посторонняя компания, не принимавшая ранее участия в политической полемике и распивавшая в то время в дальнем конце столовой спиртные напитки. Тем не менее я сосредоточился на матером сталинисте, все-таки ударив его раза два, правда не болтом, который у меня из рук вырвали (к счастью), а кулаком. Я заплатил за это дорогой ценой, ибо, сосредоточившись целиком на матером, на явном сталинисте-профессионале, дал возможность какому-то из сталинистов-любителей, набежавших после распития, безнаказанно ударить меня в спину и точно по больному месту, ибо у меня привычно (уже привычно) застряло в груди нечто острое, и я осторожно пошел из столовой, протянув руки перед собой, ощупывая дорогу, поскольку всякий раз, когда меня били по спине, у меня мутилось в глазах и я на какое-то время как бы терял зрение. С тех пор как началась эта длинная, однообразная цепь политических драк, в области спины у меня произошли какие-то серьезные изменения, так что я даже думал обратиться к врачу. Интересно, что с тех пор, как я почувствовал хронические изменения, меня били всякий раз именно по больному месту, причем люди новые, о больном моем месте не знавшие. Правда, первый раз по спине меня ударили еще у покойного Илиодора, страдальца-антисемита, именно некто Лысиков, друг Орлова, однако тогда все быстро прошло. Систематически побаливать начало после ударов Лойко, так что, даже гонясь за Саливоненко в надежде избить его, гонясь по крутым склонам парка, я чувствовал остроту, идущую от спины к груди, и одышку… Сейчас, получив удар по больному месту и выйдя мимо каких-то взволнованных лиц, осторожно, бережно неся себя, как несут полный стакан воды, не желая его расплескать, я свернул как-то по инстинкту за угол, прошел в ворота и уселся в небольшом дворике, примыкающем к столовой, на пустые пивные бочки. Лучшего места для того, чтобы в безопасности пересидеть, отдышаться, потом поразмыслить и проанализировать происшествие, нельзя было и придумать, а между тем я выбрал его инстинктивно, как животное, которое находит норку, чтоб зализать там рану. Я сидел в захламленном месте, куда редко, очевидно, заглядывали, а значит, достаточно безопасном, и был укрыт грудами тары, в то время как мне сквозь щели открылось хорошее поле наблюдения, причем не только двор, но и улица, и я, например, увидел, как в столовую проследовали два милиционера, вызванные, конечно, по телефону или свистком (у швейцаров в некоторых столовых есть милицейские свистки).
Я сидел долго и в выработанной уже позе (у всех хронических есть такая поза, облегчающая и постепенно утоляющая боль). Мне, например, легче становилось именно стоя, но поскольку стоять я не мог, ибо подкашивались ноги, то сидел на пивной бочке, опустив низко ноги и сильно откинувшись, упираясь затылком в оштукатуренную стену. Сидел как бы выпрямив тело, но под углом к горизонту… Потемнело. Потом потемнело еще сильнее. Зажглось ночное небо… Июльское небо весьма своеобразно (я немного увлекался также и астрономией, но в лихорадке описания событий забыл о том сообщить). Итак, июльское небо своеобразное, и если августовское заметно даже для непосвященного всеобщей густотой, яркостью, крупностью звезд, а также звездопадом, то июльское хоть и менее популярно, однако одаривает знатоков сверканием летнего треугольника (звезды Вега, Данеб и Альтаир), яркой звездой Капеллой на севере, а также хорошей видимостью ряда планет, например Юпитера и Урана в созвездии Девы. Есть также возможность, хоть и небольшая, увидеть таинственную планету Меркурий, которую сам Коперник за всю жизнь так и не смог увидеть… Когда потемнело и зажглись звезды, думаться стало ясней (свойство всех людей, страдающих бессонницей), мысли шли длинной вереницей, цепляясь одна за другую, в частности, подумалось о самоубийстве, а потом, через какие-то этапы, переходы и крутые повороты мысли, каковых ныне не помню, подумалось о необходимости подпольной организации единомышленников-антисталинистов… Политических самоубийств тогда было немного, но они были, и интересно, что главным образом среди антисталинистов, время каковых вроде бы пришло, на стороне которых вроде бы была официальность. Это еще требует анализа, который, возможно, будет дан ниже. Сталинисты убивали себя реже и, главным образом, в короткий промежуток – года два-три спустя, когда начался демонтаж сталинских скульптур, проявив и здесь большую четкость… Правда, было несколько случаев и раньше, с одним из которых мне (вернее, нам, я уже тогда был в организации), итак, мне пришлось столкнуться при весьма неприятных обстоятельствах. Но это случилось позднее (хотя и ненамного позднее), поскольку далее события пошли быстро и уже через какую-нибудь неделю я был в подпольной организации. В существовании подобных организаций я и не сомневался. Чувства, обуревающие меня, не могли быть исключительными в той массовой лихорадке, охватившей общество. До меня доходили слухи о людях, врывавшихся в прокуратуру (я сам врывался, хоть и не в столь активной форме), об участившихся грабежах и избиениях бывших работников карательных органов… Народ рассказывал о том с возмущением и многое путал, сваливая в кучу разное, поскольку после смерти Сталина было выпущено огромное число уголовников…
Но вернемся к организации. В чем я был прав и в чем ошибался? В неизбежности ее существования я был прав, в массовости ошибался. Среди той группки людей, которая входила в состав нашей организации (точный состав ее мне неизвестен, да он менялся: появлялись люди на день, на два, потом исчезали, конспирация в этом смысле была отвратительная, и лишь внешнею ничтожностью и комичностью заседаний объяснял я тогда, что доносам не был дан ход; в наличии доносов не сомневаюсь), итак, среди группы были люди весьма разные, были переходного, неуловимого характера, были и с преобладанием какой-то одной черты. Но все тем не менее весьма неустроенные и с неудачно сложившейся судьбой (кроме Чаколинского, мальчика лет пятнадцати, розовощекого и весьма устроенного, хоть и сына репрессированного, но живущего с матерью и отчимом-ответработником). То, что организация существовала довольно долго, объясняется также и рядом других факторов, а не одной лишь комической несерьезностью внешней формы. Прежде всего разболтанностью и хаотичностью времени, внезапной свободой политического анекдота, разоблачением прежних преступлений карательных органов, сделавшим их нынешний состав на короткий промежуток чересчур терпимым из боязни нарушить законность, о чем даже велась тогда некая газетная кампания. Помимо внешних факторов, были и внутренние, а именно организаторские способности Щусева (того самого, которого встретил у Бительмахера), которые я первоначально недооценил. О Щусеве я сразу вспомнил, подумав об организации, и удивительно точно попал, не ошибся. Собственно, Щусев настолько открыто и прямо проповедовал свои крайние взгляды, что здесь и удивляться было нечему, и в то крикливое время именно это и создавало видимость несерьезности его организации, и трудно было предположить, что в весьма узком кругу существовал точный расчет, продуманность и планы, которые заинтересовали бы серьезно даже карательные органы того времени, то есть парализованные хрущевскими разоблачениями и переживающие смену поколений. Но в том-то и был расчет Щусева на специфику времени, в том-то и была оригинальность построения организации в духе времени, то есть крикливых компаний, в большом числе тогда расплодившихся. Щусев построил свою организацию как бы поэтажно. Сверху была обычная для того времени весьма легальная крикливая компания, рассказывающая политические анекдоты, под ней организация, на первый взгляд похожая на группу сумасшедших, которых в недавние времена тем не менее моментально бы расстреляли, а несколько позднее прибрали бы к рукам, ныне же если о ней и доходили какие-либо слухи-доносы, то производили они на общем фоне несерьезное впечатление, особенно учитывая недавнюю реабилитацию большинства ее членов, что создавало для репрессий дополнительное щекотливое обстоятельство. Но еще глубже существовала небольшая боевая организация, о которой знало лишь несколько человек. Правда, Щусев, человек неглупый, лучше других понимал, что такое политически вольное положение может длиться недолго и при первом же злоупотреблении вольнодумством (политическая демонстрация или иная выходка, хотя бы даже литературного плана или вообще связанная с международным положением), при первом же злоупотреблении, при первой же ответной жестокости властей, даже самой незначительной, все сломается и в первую очередь будет покончено с подобными компаниями. Это подстегивало Щусева и заставляло его действовать поспешно и не всегда продуманно.
Глава седьмая
Но почему, едва подумав об организации, сразу же предположил Щусева и почему сразу так уж безошибочно и точно? Крайности тогда высказывали многие, и на основании этого с первой же мысли напасть безошибочно на след организации вряд ли бы мне удалось, если б не подобность душевных движений и инстинкт, которым безмолвно и мимоходом (мы, если помните, даже не были представлены друг другу), инстинкт, которым я познал себе подобного (у людей ущемленных этот инстинкт развит чрезвычайно). Впрочем, я упрощаю. Тогда, при встрече со Щусевым у Бительмахера, я еще не был тем, кем являюсь сейчас, еще питал надежду на то, что общество добровольно повинится передо мной и при моем снисходительном благодушии и прощении произойдет мое с ним примирение. Теперь, после ряда политических драк, такая слепота и подобное восприятие общества как кающегося грешника было смешно. Всякая месть, приносящая удовлетворение, как личная, так и общественная, каким является политический террор, невозможна без силы воображения, ибо, как правило, она совершается спустя определенное время, иногда довольно значительное, после того, как нам нанесена обида или совершено против нас преступление. Воображение же есть болезненная сила, которая развивается особенно у тех, кто постоянно и продолжительно терзаем страданиями. Как верно сказано, где – уж не помню, большинство людей, живущих обычной жизнью, обид не прощают, а попросту забывают их. Именно люди постоянного страдания и развитого воображения склонны к наслаждению местью либо к наслаждению от прощения. Преступления, совершенные против Щусева, не составляли в этом смысле исключения, и, безусловно, подобный их характер способствовал направленности его богатого воображения лишь к отмщению и ненависти. И все это при наличии ума, организаторских способностей, пылкого темперамента и личной храбрости, то есть тех качеств, которыми во всех трех этажах (компания, организация и боевая группа) обладал лишь он да Христофор Висовин, человек, обративший на себя мое внимание сперва редким именем, потом и другими личными качествами. Короче, после ряда индивидуальных политических драк, в которых я не достиг определенного успеха, я понял, что надо искать встречи со Щусевым. Единственным местом, через которое я мог бы это сделать, был дом Бительмахера, но он и особенно его жена Ольга Николаевна ненавидели Щусева и, наоборот, заявляли, что молодежь, в том числе и меня, надо оберегать от таких, как Щусев. Помог случай. После нескольких нудных вечеров, проведенных у Бительмахера (после третьего посещения подряд он, кажется, начал тяготиться мною), вечером, не зная, о чем говорить, мы напряженно пили чай и едва не повздорили из-за Сталина (этот отсидевший много лет человек вдруг начал хвалить отдельные черты Сталина, особенно ранних времен). Я при этом раскричался, но Ольга Николаевна нас быстро примирила, поддержав, кстати, меня. Вообще Сталин в те времена служил одной из основных причин личных раздоров между политически активными людьми. Не знаю, что бы я делал далее, так как после слов о неких интересных чертах Сталина Бительмахер, несмотря на примирение, стал мне неприятен. Но в тот вечер как раз снова заявился Бруно Теодорович Фильмус, что меня крайне ободрило, поскольку он к Щусеву относился более терпимо, чем Бительмахер. Мы вышли вместе, и я к нему навязался в гости. Жил он, в отличие от иных реабилитированных, с которыми мне пришлось столкнуться, довольно чисто, сам себе готовил экономные, но вкусные кушанья и вообще мне нравился. У меня с ним также сразу вышел спор. Спорщиком я стал чрезвычайным именно в последние недели, что характеризовало мой окончательный переход к политической активности. С Фильмусом я заспорил, несмотря на то что он меня прошлый раз обрезал, и спорил довольно удачно благодаря не столько новому развитию, сколько новым методам, особенно необходимым в политических спорах. То есть благодаря не столько мыслям, сколько удачным сопоставлениям, юмору и отыскиванию слабых мест у оппонента. Тем не менее отношения наши с Фильмусом сложились хорошо, и споры приняли ту взаимоприятную форму, когда легко и быстро прощаются обиды. Разумеется, во всех этих рассуждениях-спорах я был лицом второстепенным, как говорится, лишь поддерживающим и разжигающим, но постепенно так поднаторел, что начал вносить свою лепту и кое-где достаточно удачно высказывался, утверждая, а не возражая (возражал я удачно почти с самого начала и по вопросам, мне совершенно неизвестным, причем, используя сатирический аспект, часто ставил эрудита Фильмуса в тупик). Фильмус был большой знаток Чернышевского и Плеханова и любил их читать поочередно, как бы воскрешая между ними полемику, которая существовала в действительности, в заочном, конечно, виде. В этой полемике участвовали и другие имена, иногда незнакомые, иногда полузнакомые, иногда хрестоматийные. Но с этими хрестоматийными Фильмус подчас творил бог знает что. По данному поводу я вступал с ним в ожесточенные споры – например, защищал Вольтера, которого Фильмус ненавидел, называя основоположником духовного нацизма и современного антирелигиозного просвещенного антисемитизма, отличающегося от идеалистического невежественного антисемитизма прошлого. О Вольтере я знал некогда в объеме средней школы, ныне от этого объема осталась лишь фамилия, звучавшая, подобно всякой великой фамилии, как устоявшееся определение и в некоем всеобщем нарицательном плане, то есть фамилия, лишенная конкретных черт… Вольтер значил для меня то же, что, например, Кант, Гегель или Фейербах… То есть это были великие прогрессивные фамилии. Интересно, что, зная о Вольтере как о великой прогрессивной фамилии, я довольно долго и успешно вел спор с Фильмусом все тем же методом отыскивания слабых мест в его эрудированных доводах. Но тем не менее в результате этих споров мое мировоззрение расширилось, и Вольтер, то бишь Франсуа Мари Аруэ, сын нотариуса, обрел для меня свою земную несовершенную плоть, что гибельно для окруженных сиянием политических светил и вождей. Так, Франсуа Мари Аруэ – Вольтер стал жертвой злоупотребления умственной силой, перед которой преклонялся. Он был недосягаем и велик для меня, Цвибышева, пока был мне мало знаком. Узник Бастилии 1726 года, подвергнутый затем элементарному политическому избиению (не политического характера, а кулаком в зубы) со стороны мракобеса-шевалье де Рогана (все эти познания, звучавшие романтично, я воспринимал с радостью, размышляя о возможности использовать их в ближайшем будущем и ошеломить компанию. Так оно и случилось вскоре у Щусева. Там я умело и с упоением ругал Вольтера. Это не беспринципность. Радость познания особенно сильна, если она связана не столько с углублением представления о предмете, а скорее с коренным изменением взгляда на предмет. На этом, собственно, и основана всякая политическая агитация). Итак, писатель, философ, защитник жертв фанатизма, сочинитель трактата о веротерпимости, враг произвола, сторонник всеобщего равенства просвещенных народов, нового просвещенного порядка, из которого исключаются лишь евреи и те слои, которые физическим трудом создают условия для просвещения, – вот каким предстал передо мной сын нотариуса Франсуа Мари Аруэ, известный во всемирной хрестоматии под именем Вольтер…
Интересен также спор о ходе всемирной истории. Вернее, здесь уже был не спор, а нечто вроде одностороннего монолога Фильмуса с цитатами. Я слушал с интересом, изредка вставляя лишь реплики, не оспаривающие сказанное, а подтверждающие как бы мое активное присутствие как личности в данных духовных размышлениях. Впоследствии я нашел с трудом книгу, откуда цитировал, комментируя цитаты, Фильмус, и даже кое-что переписал. С трудом нашел, поскольку напутал и искал у Чернышевского, между тем это было у Плеханова, где он Чернышевского лишь анализировал. «Ход всемирной истории, – сказано там, – определяется внешними физическими условиями. Влияние отдельных личностей по сравнению с ними ничтожно. Они всегда почти приводили в исполнение лишь то, что было подготовлено и должно было совершиться… Стремление установить что-либо совершенно новое и неподготовленное остается безуспешным или влечет за собой только разрушение». Собственно, это даже не сам Чернышевский, а автор, на которого Чернышевский ссылается, некий академик Бер. «Историю делают люди, но делают так, а не иначе, потому что действия определяются не зависящими от воли условиями (это уже сам Плеханов), совершение великих мировых событий не зависит ни от чьей личности. Они совершаются по закону столь же непреложному, сколь закон тяготения. Но скорее или медленнее совершится событие, тем или иным способом совершится – это зависит от обстоятельств, которые нельзя предвидеть или определить наперед…»
– Личность, – комментирует сказанное Фильмус, – лишь способ и время совершения неотвратимого события… Личность не может повлиять на событие как исторический факт, но личность может повлиять на судьбу поколения или поколений…
Споры с Фильмусом увлекли меня. В этом, может, и состояла его задача, ибо он видел, что я человек встревоженный, хоть совершенно почти не знал моего быта, ни прошлого, ни нынешнего. Кстати, о быте. Он вновь круто изменился, ибо я сошелся с Надей, бывшей уборщицей (она уволилась после административного скандала по поводу ее отношений со мной). Это крайне неожиданно и неправдоподобно, особенно учитывая то отвращение, которое я испытывал, вступая в грубую связь с Надей из желания отомстить моим представлениям о любви. Тем не менее, учитывая мои разочарования, материальную ничтожность, специфическую способность к крутым неожиданным решениям, можно понять неожиданный (даже и для меня самого) положительный отклик на записку, которую передала мне Надя через Саламова с предложением зайти к ней в гости с указанием адреса… То, что в этом вопросе произошли изменения, объясняет, как ни странно, почему я не продолжил активные поиски подпольной организации Щусева, а сосредоточился на созерцательных разговорах с Фильмусом, потеряв недели две.
Собственно, когда Саламов передал мне записку, меня это и смутило, и возмутило. Как смеет, думал я разбросанно, точно я ей равный и точно она имеет отношение к любви… Эта рябая рожа с мокрым ртом… Да еще через Саламова.
Записка была четвертинкой тетрадного листа, и на нем весьма нелепая разлапистая надпись по-куриному, как пишут малограмотные, причем карандашом: «Гоша! Почему не заходишь? Я сказать что хотела. Надя». Возмутил меня также Саламов. Этот сопливый пацан с серьезным видом говорил мне, что Надя хорошая женщина, точно он сват и точно я ради рябой уборщицы берег себя и мечтал.
– Хорошая, – крикнул я (вот ошибка. Надо было высказаться с усмешкой, как подобает в подобных случаях при разговорах о доступных женщинах, а я высказался со злобой, точно меня это задело и носило серьезный характер), – хорошая!.. Только дорого берет… Три рубля зараз. – Тут я, правда, грубо захохотал, но получилось так, что даже такой ограниченный человек, как Саламов, оказался выше меня, ибо смотрел с сочувствием, и вышло, что смех мой фальшив, прикрывает подлинную горечь, чего, кстати, и не было в помине.
Смехом я хотел выразить лишь грубость и сальный мужской намек, а почему получилась горечь, не пойму.
– То, чего болтают, не слушай (снова меня неприятно резануло: пацан сопливый, а поучает), ты не слушай, – продолжал Саламов, – у нас в общежитии бабы на кухне выдумают, а мужики по комнатам разнесут… У нас ведь мужики хуже баб…
– Да пошел ты!.. – крикнул я (и опять чересчур серьезно. Получалось, что анализ поведения шел своим путем, а само поведение – своим, постыдно глупым и не подчиняющимся анализу и учету ошибок). – Она с половиной общежития переспала… Да и не в этом дело, – нашел я наконец тон легкомысленный, разухабистый и более спокойный, делающий и меня не обиженным лицом, а человеком со стороны, как и Саламова, – но вот не пойму, что в ней хорошего: отрава одна и тошнота…
– Ну, это ты брось, – сказал Саламов, – это, может, для юношей непонятно, которые первые шаги делают… для зеленых… а для мужика она незаменима…
Эта фраза Саламова и погубила меня. Я, кажется, покраснел, почувствовав жар своих щек, а также и испугался, не заметил ли Саламов моего замешательства. То, что этот неразвитый умственно (таковым я его считал), этот парень, лет на десять моложе меня, разговаривает со мной как с мальчиком, объясняя и намекая на какие-то мужские секреты, которые я еще не постиг, показалось мне стыдным и ущемило мое тщеславие, но одновременно разожгло во мне то, что именуется мужским любопытством к конкретной женщине… Я вышел на улицу.
Был поздний вечер, то есть время, когда страсти крайне сильно терзают одинокого мужчину, особенно в теплую погоду… Я еще не знал, куда пойду, однако у ближайшего же фонаря вынул записку, где Надя разлаписто намалевала свой адрес. Это оказалось совсем близко. Рябая, несчастненькая, нуждающаяся уборщица жила тем не менее в хорошем доме, десятиэтажном красавце, правда на первом этаже, но в отдельной однокомнатной квартире с ванной, ибо в смысле идеи власти помнили свое происхождение, обеспечивая своих по мере возможности. Все это я разглядел позднее, тогда же, подойдя, не стал раздумывать. Уверен, подумай я хоть секунду, ни за что бы не позвонил и ушел. Я же сумел настроить себя на мужской напор и грубость, решив не вдаваться в сомнения, а значит, в чувства. Просто удовлетворить мучащее меня любопытство (в юношеской страсти любопытство преобладает), удовлетворить и потом расплатиться…
Когда Надя открыла дверь, я ее сперва даже не узнал. В общежитии это была хамистая баба, с шумными, неженственными жестами, передвигающая нервно стулья и чемоданы жильцов из-под кроватей… Здесь же стояла невысокого роста (она стала ниже ростом), молодая (она помолодела) женщина с несколько рябоватым, но недурным лицом, гладко причесанная, в очень женственной ситцевой кофточке.
– Гоша! – крикнула эта новая женщина Надя и кинулась мне на шею.
Я отстранился, но не отпрянул. В комнате был некоторый беспорядок, стол не прибран, в хлебных крошках и колбасных остатках, по которым разгуливали мухи, но постель чистая и воздух хороший. Трехлетний сын Нади Колечка спал в чистой постельке, прикрытый марлей от мух.
– Садись, Гоша, – сказала мне Надя, как-то вдруг застеснявшись и краснея, что было непривычно при ее прежнем хамстве, но очень к ней шло, – я тебе сейчас чаю налью… и колбасы…
Я понял, что если еще немного повременю, то отношения наши окончательно потеряют ясность и причина моего прихода станет двусмысленной. Действительно, создастся впечатление, что здесь завязываются некие нежные отношения надолго. К тому ж меня до сих пор мучил мужской стыд, оттого что я, по летам мужчина, оказался беспомощным перед мужскими поучениями юноши Саламова. И ко всему еще распаляла страсть (не юношеская уже, любопытная, а мужская, деловая, целенаправленная), страсть, исходящая от ситцевой в цветочках кофточки Нади. В тот момент, когда Надя, радостная, захлопотавшаяся, вытерев стол от крошек, согнав мух, повернулась, чтоб достать колбасы, я молча и сильно схватил ее именно со спины, поскольку, когда она стояла ко мне лицом, по-девичьи просто, растерянно счастливая, я не решался и сам был растерян. Но когда она повернулась спиной, я понял: вот он, последний шанс, – и схватил Надю с такой силой, что почувствовал даже хруст ее костей под моими руками, и также со спины начал мять и ломать. Она рванулась, ее сопротивление придало мне не только силу, но и какую-то приятную жестокость, и я ломал ее и мял со спины. Она же продолжала рваться и, как мне казалось, сопротивляться, но лишь до тех пор, пока не повернулась в моих объятиях ко мне лицом, и после этого разом затихла, лишь шепнула: «Кофточку не порви». Это трезвое, зрелое «кофточку не порви» после ее наивно-девичьего (опять же, как мне в спешке показалось), стыдливого сопротивления, это трезвое замечание несколько снизило накал, но убрать его вовсе было не в состоянии. Слишком распален я был борьбой и собственной жестокой силой, грубо обрушившейся на эту маленькую женщину и заставившей ее подчиниться моей воле. Ее мягкая покорность после сопротивления (как впоследствии понял, вызванного моими неумелыми юношескими действиями, так что она чуть ли не силой вынуждена была меня поправлять и учить), ее покорность довела меня до нового уровня, в котором утонула мелькнувшая после реплики о кофточке трезвость, и я впервые в жизни утолил страсть (благодаря безмолвным, но по-женски точным наставлениям Нади), и утолил ее в полную меру, равную по силе, а в некоторые моменты даже превосходящую по силе ночные страсти в счастливых снах, которые иногда в виде подарка посещают праведников либо людей ущемленных. Я впервые в жизни был по-мужски утомлен, утратил на время плотские желания и обрел глубокий природный покой, свойственный всему, достигшему совершенства. Мы долго, утомленные, лежали рядом, мужчина и женщина, потерявшие стыд друг перед другом и в то же время не имея в душе некоего остренького чувства необычности и исключительности, что является свидетельством юношеской гордости и порока, а наоборот, сохраняя покой и мужскую естественность. Не по-юношески остро, а с мужской зрелой мягкостью смотрел я, как эта женщина доверчиво обнажена передо мной, и в обнаженной груди ее, чуть грузноватой и слегка опадающей, было сейчас так же мало порнографически-остренького и нездорово возбуждающего, как и в лице ее, в волосах, в ладонях… Должен сказать прямо, на этой нравственной высоте я не удержался и очень скоро кубарем покатился вниз к невоздержанию. Помимо общественных обстоятельств, была здесь и личная причина. То, что одна и та же женщина так по-разному приобщила меня к одному и тому же, послужило причиной анализа и некоторых, весьма прискорбных для любви, выводов, что не могло не отразиться на иных моих суждениях и вообще мировоззрении. Старая, развенчанная в прогрессивной компании Арского система меня как личности – центра вселенной, именуемая солипсизм, возникла совершенно неожиданно и на новой почве интимных отношений: даже и наслаждения ни от кого не зависят так, как от меня самого. Это был уже предел индивидуализма, признание за всем, что вне меня, лишь пассивности, подчиненности и взаимозаменяемости. Это естественное, хоть и прискорбное, метание от полной ущемленности к полной распущенности, получившее теоретическую базу, вскоре начало осуществляться весьма широко, так что затмило на время даже мои антисталинские поползновения. У Фильмуса я бывать перестал (после того как перестал бывать у Нади, с которой жил некоторое время как с женой) и вообще на время отошел от политических размышлений, а наоборот, каждый вечер, превратившись в активного холостяка (термин заимствован), каждый вечер начал ходить в городской парк на речных кручах либо в район фуникулера, где с первого взгляда узнавал порочных женщин. Я научился получать мужские удовольствия даже и в более гадливой обстановке, чем первый раз с Надей, но, проведя этак в юношеской лихорадке (именно в юношеской, ибо, став с Надей мужчиной, я, как уже сказано, на том уровне не удержался и, использовав мужской опыт, вернулся к юношескому напору, лишенному, однако, прежней мечтательности), итак, проведя недели две в лихорадке, измявшись, растратившись, простудившись на сырой ночной траве, я задумался и разочаровался. Способность наслаждаться случайными порочными женщинами по-прежнему была высока, однако я был разочарован собой как личностью, ибо начал ощущать, что живу не так и не для того. Но едва наступал вечер, как порочные слабости брали во мне верх, я садился на троллейбус и как на работу ехал в парк. Вскоре я начал узнавать подобных себе и даже познакомился с неким Хази Мазитовым, татарином либо башкиром лет сорока пяти (термин «активный холостяк» принадлежал именно ему). Этот Хази Мазитов и ввел меня в компанию Тины (фамилию не знаю). Тина, женщина лет сорока, работала счетоводом в бухгалтерии драмтеатра (так она говорила). Конечно, в доме у нее всегда был коньяк, четыре-пять молодых подружек, записи Вертинского и входившего тогда в моду Ива Монтана. Мужчины бывали там обеспеченные, штатские и военные, я опять вынужден был лгать, несколько раз не оплачивал коньяк (существовал серебряный подносик на маленьком, красного дерева столике за диваном, на который незаметно клали деньги, «чтоб не обидеть хозяйку»). Несколько раз при наличии большого количества мужчин я оставался без «подруги», как наименее состоятельный. Вообще время было ужасное, человек религиозный о подобном упоминает разве что на исповеди перед смертью, и то в последнюю очередь либо предпоследнюю, перед признанием в убийстве, если таковое гнетет его совесть. Атеист же вовсе должен о том промолчать, и я касаюсь всей этой преисподней лишь потому, что в компании Тины, да что там компании, скажем честно, в борделе я наткнулся на нити политического заговора.
Сперва о закономерности подобного поворота, а потом о структуре и разнообразии политических заговоров последних десятилетий, то есть периода, когда межклассовое напряжение было ликвидировано путем хирургической ликвидации враждебных классов. Если помните, впав в разврат, я полностью отрешился от политики. Но отрешился не в результате определенного решения, а скорей стихийно, сосредоточив все свои душевные силы на телесности. Тем не менее, когда первый порыв миновал, новизна притупилась (довольно быстро, но это не значит, что меня перестало тянуть к остреньким наслаждениям. Просто первоначальный юношеский порыв, в котором была даже какая-то романтическая струнка, превратился в осознанный порок), итак, когда новизна притупилась, возобладал вновь быт: койко-место, застланное вместо постели оконной портьерой, которую из милости и тайно, чтоб не вселить надежды, но очистить свою совесть, подбросила мне комендантша (ныне это точно было установлено). И подобный быт после реабилитации, когда я более не считал себя зависящим от покровителей, а равным всем и несправедливо обойденным… Если первый порыв беспорядочной страсти заслонил от меня быт, то ныне я искусственно бежал от быта к страсти. Все это не могло не вернуть меня к прежнему мрачному, крайнему направлению, в свете которого я не мог не рассмотреть и нынешнее лихорадочное наверстывание юношеских ущемлений. Отказать себе в наслаждениях я уже не мог, но стал являться в парк не встревоженно-радостный, а мстительно-озлобленный. Кончилось тем, что я ударил одну из порочных женщин по лицу, ибо у нас с ней вышел самый настоящий политический спор, причем в самое для того неподходящее время, и в том споре она приняла сторону сталинистов. К счастью, сразу же после того подвернулся Хази. Атмосфера компании, куда он меня привел, была уже частично мной отражена. Хочу добавить, что политические разговоры и политические анекдоты в борделе у Тины велись почти открыто и проходили наравне с самыми сальными. Такое уж было время, и, куда б человек моего темперамента и моей судьбы тогда ни повернул, он всюду натыкался на политику, охватившую общество после тридцати лет политической спячки.
Теперь о политических заговорах. После того как в декабре 1934 года был убит С. М. Киров, политических заговоров крайнего толка как будто в реальном смысле и не существовало. Отравление Горького, как доказано, было явно инспирировано. Впрочем, достаточно много и двусмысленно писали ныне и о смерти Кирова, и о заговорах, которые якобы время от времени возникали против Сталина, Молотова, Кагановича, Ворошилова и иных крупных политических деятелей страны. Должен сказать, и, может, слова мои прозвучат диссонансом в том общем направлении разоблачительства прошлого, но, участвуя впоследствии в некоторых событиях, я склонен верить наличию определенной правды, безусловно приукрашенной и усиленной, правды о попытках совершить заговорщицкие акты против членов правительства. В частности, во время пребывания Сталина на крейсере «Червона Украина» действительно имела место попытка покушения, но не группой хорошо организованных врагов, как о том писали, связанных с международным капитализмом, а некой жительницей города Никополя, причем в весьма женской форме, именно желания плеснуть в лицо Иосифу Виссарионовичу соляной кислотой из пробирки. Несмотря на наивность и мещанство данного акта, женщина эта была схвачена совсем близко от цели, на набережной, оказала сопротивление и успела даже плеснуть кислотой в глаза случайному прохожему, помогавшему в задержании преступницы. Я остановился на этом подробнее, во-первых, потому, что факт стал известен мне чуть ли не из первых рук – от двоюродного брата этой женщины, встреченного мной в организации Щусева (все родственники женщины, конечно, были арестованы), во-вторых, чтоб подчеркнуть гораздо большую вероятность подобных актов, даже и со стороны лиц неподготовленных, и, в-третьих, гораздо большую случайность ряда громких событий либо случайность их отсутствия и неудачи. Конечно, все это не исключает наличия рассчитанных и умелых заговоров, но подобные заговоры чересчур заметны и малоэффективны, а в условиях стабильного государства среднего возраста – то есть вышедшего из младенческой неустойчивости, когда режим еще непривычен и взаимозаменяем, и перешедшего в период, когда народ привык и поверил режиму как единственной и естественной возможности сохранения порядка жизни, – подобные заговоры всегда отвергаются и презираются народом как опасные новшества. В этих условиях особую угрозу для общественного порядка представляют озлобленные одиночки или небольшие, эмоционально взвинченные, лишенные трезвого расчета, бесстрашные группки разного толка и направления… Описываемое же время в этом смысле было особенно опасным… Хоть основная масса народа не приняла и даже активно отвергла общественную лихорадку конца пятидесятых годов, но в слоях, способных к ощущению своей личности, произошел слом и лихорадка того типа, какая случилась со мной вследствие длительной телесной ущемленности. Впрочем, это были издержки, процесс же имел серьезную основу и мог бы дать результаты в двух случаях: либо если бы у него была опора в народных массах, либо если бы он сверху проводился цельно и без оглядки. К сожалению, ни то ни другое условие соблюдено не было, и это послужило причиной ряда трагических поворотов. Этому способствовало скопление на свободе большого числа людей разрушенной трагической судьбы и некоторой, правда кратковременной, растерянности властей перед этими трагическими судьбами и перед последствиями собственных же деяний. Повторяю, период этот был кратковременный, но он показал, как живучи анархические неуправляемые силы в недрах любого, даже самого стабильного, общества и как легко они способны выйти из-под контроля не только установленного порядка вещей, но даже и своего собственного, то есть нарушив даже собственное правило, став жертвами, нет, став опасными жертвами своих необдуманных поворотов, безумств, пессимизма, горечи и философских тупиков, столь нередких в житейски не сложившихся судьбах… Дело дошло до того, что ряды этих анархиствующих сил пополнились даже сторонниками твердо установленного, освященного народом направления, поскольку власти в определенный период замешкались и вынудили к личной борьбе против послесталинских тенденций тех, кто привык к общим, коллективным действиям, к коллективному отпору всем миром, всей страной. Эти действия от отчаяния развязали инициативу и активность элементов особенно неблагородных, которые тем не менее в период сталинского режима не осмелились бы взять на себя самостоятельную инициативу и которые, несмотря на крайне жесткий сталинизм последних двух-трех лет сталинской жизни, были порождены именно смертью Сталина и кратковременной нерешительностью властей… Как правило, это были люди молодые и, несмотря на ненависть к новым, хрущевским тенденциям, быстро схватившие веяния времени, состоящие в ревизии, пересмотре и критике властей. Этим они отличались от традиционных сталинистов, отличались вплоть до конфликтов. Молодые люди эти вступили в противоборство с властями и формировали свои взгляды на откровенностях, которые даже и в пятьдесят втором году были выражены между строк, но не в строках. Коротко, их кредо было – перевод в строки тех тенденций, которые хоть и почти недвусмысленно, но все ж в официальном плане к марту пятьдесят третьего года еще застыли между строк. То есть сказать наконец русскому народу прямо и открыто о том, что не космополиты, а жиды погубили Россию… Конечно, такое никогда не случилось бы, даже и не застынь все прежнее в марте пятьдесят третьего года. Во всяком случае, не случилось бы с такой откровенностью. Но эти молодые люди рассматривали прошлый традиционный сталинизм не как догму, а как руководство к действию. Традиционный сталинизм имел определенные, пусть неслужебные, обязанности перед революционным интернационализмом и прежней чистотой революционных помыслов, более того, он имел среди своих сторонников миллионы людей честных, не принявших бы подобное выражение в столь откровенном тезисе, более того, имел самого Сталина, человека хоть и совершавшего глупости, но в ответственные моменты хитрого и склонного скорее к витиеватой, пышной восточной аллегории, чем к курской хмельной, бешеной правде-матке с рывком рубахи на груди. Итак, молодые люди рассматривали традиционный сталинизм в его нынешнем модернизованном, крайнем звучании, вобравшем в себя, хотят они то признать или нет, современную ревизионистскую самостоятельность и так называемую честность, идущую от распространившегося разоблачительства как всеобщей тенденции, которой невольно оказались подчинены как антисталинисты, так и молодые сталинисты… Впрочем, даже и сталинистами их можно было назвать весьма приблизительно и главным образом в первое время. Дело дошло до того, что постепенно к ним примкнула даже определенная часть так называемых антисталинистов, и постепенно все они вместе склонились к национальной религиозности и сельской простоте, где, то есть в сельской местности, как известно, национальный элемент более силен и отсутствует еврейское начало… Но это случилось впоследствии, тогда же эти молодые люди хоть и были не в ладах с властями, но держались революционных и сталинистских основ… Характерен в этом смысле Орлов, которому я, если помните, натер когда-то морду пепельницей и с которым я вновь столкнулся в частном публичном доме у Тины. Вернее, не с ним самим (возможно, он здесь и бывал, однако я с ним лично, к счастью, ни разу не встречался), итак, не с ним самим, а с его рассказом, напечатанным на папиросной бумаге и ходящим в определенных кругах в списке (явление, также характерное для времени и весьма распространившееся). То, что мне пришлось вновь столкнуться с Орловым (а впоследствии придется столкнуться даже и в открытой политической борьбе), неудивительно, и подобные, казалось бы опереточные, случайности среди так называемых заговорщиков весьма закономерны.
Даже и в период между серьезными революциями все ж основная масса народа не вовлечена в политические схватки, а занята созидательным трудом, и антиправительственный пятачок бывает весьма узок, так что все у всех на виду и политическим заговорщикам разных направлений приходится сталкиваться между собой даже чаще, чем с властями. Ныне же, когда некоторый кризис общества носил, несмотря на ряд трагедийных положений, все ж кабинетный характер и даже в определенном роде разворачивался в литературно-публицистической плоскости, разноплановые группки просто обречены были чуть ли не сталкиваться носами, как гуляющие по провинциальной главной улице, причем иногда в буквальном смысле – за ресторанными столиками или в отдельных случаях, как пришлось мне столкнуться с Орловым, в борделе (повторяю: к счастью, заочно).
Рассказ найден был мной в углу дивана, кем-то небрежно брошенный и, очевидно, позабытый, что характеризует также крайности и смелость, к которым пришло общество, ибо речь шла в рассказе о вещах весьма опасных, почти антиправительственных, о некоем офицере, бывшем фронтовике, замыслившем убить «того, кто опозорил наш народ и наши русские победы». Прямо о том нигде ничего не говорилось, но намек был понятен, шит белыми нитками, явно умышленно, и под тем, кого собирался убить офицер, легко угадывался Хрущев, нынешний глава партии и государства. Рассказ этот я с собой захватил незаметно и в свободной обстановке прочитал. Написан он был достаточно нудно, хоть и раскованной, свободной, ироничной прозой под Хемингуэя… Был он страниц на тридцать, но охватывал довольно большой период и начинался с того момента, когда герой рассказа, майор Степан Разгонов, тяжело раненный, лежал в развалинах среди трупов своих солдат. Все это было написано крайне натуралистично, возможно, даже с вызовом соцреализму, но как-то литературоведчески, как пишут люди, понимающие цену натуралистическим деталям. Майор Разгонов тяжело ранен в ноги, он не может ни пошевелиться, ни приподняться, он ослаб настолько, что ему трудно держать в руке небольшой портрет Сталина, вырезанный из газеты и наклеенный на плотный кусочек ватмана. Он хочет доползти к стене, чтоб прикрепить туда портрет, ибо лицо Сталина утоляет боль. Но к стене ему доползти не удается, и он ползет к мертвому солдату и прикрепляет портрет к его липкому от крови виску. Таково начало… Далее – мотив возвращения солдат-фронтовиков к мирной жизни с присущей этому времени требовательностью и с неудовлетворенностью тыловиками «с Ташкентского фронта». Но главная трагедия начинается с пятьдесят третьего года. Все, что было дорого, за что погибали солдаты, за что он сам, Разгонов, истекал кровью, – все это поносится, преуменьшается, подвергается клевете, предается забвению, объевреивается. И здесь живое дыхание, живая ненависть прорывается наружу, правда, в отличие от ненависти к «ташкентским фронтовикам», где литература полностью отсутствует, здесь эта ненависть чуть-чуть подпорчена литературным стилем – может, из-за необходимости намеков и хемингуэевского подтекста.
«Это ведь не человек, – кричит Степан, стуча кулаком по газете с антисталинской речью, – это кусок жирного мяса, у которого под мышками волосы растут!»
Просидев ночь без сна, он решается и, захватив трофейный вальтер, идет на стадион, где должен выступать тот, «кто опозорил наш народ и наши русские победы». Далее – весьма важный кусок, который написан у Орлова несерьезно, с юмором. Степану удается протиснуться достаточно близко, почти к оцеплению трибуны. С этого расстояния такой хороший стрелок вполне мог бы рискнуть. Но он не решается, а уходит в пивную и, вновь напившись, размышляет сам с собой над стаканом: «Ты что, хочешь иметь крупные неприятности, Степа? Нет? Так почему ж ты подчиняешься каждому велению своего сердца?»
Правда, в ту же ночь его охватывает тоска. При свете фронтовой коптилки, которую он соорудил из бутылочки от лекарства, влив туда бензин из зажигалки, словно перед святой лампадкой (тут уж заметно влияние на Орлова и на данное общественно-политическое течение национальной религиозности, расцветшее позднее), итак, перед фронтовой коптилкой-лампадкой устраивает он над собой суд как над солдатом, не выполнившим задание. В качестве судей он расставил на столе фотографии своих фронтовых друзей, прислонив их к перевернутым донышком вверх стаканам и чашкам. К утру эти фотографии, особенно та, где изображен момент захоронения под Белгородом останков погибших, к утру эти фотографии приговаривают Степана Разгонова к смертной казни. После этого Степан успокоился, побрился, причесался, пришил к кителю свежий воротничок, заменил орденские колодки орденами и медалями, взял листик бумаги и написал: «Сталин бессмертен, и поэтому я умираю спокойно». Выйдя из дому, позвякивая орденами и медалями, он достиг одного из центральных городских скверов, где стояла скульптура Сталина, вынул из бокового кармана пожелтевший, с засохшими пятнами старой крови фронтовой портретик, разрезал ножом руку и намазал кровью оборотную сторону портретика, стараясь попасть именно на те места, где оставались еще бурые выцветшие пятна от крови фронтовых товарищей, приклеил портретик к пьедесталу и, запрокинув голову, глядя на высеченное из гранита сильное лицо Сталина, умело выстрелил себе в сердце, убил себя наповал и умер сразу, без мучений… Несмотря на то что труп поспешно убрала милиция, слухи распространились, и следующим утром на том месте уже лежал букет цветов… Букеты цветов появлялись и в последующие дни…
Должен признать, что последний кусок – развязка отличалась некоторым достоинством, но суть в том, что здесь нет ощущения беллетристики, а скорее складывается ощущение документальности и знакомства с подлинным протоколом (например, перевернутые чашки и стаканы, к которым прислонены фотографии, либо посмертная записка не соответствуют литературному стилю Орлова. Скорее, он придумал бы что-либо цветастое, злое, с подтекстом). Предположение это вскоре подтвердилось благодаря фразе о цветах, каждое утро приносимых к пьедесталу памятника Сталину. Именно эта фраза послужила зацепкой к весьма практичным шагам и помогла мне утвердить себя в организации Щусева.
Глава восьмая
К Щусеву я стремился давно, но попал неожиданно и вроде бы даже случайно. Я просто встретил его на улице. В выходные дни центральная улица летом буквально кишит народом, так что и идти даже можно только медленным шагом, соблюдая общий ритм и свой ряд, продолжительное время с одними и теми же прохожими, иначе рискуешь беспрерывно натыкаться… Я любил эти шествия в ослепительно-белой, яркой толпе южного воскресенья, где чувствовалась какая-то праздная лень, делающая человека, по-моему, добрей. Последнее же время, после исчезновения во мне юношеского напряжения, эти шествия и вовсе создавали минут на пятнадцать-двадцать впечатление слияния моего с обществом и материальной обеспеченности (которая после моих чисто мужских трат вновь подошла к критическому пределу).
В один из таких дней и в такой толпе я и встретил Щусева, правда идущего во встречном потоке. Я сразу его узнал, хоть видел лишь мельком у Бительмахера и с того вечера он крайне изменился. Дело не только в том, что тогда черты лица его были взволнованны и искажены злобой, а ныне он был под стать толпе беспечно-празден и как-то обеспеченно, сытенько ленив, также под стать толпе. Душевные движения наши и эмоции довольно часто зависят от вещей простых и материальных. Тогда Щусев выглядел материально затравленным (термин мой), то есть с воспаленными от бессонницы глазами и с бледной кожей от недоедания либо болезней. Сейчас же он загорел, был отдохнувшим, одет легко, весь в белом и ослепительно-чистом (тогда он, кажется, был еще и грязен). Шел он рядом с широкоплечим, спортивного вида юношей, щеку которого с какой-то мужественной элегантностью пересекал шрам (такие шрамы я видел весьма нечасто, но они всегда вызывали у меня зависть. Мне кажется, что они как-то выделяют и придают человеку силу и необычность). Увидев все это, я остановился и почувствовал даже укол в сердце от неожиданности и радости. При остановке мне моментально наступили на пятки, я вызвал недовольство соседей-прохожих, сломав чинный строй, и поскольку собирался перебежать из одного потока в другой, то несколько раз наткнулся на людей, и довольно основательно, так что даже среди неги и спокойствия вызвал злобные реплики в свой адрес. Не обращая на них внимания, я пробрался и пристроился к потоку, возвращающемуся от площади к почтамту (до сего времени я шел в потоке от почтамта к площади). Пока я пристраивался, Щусев со своим партнером ушли далеко вперед, нарушить же ряд, куда я и так с трудом втиснулся, было делом немыслимым. Единственно возможным было, вытянув шею, следить за партнером Щусева, который, к счастью, оказался высокого роста (самого Щусева я не видел), и ждать, пока поток не вынесет меня к почтамту, где открывался более широкий простор и толпа частично рассасывалась по веером расходящимся от почтамта улицам. Но тут была и опасность, поскольку Щусев с партнером, идущие впереди меня метров на пятнадцать-двадцать, могли исчезнуть, прежде чем я окажусь на свободном пространстве. Ругая в сердцах толпу и начав нервничать, я попытался обойти хотя бы несколько рядов, смяв их, но дошел лишь до какого-то толстого мужчины, явно тоже нервного и сильно потеющего, с измученным от солнца лицом, очевидно также мечтавшего поскорее выбраться… Этот мужчина меня не только не пропустил, но даже, когда я пытался его обойти, нарочно переместился и заслонил мне дорогу. Схватиться с ним было некогда, да и не время… Я лишь молил Бога, чтобы Щусев не исчез в одной из боковых улиц, а пошел прямо. (Насчет Бога: я атеист и к религии отношусь насмешливо, однако иногда в волнении молюсь, поскольку не знаю иного способа себя успокоить.)
Наконец я достиг почтамта и увидел Щусева с юношей вполне ясно, причем в очереди за газированной водой. Это была удача. Конечно же, пока они стоят в очереди, я к ним не подойду, дабы наш разговор не слышали посторонние, но зато это давало мне время обдумать начало разговора и повод, поскольку за дальнейшее я не волновался, а беспокоило меня исключительно только начало и первое впечатление. Став за дерево, дабы раньше времени Щусев меня не заметил (вряд ли он меня помнил, но мог обратить внимание чисто случайно, как на прохожего, давно здесь маячившего, и если этот прохожий потом подойдет, то будет уже не впечатление искреннего порыва от встречи, а некоего расчета с моей стороны и слежки, что я хотел скрыть), став за дерево и осторожно выглядывая, не упуская Щусева из виду, я начал обдумывать варианты начала. Ссылаться надо было, конечно, не на Бительмахера, которого явно Щусев не любил, а на Фильмуса. Тем более что с Фильмусом я сошелся довольно близко, правда так и не решившись просить его познакомить меня со Щусевым, боясь испортить дело. Но какой характер придать разговору, вернее, первым словам? «Извините меня, я хотел бы поговорить с вами» – излишне таинственно и опасно… Вряд ли Щусев согласится говорить с первым встречным при такой неопределенности, опасаясь провокации. «Простите, мы встречались уже, но вы меня вряд ли помните» – тут Щусев мог не сразу отвергнуть меня, а посмотреть неопределенно. Но такое начало требовало продолжения: где именно встречались, – и тогда неизбежно следовало упомянуть Бительмахера, что, как я уже говорил, нежелательно… Оставалось с первых же фраз «взять быка за рога». «Простите, пожалуйста, Бруно Теодорович Фильмус обещал познакомить меня с вами, но такое счастливое совпадение: встретил вас на улице и сам решился…» В этом напоре было также по крайней мере два минуса. Во-первых, ложь: Фильмус не собирался меня знакомить. Во-вторых, элемент нахальства, впрочем присутствовавший во всех трех вариантах, но здесь просто более бесцеремонно и ярко выраженный. Тем не менее здесь я с первых же слов ввожу в дело человека, кажется Щусеву приятного, сидевшего вместе с ним в концлагере, дружественно к нему расположенного и потому заслуживающего внимания. Услышав фамилию Фильмус, Щусев, пожалуй, заинтересуется, а для меня главным было его первоначально заинтересовать, ибо, как я уже говорил, за дальнейшее не волновался.
Тут-то я и ошибался, ибо первое впечатление играет серьезную роль у мужчин с дамским характером, Щусев же был мужчина до мозга костей, несмотря на маленький рост (а может, благодаря ему, поскольку маленькие мужчины, будучи лишены внешней мужественности, всегда обладают более трезвым и жестким мужским началом в сути характера). Даже тщеславие и приступы нервозности не могли существенно изменить эту мужскую суть, хоть в те минуты определенный женский элемент в Щусеве, как во всяком мужчине в такие минуты, проступал. Кстати, о тщеславии. Относительно нервозности как женского начала споров, пожалуй, нет, но тщеславие некоторые ошибочно считают мужским чувством. Я категорически хотел бы это опровергнуть. Тщеславие есть страсть – страсть выделиться из себе подобных. Мужских же страстей вовсе нет, и недаром страсть – она, то есть женского рода… «Мужская страсть» звучит так же нелепо, как и «мужской грех» (хоть грех мужского рода)… Подлинно мужское начало чрезвычайно близко к буддизму, христианство же, по словам Бруно Фильмуса (здесь дан восстановленный по памяти краткий конспект его рассуждений), христианство – религия женская, направленная на борьбу с грехом, тогда как буддизм направлен на борьбу со страданием, и в этом он близок к другой древней религии, к иудаизму – разумеется, в своих основных физиологических началах, а не в философии… Казалось бы, философские постулаты этих религий прямо противоположны: «вражда не побеждается враждой» – рефрен всего буддизма, «око за око, зуб за зуб» – рефрен иудаизма, «возлюби врага своего» – рефрен христианства. Налицо якобы полная тождественность христианства и буддизма, но нет более крайних и противоположных начал, чем начала этих религий, и различие здесь опять же не в формулировках, а в их основе и толковании… В основе христианства лежит физиологическое наслаждение от самопожертвования, в то время как в буддизме – физиологическое наслаждение от собственного физического здорового начала, то есть не самопожертвование, а эгоизм как долг. Будда понимает доброту как элемент, дающий не душевное удовлетворение, а физическое здоровье. Молитва исключена, как и аскетизм. Все это средства от чрезмерной возбуждаемости, именно поэтому Будда не требует борьбы против других убеждений, восстает против мести, отвращения, злобы. То же возведение эгоизма в степень нравственной задачи характерно и для иудаизма, но на иной, даже прямо противоположной философской основе. Несмотря на всю жесткость и сухость, в иудаизме преобладает эгоизм отцовства, господствующий над незрелой еще человеческой личностью и целым рядом твердых мер создающий для этой личности пусть и суровую, но необходимую духовную диету… Заповеди буддизма, так же как и заповеди иудаизма, изложенные в Библии, часто напоминают элементарные гигиенические правила, лишь соблюдая которые человек может получить удовлетворение от своей подлинной, а не вымышленной судьбы и от подлинных, а не вымышленных радостей бытия. Разница же в философии между иудаизмом и буддизмом заключается отчасти в истории, но, может, еще в большей степени в географии, ибо буддизм возник в стране, где врачует сам мягкий климат и где народ отличается кротостью, в то время как иудаизм возник среди знойных песчаных пустынь и порабощенного народа, требовавшего принудительного врачевания и жестких гигиенических правил. Христианство же несет в себе совершенно иное начало – не излечение, а исцеление, поэтическое излечение внушением – и потому требует чрезвычайно раздраженной чувствительности, выражающейся в утонченной восприимчивости к страданиям, а также чрезмерными духовными напряжениями. Вот почему христианство является женской религией, в то время как иудаизм – мужской. И вот почему для создания жизненного напора в развивающемся несовершенном мире христианство родилось из иудаизма, как Ева из ребра Адама. Буддизм же, названный кем-то из философов религией нигилизма и декаданса, не нуждался ни в каких дополнительных построениях и – среди мягкого климата и кроткого народа – не нуждался в жизненном напоре, а наоборот, лишь в созерцании и отсутствии дальнейшего духовного развития, ибо вполне был удовлетворен тем, что имел, и не искал защиты того, чего достиг. Таким образом, он утратил не только страсти, но и ярко выраженный пол, став существом всеобъемлющим, – впрочем, это значит – все-таки мужским, в котором женское начало растворилось…
Прошу прощения за новое отступление, и следует вернуться к Щусеву, который в момент моей встречи с ним чувствовал себя хорошо физически, был спокоен, трезв (кстати, вынужден вновь прерваться, ибо, как говорят, подвернулось к слову. Пьянство считают главным образом мужским пороком, а между тем это также проявление в мужчине женской сущности, искусственно возбуждаемой, то есть греха. Поэтому нет ничего отвратительней сильно пьяной женщины, поскольку она в своем грехе особенно естественна и глубока).
Итак, Щусев был спокоен, крепок физически, трезв, а значит, мужское начало в нем господствовало полностью. Но я всего того не знал и понял впоследствии, сопоставляя и анализируя. Тогда же я выждал, пока, постояв в довольно длинной очереди, Щусев и юноша со шрамом не напились газировки и пошли вдоль улицы. Я двинулся следом, выискивая наиболее удобный момент, чтоб подойти. Под удобным моментом я понимал следующее: либо они сядут на одну из скамеек, тогда мне вообще повезло (сидящий человек в принципе, даже помимо своей воли, всегда более внимателен и терпим. Поэтому политическая полемика особенно сильного накала обычно ведется стоя). Итак, либо они сядут, либо отойдут в менее людную местность. Правда, была чрезвычайная опасность, подстегивающая меня и заставляющая либо немедленно действовать, либо отступить от своих намерений и искать других, менее рискованных путей знакомства. Опасность эта заключалась в городском транспорте. Не говоря уже о такси, после чего Щусев был бы сразу потерян, даже обычный троллейбус делал мою попытку почти невыполнимой и весьма сомнительной. Пусть и успею я оказаться в одном троллейбусе, несомненно им примелькаюсь как любой из пассажиров, и после того подходить на личном порыве от якобы случайной встречи было бы рискованно, а в троллейбусе заговорить и вовсе смешно.
Так размышляя, я шел торопливым шагом (Щусев со своим спутником ускорили шаг, словно куда-то спешили, и это также меня встревожило). Я шел, ругая себя за нерешительность, но тут же опровергая эти доводы иными, осторожными и трезвыми. Нет ничего хуже, чем когда я оказываюсь в подобном растерзанном душевном состоянии. Я отлично понимал, что еще минут пять подобного душевного киселя (термин мой) – и я совершенно потеряю способность действовать. Между тем Щусев с юношей подошли к перекрестку, причем шли они по тротуару, ни разу не выказав намерения перейти на бульвар, тянувшийся в центре улицы, а значит, надежда на то, что они сядут, становилась ничтожной. В то же время, судя по всему, они спешили, а на перекрестке пересекалось несколько троллейбусных маршрутов, и Щусев вполне мог воспользоваться городским транспортом, что, как я уже говорил, было для моих попыток познакомиться губительно. Поэтому, когда возник малейший намек на какие-то более благоприятные обстоятельства, то есть Щусев с юношей попросту остановились, пережидая поток транспорта, я кинулся к ним в отчаянии, хоть вокруг, совсем рядом, ожидая возможности перехода, стояло множество случайных прохожих.
Я надолго, может быть навсегда, до конца жизни, запомню эти роковые минуты. Улица, пересекавшая нам путь, была хоть оживленна, но узка. На противоположной стороне ее был красавец-собор, одна из городских знаменитых достопримечательностей, куда стекались не только верующие, но и просто любопытные, а также любители искусств, посмотреть на религиозные картины Врубеля и Васнецова. Собор этот часто посещали иностранцы. Сейчас, в воскресный день, в соборе шла служба, двор его был полон людей, входящих и сходящих по широким ступеням, а у обочины стояло два туристских автобуса и несколько автомашин иностранных марок.
Я все это так подробно описываю, поскольку Щусев в тот момент, когда я решился подойти, как раз рассматривал этот собор, запрокинув голову и что-то говоря юноше – кажется, насмешливо. Купола собора уходили глубоко в голубое небо, густое и сочное от полуденной жары, словно пронзали его, и солнечное сияние вокруг раскаленного металла куполов создавало даже иллюзию неких проломов, откуда струился на землю рассеянный, беспокоящий душу свет, конечно же не от религиозных чувств, чуждых мне, а от необычной перспективы и странного ракурса, когда видишь привычные предметы наяву как во сне. Все эти впечатления происходят, разумеется, когда стоишь слишком долго, запрокинув голову, и кровь тяжело наполняет затылок. На какое-то мгновение я вдруг забылся, а когда опомнился, то испугался своей нелепой рассеянности, которая может все мои действия свести к нулю. Но, по счастливому совпадению, Щусев не воспользовался свободным переходом, а, видимо, тоже заинтересовался собором и продолжал что-то насмешливо говорить юноше. Более откладывать мои намерения нельзя было, я решился и подошел.
Несмотря на взволнованность и некоторое нелепое по форме начало (я заговорил, подойдя сзади, со спины, явно от робости, так что первоначально ни Щусев, ни юноша не обернулись, думая, что не к ним я обращался, пока не дошел до фамилии Фильмус, как и рассчитывал), итак, несмотря на нелепое начало, которое, когда Щусев обернулся, мне пришлось повторить, в целом я не сбился и изложил именно как рассчитывал, очень естественно подав неправду о намерениях Фильмуса меня познакомить, и даже, как мне казалось, создал впечатление случайной встречи, а не продолжительной слежки. Щусев слушал меня спокойно, не перебивая, но с некоторой язвительной насмешливостью во взгляде, возможно оставшейся по инерции от каких-то размышлений относительно собора и невольно перенесенной по состоянию на меня. Однако я, будучи взволнованным, принял эту язвительную насмешливость за благодушную улыбку. Такое непонимание, при моей природной подозрительности, кажется нелепым, но следует учесть покойное состояние Щусева, ибо, отнесись он ко мне встревоженно-враждебно, я бы сразу это уловил. К тому ж, оказывается, между Щусевым и Фильмусом недавно произошло неприятное объяснение, о чем я не подозревал, и потому ссылка на Фильмуса была явно некстати. Это можно было осознать при определенной трезвости мышления хотя бы по такой фразе:
– Зачем вам, собственно, знакомство со мной? – спросил Щусев. – Судя по методам вашего знакомства, вы человек самопознания, а тут Бруно незаменим.
Я начал горячо возражать, доказывая, что целиком разделяю взгляды Щусева на сталинизм, хоть и услышанные мельком, тем более что меня тогда не представили.
– Где, собственно, услышанные, – резко повернул разговор Щусев, – и где вы не были представлены?
Я запнулся. До того я держался версии, что видел фотографию Щусева у Фильмуса и по ней узнал, и вдруг так нелепо проговорился и попал в ужасное положение… Краска залила мне щеки, я замолчал, проклиная мысленно себя и на себя озлобясь, ибо упомянуть Щусеву о Бительмахере вовсе означало погубить дело, тем более, возможно, Щусев попросту антисемит, такое среди реабилитированных случалось нередко, и упоминать о Бительмахере не следовало.
– Ну хорошо, – сказал Щусев, когда молчание мое чересчур затянулось, и вроде бы таким образом приходя мне на помощь, – не будем уточнять, раз вам неприятно…
И вдруг задал мне вопрос вовсе уж «из другой оперы», именно – женат ли я. Здесь уж насмешка была вовсе грубая и с нажимом. Может, на то Щусев и рассчитывал, на мою обиду, которая даст ему возможность отвязаться. Но даже и сейчас, когда самый нечувствительный и неразвитый человек понял бы намек, я остался глух и, наоборот, думая попасть в тон Щусеву, высказался довольно витиевато и в том стиле, каким пишут в альбомчики провинциальных девиц:
– Такие люди, как я, женятся ли они или остаются холостяками, навек обвенчаны только со своей судьбой, больше ни с кем.
– А вообще женщин вы любите? – серьезно спросил Щусев.
– Нет, – искренне ответил я, причем достаточно поспешно и не задумываясь, как говорят о выстраданном (в этом удача. Не поняв насмешки, я был искренним и тем привлек к себе Щусева. Поняв несмешку, я стал бы мстить и язвить, что случилось вскоре. Но искренность эта моя Щусеву все-таки запомнилась, и он на нее ориентировался в конечных выводах обо мне). – Нет, женщин я не люблю, – повторил я без рисовки, – когда я вижу старуху, то радуюсь злобно и думаю: «Вот вам, женщины-красавицы!.. Вот вам!.. Никто из вас не спасется от этого, разве что смертью…»
– Интересно, – сказал Щусев и как-то медленно, по-новому посмотрел мне в глаза.
Именно сейчас, когда он посмотрел по-новому, я разом понял, что до того он надо мной смеялся. Горечь и обида овладели мной чуть ли не до слез, так что захотелось выругаться и убежать.
– Интересно, – вновь между тем повторил Щусев, глядя на меня, как говорится, с нажимом, то есть стараясь разглядеть в чужом родные, свои черты. – А вас никогда не занимало, – спросил он вдруг тихо, – какая будет погода на следующий день после вашей смерти? Через сто лет меня не интересует и через месяц тоже, это уже не мое, но вот на следующий день… Будет ли дождь или солнечно…
Впервые за наш разговор в словах Щусева появились искренние нотки, хоть на первый взгляд движение мысли его получилось скачкообразное. Однако мы как бы поменялись ролями, и, разом поняв, что все предыдущее было лишь насмешкой, я и эти его искренние слова принял за насмешку и насмешкой же постарался ответить.
– Вы всегда так мрачны? – сказал я. – Знаете, однажды я вскочил внезапно среди ночи, разом проснувшись, и мне показалось, что-то происходит в мире… Мир совершенно изменился… Либо началась атомная война, либо я умираю… Оказалось, что я просто отлежал себе руку… Торопливо растер, и все кончилось благополучно.
Я старался говорить как можно более с намеками, но Щусев смотрел на меня спокойно и задумчиво.
– Вы напрасно так, – сказал мне юноша со шрамом, до того молчавший (при ближайшем рассмотрении он оказался вовсе не юношей, а парнем моего возраста, лишь моложаво выглядевшим. Позднее, когда мы с ним сошлись, выяснилось, что он и вовсе на девять лет старше меня, успел уже в Отечественную повоевать в диверсионно-десантном отряде, откуда и вынес шрам, а позднее провести некоторое время в местах не столь отдаленных и усиленного режима). – Вы напрасно, – повторил юноша. – Платон сейчас совершенно искренне говорит, хоть, конечно, не к месту, это согласен.