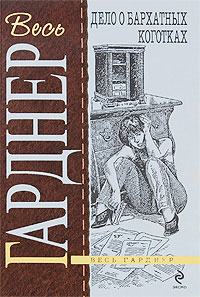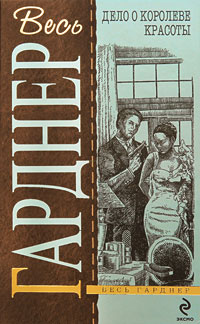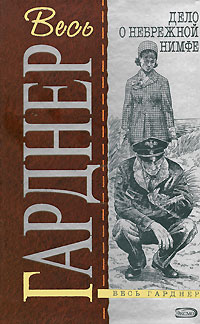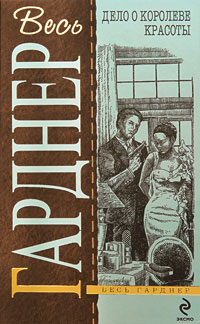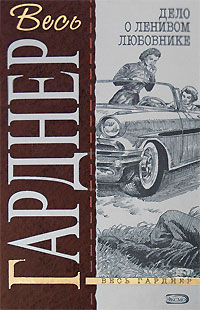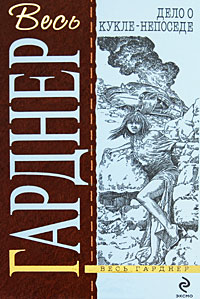Ледяная тюрьма Кунц Дин

— Его положили в больницу месяц назад, тридцать один день уже прошел. Думали сначала, что кровь плохая, подозрение на мононуклеоз или грипп. Мальчик потел, у него кружилась голова. И так его тошнило, что он даже пить отказывался. В больнице вводили ему питание внутривенно, чтобы не допустить обезвоживания организма.
При опозорившемся режиме здравоохранение находилось в исключительном ведении властей — и все равно оставалось ужасающим, даже по меркам слаборазвитых стран Третьего мира. В больницах, по большей части, не хватало даже стерилизаторов для обработки медицинского инструмента. Диагностическое оборудование вообще слыло невероятным дефицитом, а отпускаемые на медицину средства преступно транжирились. Сестры пользовались многоразовыми грязными иглами для подкожных инъекций, несмотря на то что вышли все мыслимые сроки, а поскольку стерилизация оставляла желать лучшего, зачастую укол не исцелял, заражал больного какой-нибудь дополнительной инфекцией типа гепатита. Крах былого строя явился благословением, однако бесславно ушедшая власть оставила страну разоренной, так что за последние годы качество медицинского обслуживания стало еще ниже.
Горов поежился от одной мысли о малыше Никки, вверенном попечению врачей, которых учили в заведениях, оснащенных ничуть не лучше и нисколько не современнее, чем те больницы, где они после своих вузов работали. Кто спорит, не бывает родителей, которые не молили бы бога о даровании их чадам крепкого здоровья, однако в новой России, как и в той империи, что существовала прежде, такое событие, как госпитализация ребенка, не просто заставляло беспокоиться за обожаемое дитя, но ввергало в страх, если не в отчаяние.
— Вас не поставили в известность, — продолжал Окуджава, потирая кончиком указательного пальца свою пылающую рубиновым огнем бородавку, — потому что вы выполняли весьма ответственное задание. И к тому же положение не казалось предельно критическим.
— Но если это не инфекционный мононуклеоз и не грипп, то что? — перебил его Горов.
— Эти диагнозы не оправдались. Потом подозревали ревматизм — ведь у ребенка жар.
Горов слишком давно служил в подводном флоте и командовал людьми, чтобы не научиться не показывать виду при столкновении с любыми неприятностями, будь то сбой в машинном отделении или противостояние враждебной морской стихии. Никита Горов умел оставаться внешне спокойным, даже когда внутри его все бушевало, вот как сейчас, когда душу терзали мучительные картины: его сын, перепуганный, одинокий, страдает от боли в больничной палате, по которой бегают тараканы.
— Но и эти подозрения не подтвердились, — сказал он полувопросительно.
— Так точно, — продолжил Окуджава, все еще ковыряя свою бородавку и глядя в затылок водителю. — Жар и другие симптомы пошли на спад, и некоторое время казалось, что Николай поправляется. Дня четыре он чувствовал себя неплохо. Но потом жар опять стал мучить мальчика. Назначили новое обследование. И... дней восемь назад нашли злокачественную опухоль в мозгу.
— Рак, — глухо произнес Горов.
— Опухоль слишком велика, чтобы устранить ее хирургическим путем, а радиотерапия запоздала — болезнь зашла слишком далеко. Как только стало ясно, что состояние Николая ухудшается, мы решились прервать ваше радиомолчание и вернуть вас из похода. Надо поступать по-людски, пусть мы и рискуем сорвать важное задание. — Он замолчал и наконец повернул лицо к Горову. — Прежде, разумеется, никто бы не осмелился подумать даже, что можно пойти на такой риск. Но теперь настали времена получше. — Последняя фраза была произнесена с такой неприкрытой фальшью, что можно было заподозрить Окуджаву в том, что он лелеет на груди серп и молот, знамение всего того, чему он искренне и истинно привержен.
Горова мало тревожила тоска Бориса Окуджавы по кровавому прошлому. Да и демократия его не особенно заботила, плевать ему было на все — он думал о Нике. На шее, у затылка, выступил холодный пот, словно Смерть прикоснулась к нему ледяными пальцами.
— Нельзя ли вести машину побыстрее? — спросил он у молодого человека в морской форме за рулем.
— Осталось совсем чуть-чуть, — заверил его Окуджава.
— Ему всего восемь, — сказал Горов, обращаясь скорее к себе, чем к своим спутникам.
Никто ему не ответил.
В зеркальце заднего вида машины Горов видел лицо водителя. Глаза молодого человека глядели на него с таким чувством, которое, наверное, можно было назвать жалостью.
— Сколько ему еще осталось? — спросил Горов, хотя и предпочел бы не слышать заведомо ясного ему ответа.
Окуджава заколебался. Потом все же произнес:
— Его может не стать с минуты на минуту.
Горов и без того понимал, что Ника умирает, еще с тех минут, когда в капитанской каюте «Ильи Погодина» читал расшифрованную депешу. Адмиралы, конечно, не были ни людоедами, ни извергами рода человеческого, но, с другой стороны, Министерство не разрешило бы помешать выполнению ответственнейшего задания в Средиземноморье, не будь положение совершенно безнадежным. Потому на всем стремительном пути своем в Москву Горов старательно готовил себя к такой новости.
Лифты в больнице не работали, и Борис Окуджава повел Горова черным ходом, по грязной, плохо освещенной лестнице. Окна на лестничных площадках давно не мыли, их стекла были густо засижены мухами.
Подниматься пришлось на седьмой этаж. Дважды Горов останавливался, когда ему казалось, что у него дрожат колени, но оба раза, на миг поколебавшись, заставлял себя продолжать свое скорбное восхождение.
Никки лежал в палате на восемь больных, в которой было еще четверо умирающих детишек. Кроватка крошечная, простыни застираны, изношены и в пятнах. Ни установки контроля электроэнцефалограммы, ни чего-нибудь еще из медицинского оборудования поблизости не было. Решили, что все равно конец, и бросили в палату для умирающих. Вот где его сыну суждено провести последние свои мгновения на этом свете. За здравоохранение все еще отвечало государство, а ресурсы сокращались и сокращались до предельной крайности. Это означало, что врачам приходилось сортировать больных, раненых, покалеченных по стандартам излечимости и пользовать их соответственно этой немилосердной классификации. Кто же будет самоотверженно спасать пациента, если шанс, что тот выздоровеет, не превышает пятидесяти процентов?
Малыш был ужасающе бледен. Восковая кожа. Серовато-седой налет на губах. Глаза закрыты. Золотые кудри липкие, свалявшиеся от пота.
Дрожа, как старик-паралитик, все меньше будучи в состоянии сохранять самообладание флотского офицера, к тому же подводника, Горов подошел к кроватке и застыл над ней, вглядываясь в единственное свое дитя.
— Ника, — проговорил он неуверенным, еле слышным голосом.
Мальчик не ответил и не открывал глаз. Горов присел на краешек кровати. Положил ладонь на ручонку ребенка. Еще теплую.
— Ника, я пришел.
Кто-то коснулся его плеча, и Горов вздрогнул. За спиной стоял врач в белом халате. Он указал на женщину у противоположной стены палаты.
— Вот кому вы сейчас очень нужны.
Это была Аня. Горов был так поглощен мыслями о Никки, что не заметил жену. Она стояла у окна, делая вид, что рассматривает прохожих, снующих по бывшему Калининскому проспекту.
То, как она держала голову, свидетельствовало о глубине охватившего ее отчаяния. Исподволь до него доходил смысл сказанных доктором слов. Они означали, что Никки уже умер. Уже не скажешь: «Я люблю тебя» в последний раз. Поздно, уже не будет последнего поцелуя. Слишком поздно: он не скажет, поглядев в последний раз в глаза ребенка: «Я всегда тобой гордился». Поздно, поздно. Не будет последнего «прости».
Да, Ане он сейчас был очень нужен. Но у него не было сил подняться с краешка постели — словно он все никак не мог поверить, не мог осознать, что смерть Никки — это навеки. Он произнес ее имя, и, хотя позвал он ее еле слышным шепотом, она сразу же повернулась к нему. Глаза залиты слезами. Губы искусаны в кровь — чтобы не плакать. Анна сказала:
— Я хотела, чтобы ты был тут.
— Мне сообщили только вчера.
— Я совсем одна была.
— Знаю.
— Так боялась.
— Знаю.
— Лучше бы я сама, а не он... — сказала она. — И ничего... ничего теперь не сделаешь... Ему ничего уже не надо.
Ему наконец достало силы подняться с постели. Оторвавшись от детской кроватки, он подошел к жене и обнял ее. И она в ответ обняла его. Крепко-крепко.
Но маленькие страдальцы, умиравшие в палате, оставались безучастны к присутствию Горова и Анны — трое детей находились в состоянии беспамятства и безразличия к происходящему. Лишь одна живая душа, которая обратила внимание на чужое горе, принадлежала девочке. Ей было лет восемь или девять, у нее были каштановые волосы и огромные выразительные глаза. Она полулежала на соседней кровати, опираясь плечиками на подушки, изможденная, словно столетняя старуха.
— Все — хорошо, — сказала она Горову. И несмотря на страшный недуг, изуродовавший и обессиливший ее тельце, голосок ее прозвучал нежно и музыкально. — Вы свидитесь с ним. Он теперь на небе. Ждет вас там.
Никите Горову, воспитанному советской властью в пренебрежении к религии, вдруг захотелось обрести веру — столь же простую и крепкую, как та, что прозвучала в словах девочки. Он считал себя атеистом. Он был очевидцем, на какие чудовищные деяния способны вожди народов, возомнившие, что веруют в то, что бога нет; ему было понятно, что нет надежды на справедливость в мире, отринувшем понятие о божественном воздании и о жизни после смерти. Бог должен существовать, иначе человечество не сумело бы справиться с собой и давно бы уже погибло. Аня плакала у него на плече. Он, крепко обнимая ее, гладил ее золотые волосы.
Небо в похожих на кровоподтеки пятнах вдруг разверзлось, обрушивая потоки дождевой воды. Капли застучали по подоконнику, запрыгали по окну, стали растекаться по стеклу, размывая пейзаж за окном.
До конца того страшного лета они пробовали отыскать хоть что-нибудь, над чем можно было бы посмеяться. Они ходили в театр на Таганке, на балет, в мюзик-холл, в цирк. Не единожды танцевали они в большом павильоне в парке Горького и до изнеможения, как дети, старающиеся не пропустить ни единого удовольствия, развлекались на аттракционах Сокольнического парка. Каждую неделю они ходили в «Арагви», едва ли не самый знаменитый ресторан в городе, и там Аня училась вновь улыбаться за порцией мороженого с вареньем, а Никита там же постепенно превращался в знатока и ценителя сациви[11] — это обильно сдобренный приправами цыпленок, которого тушат в ореховом соусе. В этом ресторане они пили слишком много водки, запивая ею икру, и слишком много вина, заедая его сулугуни[12] с хлебом. И каждую ночь они пылко любили друг друга, любовь походила на взрыв, словно страстью своей они рассчитывали перечеркнуть страдания, рак, смерть.
Хотя она так никогда и не стала прежней беззаботной Аней, все же, по сравнению с ним, она приходила в себя быстрее. Ведь ей было только тридцать четыре года, она была на десять лет моложе Никиты, живее его, бодрее духом. А самое главное — она не испытывала чувства вины, которое давило на него, словно свинцовое ярмо, повешенное на шею. Он понимал, что Никки в последние свои недели на этом свете и особенно в последние часы должен был все время спрашивать об отце и звать его. Понимая это, Горов не мог избавиться от ощущения, что он бросил дитя, он как бы предал единственного сына, не сумел его спасти. Несмотря на необычные для нее паузы в разговоре, когда ее молчание становилось еще глубже из-за какой-то новой серьезности в глазах, Аня постепенно вновь обретала былой задор и бодрость духа. А вот Никита только притворялся оправившимся.
В первую неделю сентября Аня вернулась на работу. Она занималась ботаникой и работала научным сотрудником большой лаборатории, ведущей полевые исследования и расположенной в густом сосновом лесу в тридцати шести километрах от Москвы. Работа стала для нее еще одним способом забыться. Уходя на работу рано, она допоздна засиживалась в лаборатории.
Хотя ночи и выходные дни они по-прежнему проводили вместе, Горов теперь чувствовал себя уж очень одиноко. В квартире каждая мелочь напоминала о прошлом, принося боль, как, впрочем, и дача, которую они сняли за городом. Он пытался подолгу гулять, но чуть ли не всегда прогулка завершалась зоопарком или музеем, а если он пытался обойти эти места, на глаза попадался другой городской пятачок, памятный тем, что они с сыном когда-то тут побывали.
Сын ему то и дело снился, а уж из головы и вовсе не выходил. Горов часто просыпался за полночь, а потом лежал в темноте, снедаемый мучительным ощущением пустоты. Когда он видел сына во сне, Ника всегда спрашивал, а почему отец бросил его.
Восьмого октября Горов направился к непосредственным своим начальникам в Министерстве и попросил вновь назначить его на судно «Илья Погодин». Лодка как раз стояла в Калининграде, проходя в тамошнем доке плановую профилактику. Кроме того, субмарину предполагалось оснастить новой техникой — исполненным по спецзаказу и использовавшим уникальные разработки комплексом для электронного мониторинга. Вернувшись к своим служебным обязанностям, Горов с головой ушел в контроль за монтажом, за которым последовала приемка, а там и опробывание нового разведывательного оборудования; по ходу испытаний лодка прошлась в середине декабря под волнами Балтики — сравнительное мелководье и, следовательно, редкий штиль давали возможность довольно просто и быстро определить все слабые места новой техники.
Новый год он встретил дома, в Москве, с Аней, но в город они не выходили. По обычаю, в России этот праздник считается прежде всего детским. К тому же за Новым годом следуют школьные каникулы. В эти дни мальчишки и девчонки попадаются повсюду, на каждом шагу: в кукольном театре, на балетном спектакле, в кино, возле уличных елок, где часто дают представления для детворы, дети заполняют все парки. В эти дни даже Кремль распахивает для них свои ворота. И на каждом углу — малыши: они хвастаются друг другу подарками, полученными от Деда Мороза. Но Никита и Аня этих зрелищ предпочли не видеть. Целыми днями они сидели в своей трехкомнатной квартире. Раза два они занимались любовью. Аня наготовила армянских мясных пирожков, зажаренных в расплавленном жире, и они их с большим удовольствием запивали сладким вином.
В поезде, идущем в Калининград, он проспал всю ночь. Покачивание вагонов и ритмичный стук колес о рельсы, надеялся Никита, подарят ему крепкий, глубокий, без сновидений сон. Но надеялся зря: он просыпался дважды, с именем сына на устах, со сжатыми кулаками, в холодном поту.
Самое страшное горе для любого человека — пережить собственное дитя. Рушится весь природный порядок вещей.
Второго января он вывел «Илью Погодина» в открытое море, предстояло выполнить секретнейшее задание по электронному шпионажу. Из похода они вернутся только через сто дней. Горов готовился провести четырнадцать недель в глубинах Северной Атлантики и рассчитывал, что этого времени хватит, чтобы как-то стряхнуть с себя все еще мучившее его горе и непреходящую вину.
По ночам Ника продолжал посещать его, проникая через многотонные и многометровые толщи соленой воды над лодкой, преодолевая темные морские просторы и добираясь до самых недр души своего отца, мучая его одним и тем же вопросом, на который нечего было ответить:
— Почему ты бросил меня, папа? Почему тебя не было рядом, когда ты мне был так нужен? Почему ты не приходил — мне было так страшно и я звал тебя? Я тебе не нужен, папа, да? Я не нужен тебе? Почему ты не помог мне? Почему ты не спас меня, папа? Почему? Почему?
* * *
Кто-то тихонько стучался в дверь каюты. Но, подобно тому, как еле слышная нота отдается раскатами благовеста в пустоте внутри бронзового колокола, так и этот вежливый стук отзывался негромким, но внятным эхом в крошечной каюте.
Горов вернулся из прошлого и поглядел поверх фото в серебряной рамке.
— Кто там?
— Тимошенко. Разрешите войти?
Капитан отложил фотографию и отвернулся от стола.
— Входите, лейтенант.
Дверь отворилась.
— Мы получили ряд сообщений, которые необходимо предоставить лично вам для ознакомления.
— О чем?
— Касательно ученых экспедиции Организации Объединенных Наций. База у них называется станцией Эджуэй. Вспомнили?
— Разумеется.
— У них, кажется, неприятности.
14 ч. 46 мин.
Харри Карпентер закрепил стальную цепь в карабине, а карабинный зажим накинул на полукольцо, приваренное к раме снегохода сзади.
— Ну, теперь нам бы еще чуточку везения.
— Держит, — сказал Клод, подергав цепь. Он стоял на коленях рядом с Харри, спиной к ветру.
— А я и не боюсь, что она порвется, — в тон ему сказал Харри, устало вставая на ноги и потягиваясь.
Цепочка и впрямь выглядела слишком изящно — такую мог бы изготовить какой-нибудь ювелир. Но она выдерживает больше полутора тонн груза: ее испытывали на разрыв, подвешивая к ней тысячу восемьсот кило. Потому цепи придется как нельзя лучше справиться с поставленной задачей, тем более что под рукой все равно нет ничего получше.
Снегоход подогнали к вскрытой скважине буквально вплотную. За слегка запотевшим плексигласовым ветровым стеклом виднелось лицо Роджера Брескина, готового двинуть машину вперед, как только Харри, которого Брескин высматривал в зеркальце заднего вида, подаст знак.
Натянув снегозащитную маску на нос и губы, Харри просигналил Роджеру: «Давай!», а потом отвернулся от ветра и уставился на аккуратную круглую дырочку во льду.
С другого боку подле той же вскрытой скважины стоял на коленях Пит Джонсон, ждавший, когда снегоход отъедет и будет видно, как поднимается бомба и хочет ли она вылезти наверх вообще. Брайан, Фишер и Лин сидели в другом снегоходе, грелись.
Запустив двигатель и опробовав его, так что тот несколько раз взревел, Роджер отжал сцепление и нажал на газ. Машина сместилась на метр от места, где стояла. Двигатель нервно реагировал на потуги водителя, и на какое-то мгновение вой и чихание мотора заглушили визг ветра.
Цепь натянулась так туго, что Харри подумал: коснись ее, и она издаст самую высокую ноту, почище любого оперного сопрано.
Но бомба не шелохнулась. Не сдвинулась ни на единый сантиметр.
Цепь задрожала. Роджер подбавил газу.
Уже забыв, что говорил он Клоду, Харри стал бояться, что цепь вот-вот рванет.
Сани кряхтели и выли — предел мощности.
С треском, похожим на выстрел из ружья, звенья цепочки прорвали полусантиметровую толщу свежего льда, отделявшего тонюсенькую скважину от более широкого прежнего ствола, куда цепь успела вмерзнуть. Звенья выходили из скважины друг за другом, значит, и цилиндр с пластиковой взрывчаткой подался за ними, решив расстаться со своим ледовым ложем. Снегоход полз вперед, цепь подавалась все выше и выше, будучи невероятно туго натянутой, и бомбе не оставалось ничего иного, кроме как повиноваться и следовать за цепью, со скрипом и скрежетом обдирая внутреннюю поверхность скважины.
Пит Джонсон поднялся с колен и, когда к нему подошли Харри с Жобером, присел над круглой дырой во льду. Запустив узенький лучик фонарика в чернеющий под ним тонкий колодец, Пит дожидался, пока наконец из скважины не выглянул заряд. И тут он махнул Брескину — хорош, мол, кончай! Потом, ухватившись за цепь обеими руками, наполовину вытащил тубус со взрывчаткой из ствола, а подоспевший Харри подхватил цилиндр с днища, и общими усилиями они извлекли бомбу на свежий воздух. Потом положили ее на лед.
Одна готова. На очереди еще девять.
14 ч. 58 мин.
Гунвальд Ларссон как раз доливал в кружку с кофе молоко из консервной банки, когда пришел вызов с военной базы армии США в Туле, остров Гренландия. Отставив банку в сторону, Ларссон заспешил к радиостанции.
— Эджуэй слушает. Ларссон на связи. Понял вас. Слышу вас хорошо. Продолжайте, прошу вас. Прием.
У офицера-связиста в Туле был такой сильный и тягучий голос, что, казалось, не страшны ему даже электростатические помехи.
— Удалось ли вам услышать хоть еще раз ваших заблудших овечек?
— Нет. Мы не связывались. У них много работы. Госпожа Карпентер оставила радиостанцию, чтобы завершить розыски в развалинах лагеря. Надеется найти что-нибудь подходящее. Не думаю, что она скоро выйдет на связь. Разве что, если вдруг там что-то стрясется.
— Как погода на Эджуэй?
— Жуть.
— И тут так. И, видимо, будет еще хуже. Прежде чем кое-что станет улучшаться. Скорости ветров и высоты волн побивают все рекорды в соревновании между штормами Северной Атлантики.
Гунвальд уныло поглядел на радио.
— Уж не хотите ли вы мне сообщить, что эти траулеры ООН повернули назад?
— Одному пришлось повернуть.
— Но ведь эти тральщики МГГ еще два часа назад шли на север?
— Судно, которое называется «Мелвилл», старше «Либерти»[13] лет на десять-двенадцать. И хотя «Мелвилл», быть может, и в состоянии выбраться и не из такой бури, как эта нынешняя, но идти навстречу шторму, против ветра корабль не может. И машина не такая сильная, и конструкция не очень прочная. Капитан боялся, что если он не положит судно на обратный курс, то оно рассыплется.
— Однако он вроде бы все еще в штормовой зоне.
— Ну, моря даже там неспокойные.
Гунвальд провел рукой по вдруг повлажневшему лицу и вытер ладонь о брюки.
— А «Либерти» идет прежним курсом?
— Да. — Американец замолчал. Радио посвистывало, потрескивало электрическими разрядами, шипело, словно эфир изобиловал змеями. Потом тягучий голос произнес: — Смотрите. Знаете, на вашем месте я так бы не цеплялся своими упованиями за «Либерти».
— У меня нет другой соломинки.
— Да уж. Но шкипер этой второй посудины ненамного увереннее, чем капитан тральщика «Мелвилл».
— И, догадываюсь, вертушку в воздух вы пока пустить не можете, правда? — спросил упавшим голосом Гунвальд.
— Вся техника на приколе. Вертолеты в ангарах.
И добро на полет получат не скоро. Нам это, может быть, и не по вкусу, но что делать?
Громкоговоритель крякнул и щелкнул — электростатические поля.
Гунвальд ничего не сказал.
Наконец, заметно обеспокоенным голосом офицер с Туле произнес:
— Знаете, «Либерти» все же имеет шанс. Будем надеяться.
Гунвальд вздохнул.
— Я не могу, понимаете, не могу сказать своим про «Мелвилла». Не смею. Не сейчас.
— Как знаете.
— Если и «Либерти» повернет назад, что ж, тогда скажу. Сейчас не хочу их расстраивать. Надежда ведь остается. Какая-то.
В ответ из Туле послышалось:
— Мы все за них. В Штатах все выпуски новостей с них начинаются. Газеты тоже. Миллионы людей за них.
15 ч. 05 мин.
Узел дальней связи подлодки «Илья Погодин» сиял всеми цветами радуги — такая красочность обстановки в одном из отсеков боевого подводного судна возникала благодаря экранам видеотерминалов, на огромные плоскости которых выводились декодированные уже результаты радиоперехвата, ставшего возможным благодаря антенне основного радионаблюдения, что качалась теперь на морских волнах в тридцати метрах над заполненным красочными сполохами помещением. Операторские пульты для ввода-вывода данных высвечивали все основные цвета. В одном углу этой напичканной добром каюты трудилось двое техников. А Тимошенко беседовал с Никитой Горовым у двери.
Хотя вычислительные машины субмарины непрерывно сортировали и отправляли в банки данных на хранение сотни сообщений, касающихся самых разных тем, все же поток данных, так или иначе связанных с Эджуэйским кризисом, был заметен и непрерывно увеличивался. С консоли в главный компьютер ввели пять ключевых слов: Карпентер, Ларссон, Эджуэй, «Мелвилл», «Либерти». Эта главная ЭВМ должна была создать специальный файл из сообщений, содержащих по крайней мере одно из этих пяти слов.
— Это все? — спросил Горов, дочитав материалы по Эджуэй.
Тимошенко кивнул.
— ЭВМ выдает обновленную распечатку файла каждые пятнадцать минут. Той, что у вас, всего десять минут от роду. Может быть, и появились за это время какие-то незначительные дополнения и добавления. Но главное — у вас на руках.
— Если погода наверху хоть вполовину такая скверная, как они говорят, то и «Либерти» придется повернуть назад.
Тимошенко согласился с этим предположением.
Горов глядел на распечатку, уже не видя ни текста, ни тем более букв, и даже не старался прочесть, что там написано. За черными как ночь буквами, оттиснутыми лазерным принтером, проступал образ мальчика: свеженькое личико, золотая шевелюра, распахнутые объятия. Сын, которого он не сумел спасти.
Наконец, Горов заговорил:
— Я буду в рубке управления. Подождем дальнейших сообщений. Дайте мне знать сразу же по поступлении новых известий на этот счет.
— Слушаюсь.
Поскольку «Погодин» сейчас, по сути дела, не двигался, а практически неподвижно висел в глубине, вахту в рубке управления несли всего пятеро, не считая первого помощника капитана по фамилии Жуков. Трое сидели в черных креслах, вращающихся вокруг осевого винта, следя за стеной напротив, которая представляла собой сплошной ковер из циферблатов, экранов, панелей индикации, рукояток, ручек, ключей, клавиш, кнопок, — а напротив располагался пульт контроля за погружением. Первый помощник Жуков сел на металлический стул в самом центре зала и погрузился в считывание свежайших новостей, которые по его запросам ЭВМ выводила в виде большой таблицы на лицевой панели графопостроителя.
Эмиль Жуков представлял собой единственную вероятную угрозу противодействия тому замыслу, который Горов намеревался осуществить, хотя и не представлял себе пока точного плана во всех деталях. Жукову, единственному среди членов экипажа, были предоставлены полномочия на отрешение капитана от власти в случае недееспособности последнего. Это означало, что если Жуков возомнит, что Горов не в своем уме, не приведи боже, капитан не повинуется прямым указаниям Военно-Морского Министерства, то Горов может расстаться с капитанским мостиком. Естественно, воспользоваться этим своим правом Жуков решится лишь в крайней нужде. Рано или поздно подлодка вернется из похода, а на родине ее ждет начальство, которому надо будет доказывать правомерность своих действий.
Как бы то ни было, Жуков вполне мог сорвать реализацию плана.
Эмилю Жукову исполнилось сорок два года, и, стало быть, он был ненамного моложе своего капитана, однако в отношениях между ними чувствовалось неравноправие, отличное от надлежащей субординации, — нечто вроде отношений наставника и подмастерья. Роли «учителя» и «ученика» возникли как бы сами собой, и по большей части, по воле Жукова, в чинопочитании. Жуков до того уважал порядок и дисциплину, что выказывал в отношении любого начальства нездоровое благоговение. Будь на месте Горова кто-то иной, мало что бы изменилось: Жуков способен был увидеть светоч знаний и источник мудрости в любом капитане. Высокий, худой, длинное продолговатое лицо, напряженные карие глаза, густые темные волосы — все это, на взгляд Горова, придавало его первому помощнику сходство с волком. К тому же осторожность в движениях дополняла манера глядеть прямо в лицо, выражение которого у Жукова при этом казалось алчным. На самом же деле он просто ел глазами любое начальство и вообще не был ни столь опасен, ни столь ярок, как это могло представиться постороннему человеку. Жуковым Горов не мог быть особенно недоволен: просто хороший человек, настоящий мужчина, надежный, хотя и не хватающий звезд с неба, командир. В обыкновенном раскладе искренняя почтительность к непосредственному руководителю заведомо означала готовность к сотрудничеству — однако никак нельзя было считать верность Жукова своему капитану чем-то само собой разумеющимся, особенно при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Жуков постоянно имел в виду, что, кроме Горова, на свете много другого начальства, поглавнее его командира и, следовательно, есть такие люди, которые заслуживают большей почтительности и преданности со стороны Жукова, чем даже капитан Горов.
Подойдя к графопостроителю, Горов положил поверх изучаемой Жуковым таблицы материалы об Эджуэе.
— Поглядите-ка лучше вот это.
Когда Жуков добрался до последнего листа распечатки, он, подняв преданные глаза на Горова, сказал:
— Вот уж воистину угодили в яму, которую сами себе и выкопали. Но, знаете, в газетах я как-то не встречал слишком много статей про этот Эджуэйский проект, хотя из прочитанного мною я вынес впечатление, что они вроде бы до сих пор находятся на подготовительном этапе. Но все же эти Карпентеры замечательно умные люди. Наверное, выберутся как-то.
— Знаете, я лично обратил внимание вовсе не на Карпентеров. Там есть и другие имена.
Скоренько проглядев всю распечатку, Жуков, кажется, выудил то, на что намекал капитан. Радуясь собственной сообразительности, он сказал:
— Вы, должно быть, о Дохерти. О Брайане Дохерти.
Горов присел на другой стул, стоявший у столика с покрытой плексигласом и подсвечиваемой снизу таблицей.
— Да, вы угадали. Дохерти.
— Это не родственник убитого американского президента?
— Племянник.
— Мне очень нравился его дядя, — сказал Жуков. — Я понимаю, что вы считаете меня простаком в этом отношении.
Первому помощнику было хорошо известно об отвращении, которое испытывал Горов ко всякой политике и политиканам, и когда неприязнь его начальника к властям предержащим выходила наружу, Жуков разрывался между необходимостью сохранять уважение к своему капитану и выказывать почтительность к тем, кто стоял выше капитана. Естественно, если бы капитан даже попытался сделать вид, что он разделяет настроения своего помощника, — ради того, чтобы устранить вероятную помеху своей рискованной затее, — Жуков бы ему не поверил. Лицемерие смысла не имело, и, пожав плечами, капитан бросил:
— Политика — это все-таки только ради власти. Я уважаю результат, конкретные достижения.
— Но Дохерти был человеком стоящим, он хотел мира, — сказал Жуков.
— Ну да, миром они частенько приторговывают. Все они.
Жуков насупился.
— По-вашему, он не был великим человеком?
— Великим человеком становится ученый, который открыл новое лекарство, исцеляющее от болезни. А политик...
Жуков был не из тех, кто мечтал о возвращении старых порядков. Но ему было трудно смириться с тем, что правительство в нынешней России обыкновенно очень неустойчивое, и потому за последнее время за несколько лет в России сменилось очень уж много разных правительств. Жукову нравились сильные руководители. Ему просто был необходим некто, от кого можно было бы ожидать указаний и постановки целей — потому хорошие политики были его идолами, независимо от национальности.
Горов сказал:
— Не имеет значения мое мнение о покойном президенте другой страны. Тем более что я могу с чистым сердцем отдать должное семейству Дохерти: они переносили свое горе с твердостью и достоинством. Очень впечатляюще.
Жуков с готовностью кивнул.
— Заслуживающее всяческого уважения семейство. Да, это очень печально.
У Горова было такое ощущение, что он обходится со своим первым помощником как с каким-то мудреным музыкальным инструментом. Итак, он уже настроил этот музыкальный инструмент. Теперь надо было побудить Жукова к воспроизведению очень сложной мелодии.
— А отец этого парня — сенатор, так, кажется?
— Да, и у него немалый авторитет. И влияние, — подтвердил Жуков.
— И ведь в этого Дохерти тоже, кажется, стреляли?
— Да, было еще одно покушение.
— Видите, что творит американский строй. И вы думаете, что эти Дохерти — пылкие американские патриоты? После всего, что с ними сделала родина?
— Все Дохерти — большие патриоты, — сказал Жуков.
Поглаживая аккуратную бородку, Горов медленно, как бы подыскивая точные слова, произнес:
— Должно быть, непросто этому семейству хранить верность и любовь к родине, расправляющейся со своими лучшими сыновьями.
— О чем вы говорите? Разве это народ виноват? Вся страна? Да нет, это происки кучки реакционеров. ЦРУ, наверно, руку приложило. А американский народ тут ни при чем.
Горов сделал вид, что задумался. Потом, после подчеркнуто глубокомысленной, длившейся с минуту паузы, заговорил:
— Видимо, ваша правда. Из прочитанного на этот предмет я уяснил, что американцы как будто и в самом деле очень уважают клан Дохерти и сочувствуют им.
— Конечно. Что еще может снискать уважение, как не любовь к родине в бедственный час? Нет ничего затруднительного в любви к родине во времена благополучия и изобилия, когда ни от кого не требуется жертвы.
Мелодия, которую замыслил сыграть Горов, применяя в качестве музыкального инструмента своего первого помощника, выходила как нельзя лучше, без единой фальшивой ноты, и капитан, радуясь про себя, едва не заулыбался. Однако сдержав себя, он поостерегся раскрывать свои чувства, вместо этого вновь углубившись в эджуэйскую распечатку. Потом, наконец, отложив пачку листов, сказал:
— Да, какой шанс для России...
И, как и рассчитывал капитан, Жуков не сумел понять смысл этих слов.
— Шанс? Для России?
— России представилась возможность продемонстрировать добрую волю.
— Да?
— В трудное для нас время Россия-матушка отчаянно нуждается в хорошем к себе отношении со стороны. Как никогда, быть может. За всю историю. А если она покажет благонамеренность свою, то можно рассчитывать на приток помощи из-за рубежа, на торговые преференции, как знать, возможно, даже на сотрудничество в военной области. Может, она добьется и важных стратегических уступок.
— Простите, но я не понимаю, как этого добиться.
— До них отсюда всего пять часов ходу.
Жуков высоко поднял брови.
— Вы подсчитывали?
— Нет, это приблизительная прикидка. Но, думаю, достаточно точная. А если мы сумеем помочь этим бедолагам выкарабкаться, то мы будем героями. На весь мир прогремим! Представляете? Ну, и коль уж мы — из России, то и Россия прослывет страной геройской.
Моргая и щурясь от столь неожиданного поворота дела, Жуков спросил:
— Вы хотите их спасти?
— Как бы то ни было, у нас есть шанс выручить восемь ценных голов из пяти стран, в том числе племянника убитого президента. Хорошо, если раз в десять лет подворачивается такой случай проявить добрую волю и потом это дело еще и пропагандой раздуть.
— Но нужно разрешение из Москвы.
— Разумеется.
— Чтобы получить скорый ответ, придется воспользоваться спутниковой связью. А на спутник выйти можно только с поверхности моря. А для этого надо подняться.
— Я понимаю.
На крыле субмарины, в самом верху размещались воронка лазерного передатчика и убирающаяся вовнутрь приемная тарелочная антенна, — это крыло, похожее на плавник акулы, несло на себе еще и маленький мостик, радиомачту, радиолокатор, перископы и шноркель для захвата воздуха. Им надо было выбраться наверх пораньше, чтобы отслеживающий комплекс сумел поймать серию сигналов от вереницы российских спутников связи, и еще надо было дать прийти в себя лазеру — лишь «прогревшись» на воздухе, он сможет работать как следует. Конечно, риск, но нарушение секретности, совершенно необходимой такому кораблю, каков «Погодин», все же оправдывалось теми огромными выгодами от быстрого действия лазерного канала связи. Наличие этой установки означало, что, где бы ни был «Илья Погодин», в какую бы страну мира ни послали его шпионить, можно было передать сообщение в Москву и незамедлительно получить подтверждение приема.
Вытянутая, как у сатира, физиономия Эмиля Жукова помрачнела, он вдруг забеспокоился, и это потому, что понял: предстоит выбор, и выбор для служаки крайне неприятный. Надо будет отказать в повиновении начальству, это обязательно, — но какому? То ли собственному капитану, то ли вышестоящим в Москве?
— Прошу прощения, капитан, но мы в разведывательном походе. Если мы поднимемся на поверхность, мы разоблачим себя и сорвем задание.
Оттопырив палец, Горов провел ногтем под выделенной особой расцветкой строчкой на панели, высвечивающей электронную таблицу. В строке этой указывалась текущая широта местоположения подлодки.
— Мы — на севере дальнем, да еще каком дальнем. Кругом бушует шторм. Кто нас тут увидит? Мы всплывем, выйдем на связь, дождемся ответа, погрузимся, и все будет шито-крыто.