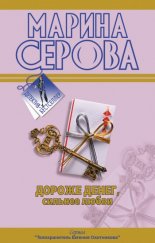Генерал Снесарев на полях войны и мира Будаков Виктор

После внутренней тюрьмы ОГПУ на Лубянке Снесарев испытал и Бутырки, и Таганку.
Долее всего он провёл в Бутырской тюрьме. Народу в камере, куда его определили, было подобно пресловутой сельди в бочке, и самого пёстрого: офицеры, священники, архиереи, студенты, инженеры, уголовники. Последние оказались не на главных ролях, их было меньше, и, видимо, более интеллигентные оказались духовно сильнее. Все, кто мог поделиться какими-нибудь знаниями, читали лекции, вели беседы, делились воспоминаниями. Андрей Евгеньевич рассказывал об Индии, о путешествиях по Азии, о войне в Карпатах и благодаря знаниям стал самым уважаемым человеком в камере, равно уважаемым и образованными политическими, и неграмотными уголовниками. Камера превращалась в аудиторию, которая напоминала столетней давности академию декабристов в Читинском остроге. В один из таких заполненных беседами июльских дней не стало спалённого туберкулёзом сына Кирилла. Снесарев рассказывал о гибели офицера в Карпатах и вдруг в миг смерти сына словно запнулся. Но затем продолжил, будто исполнял долг. О смерти сына он узнал много позже.
26 сентября 1931 года семья Снесаревых получила открытку: «Дорогая Женюра, приходи на свидание 28 сентября в бутырский изолятор. Приноси деньги и вещи. Целую. Андрей. 22/IX-31». Свидание состоялось в последний день сентября. Поехала почти вся семья. Стояла холодная ветреная погода, лил дождь. Прибывших отделяли от заключённого две решётки, между которыми, как маятники, туда-сюда двигались два охранника. Народу было тьма-тьмущая. Все кричали, было плохо видно и плохо слышно. Свидание длилось четверть часа. Жена узнала, когда будет отправляться этап и пробралась с дочерью на Октябрьский (Ленинградский) вокзал. Была глубокая холодная ночь, поезд стоял под парами на дальнем пути. Серо одетых людей с мешками вели к поезду. Среди них был и Андрей Евгеньевич. Жена и дочь стали кричать ему, он помахал рукой, но едва ли он видел их…
А в деревне русской успешно продолжался великий перелом — перелом крестьянства, перелом тысячелетнего русского хребта. Старая Калитва — снесаревская родина, тягостно помнившая свой мятеж десятилетней давности и жестокость, с которой он был подавлен, под цепами и цепями коллективизации необратимо теряла облик богатейшей, когда-то цветущей слободы.
СВИРСКИЕ ЛАГЕРЯ. 1931–1932
Пять суток тащился состав от Москвы в северном направлении, до небывалого в Российской империи, но реального в Советской стране подгосударства Свирские лагеря, тащился невыносимо медленно, будто понимая, куда везёт людей, и жалея их. Вагонный отсек, по счастью, не был переполнен: дюжина человек — не то что несколько десятков заключённых в одной коробке, бывало и так. Ветка Мурманской железной дороги тянулась до Курмана, где 3 октября 1931 года их и высадили для исполнения приговора — воспитываться трудами в назначенных лагерях. Военный деятель Снесарев, профессор-философ Лосев, профессор-психолог Петровский, архиепископ, ректор Московской духовной академии Поздеевский, священник Воробьёв и ещё двое служителей церкви, столяр Матюхин, да ещё крестьянские пареньки, им едва исполнилось семнадцать, молчаливые и отрешённые, словно теперь, когда их выдернули из бедной деревни, оторвали от родных и от нивы, жизнь потеряла для них всякий смысл.
1
Длилась, длилась крестьянская голгофа! А 1931 год выпал тяжёлым, нервным, приговорным и для военных — для перечисления их, арестованных, потребовались бы страницы и страницы; скоро военные соратники окажутся в тех же лагерях, что и Снесарев.
Станция Свирь, посёлок Гришине — административный центр Свирских лагерей, в двух десятках километров от Гришина — посёлок Важино, а в двух километрах от Важина — лагерь в деревне Олесово, куда были определены профессора и священники «октябрьского заезда».
В начале января 1932 года Евгения Васильевна выехала туда. И всего-то менее полусуток дано было на встречу с мужем, для чего понадобилось дважды выходить из поезда: сначала на станции Лодейное Поле, чтобы получить разрешение, затем на станции Свирь, оттуда ещё несколько часов добираться до Гришина, да ещё вёрсты и вёрсты до Важина. Жена привезла с собой не столько еды, сколько всякой всячины, чтобы муж мог представить, чем и как занимаются дети: тетради по математике и русскому, чертежи, школьные сочинения, дочерины поделки и рисунки.
По возвращении она зачитала детям письмо-напутствие отца: «…Вы уже большие, вам уже многое становится яснее, положение наше… — для вас теперь открытая книга. Скорее становитесь на ноги, учитесь прилежно, работайте упорно… Вы не дети генерала, путь которых был усеян розами, ваш путь должен быть усеян трудом и потом… каждый ваш шаг вперёд несёт мне покой и надежды…»
В зимние и весенние месяцы Снесарев мытарствовал в посёлке Важино, в деревне Олесово, в палатках ютились когда двенадцать, а когда и двадцать заключённых. Работал он сторожем на посту № 1. (Ирония судьбы — нарочно не придумаешь: на долгие годы пост № 1 — у Мавзолея на Красной площади.) Оказалось, в стране были и иные посты под цифрой один — и военные, и гражданские, и лагерные, подчас комичные по своей незначительности, а то и ненужности. Таковым был и пост такелажных складов, где Снесарев был ответствен за… три десятка цепей, восемь якорей, несколько десятков брёвен и досок. После четырёх часов дежурства его сменяли Лосев или Ульянов, но часто с задержками, норовя сбросить часть своего дежурства на всегда и во всем ответственного Снесарева. Что ж, можно было понять. Ведь Лосев не знал про посты на войне. Не проверял их, как Снесарев. Не устанавливал посты на памирской границе. Он был значителен другим.
Нередко Андрея Евгеньевича назначали вести учётные дела. Когда по реке Свирь сплавляли лес, приходилось учитывать работу задействованных бригад. Бывший профессор статистики справлялся быстро и безошибочно. Материалы должны были стекаться в Гришине, а сведения надо было получать по лагпунктам Погост, ещё один Погост, Купецкий, Екунда, Кыягинино — это лагеря, растянутые на два десятка вёрст. В путешествиях под дождём, под снегом, в пургу, в ножевой ветер встречал Владиславского, Лигнау, Сегеркранца, Бесядовского — все профессора Высшей военной академии. С иными дружен был на войне, с иными знаком был даже до войны, но при встречах они не вспоминали ни о войне, ни о лубянско-бутырском сидении и следствии.
Сдав материал в аттестационную комиссию учётно-распределительной части, он заступал на сторожевой пост.
2
В апрельскую холодную ночь милая, лет девятнадцати девушка ехала в полутёмном вагоне всё дальше от Москвы. Тьма к северу всё глубже, всё дольше. Проехала Лодейное Поле — здесь мутно посветили редкие привокзальные фонари. А за городом — во тьме пространств — масса огоньков, словно древняя рать расположилась на поле в ожидании утренней сечи. Девушка спросила у бессонных печально-молчаливых попутчиков: «Подъезжаем к большой станции?» Ей ответили, что это в чистом поле сосланные кулаки пытаются согреться — костры поразожгли…
В тот же день Снесарев запишет в тёмно-зелёном дневнике: «Маленькое шило и плясунья выработалась в серьёзную девушку, трудоспособную, умную, тактичную и полную детской свежести… Каково-то выйдет твоё будущее, дорогое дитя? У тебя есть шансы и право на счастье и ты его заслуживаешь… Счастлив тот, кто назовёт тебя своей, хотя он горько поразит и обездолит одно существо… Из бедняка духом, из нищего сведениями и растерянного от неведения я обратился в миллионера…»
Дочь расскажет отцу, как в декабре 1931 года на её глазах был взорван храм Христа Спасителя, как он своими куполами словно бы приподымался и застывал недвижно в небе, как рассыпался, устремляясь к земле, какая пыль стояла над Москвой, какая пыль простерлась над страной…
Спустя полвека храм заново отстроят, но не дано воссобрать вновь былой дух, как не воссобрать те медные и серебряные гроши, которые вся крестьянская, вся национальная Россия вносила на воздвижение его. Всё же он не воскрешённый, а заменённый. Может, вернее бы отвечал сути всего случившегося с Россией предлагавшийся художником Селиверстовым проект — в доподлинных размерах образ храма-символа, металлический сварной золочёный каркас, через перекрестья которого на стометровой высоте грешникам земли открывалось бы вечное небо.
(В храме Христа Спасителя мне выпало бывать и на богослужениях, и на Всемирном русском народном соборе. Но ещё раньше, нежели я побывал в храме, там звучало песнопение на мои стихи «Ангелы летели над Россией».)
Евгения пробыла на лагерной территории шесть дней, встречаться ей с отцом не препятствовали, хотя «бумажного» разрешения так и не выдали. Каждая встреча была как миг и как вечность!
«Она встречает меня… душа меня в своих объятьях… Был ли кто так ей дорог, есть ли теперь? Думаю, что нет: папка властно господствует в её свободном сердце и гуляет в этом просторном чудном дворце, незаменимый и никем не удаляемый. Я с ней беседовал об интимных вещах и нашёл, что она ещё ничего не переживала. Она говорила спокойно, несколько стесняясь… она моя гордость и надежда… Она понесёт другую фамилию (а может, и нет), но она продолжит мою душу и нервы, мой облик, пока я бессмертен только ею… Да, кроме папки, у неё пока никого нет. Какая разница с мальчиками! Как глубоко и нервно я люблю тебя, моё дорогое дитя…»
Впечатление от встречи с дочерью, исполненной молодых надежд, сердечности, редкой, беззаветной чуткости, готовности самопожертвования, помогло выдержать неожиданный вслед за отъездом дочери удар. Телефонист сообщил ему: «У вас большая потеря», — и его как молнией обожгло: он почувствовал, что Кирилла, его чистого сердцем и благородного сына, уже нет в живых. Дочь, щадя отца, не стала сообщать страшную весть.
В жестоком мире не редкость, когда плачет старый человек. Даже если он был отважный воин. Он плакал оттого, что чуть не втрое годами пережил сына, что не смог с ним быть в последний сыновий земной час и перекрестить его для жизни вечной, плакал долгими затяжными слезами, не хотевшими кончаться, как и дождь над Свирью.
В воскресенье он уходит в «командировку» — идти надо за двадцать вёрст, а дождь льёт, словно в дырявую осень. Непролазная грязь. Поскольку непогода — владычица здешних мест, обувь — великая ценность. Нередко разувают одних, чтобы отправить в путь других. С горечью Снесарев замечает: «Главное, конечно, непролазная беднота, о которой так презрительно отзываются англичане… Хорошо или дурно, но у нас осуществлён социализм и его природу можно изучать воочию, хотя, конечно, с известными поправками. Мы живём кучной семьёй, лик наш потерялся или, точнее, потонул в море трудовых и политических интересов, пища наша общая, питают нас по мере нами зарабатываемого (разные трудовые нормы), мы та же фабрика… чем не социализм?.. Мы голодны, а ведь Дуров каких только животных не приручает голодом… Мы страшно все тоскуем по семьям, и за лишнюю весть домой мы готовы многим поступиться».
И это говорит высокой чести генерал! Хождение по грязи. Бедные деревни… Погост, раскольничье Княгинино, снова Погост… Названия-то какие — поэзия, старина и смерть! Правда, на его же пути — и менее поэтичные Кинецкое, Ульино, Гришине, ещё менее поэтичные Екунда, Каягино, Пичино… да суть у всех одна: большой лагерь, подневольное существование, светлым музам здесь делать нечего. Погода столь же весенняя, сколь и осенняя, с неба низвергаются хляби мыслимые и немыслимые.
Андрей Евгеньевич грустно видит нагромождение порухи там, где были строгие уголки русской жизни. Перед глазами — раскольничье, старообрядческое село Княгинино, под ударами лагерного, даже не технократического молота теряющее свою строгую поэтичность, суровую душу, трудовую страду в окружении разнородного спецпереселенчества, часто далёкого от настоящей истовости в труде и молитве… И он, видевший старообрядцев в детстве в Области войска Донского, позже на западных землях Российской империи, за границей, и читавший о сильных, честных натурах купцов и предпринимателей из старообрядцев в поэтическом сказании Мельникова (Печерского), и встречавшийся с ними на деловых берегах — раз за разом думает не только о живокричащем, предглазном великом переломе крестьянского мира в тридцатых годах, а о переломах русской жизни в её историческом протяге. Переломах, начало которым положило Киевское всерусское крещение на Днепре, благодатное но и суровое (какие поэтические, эстетические памятники и верования тонут в реке, сколько стирается, сжигается памятников культуры!); потом — монгольское кровавое, столь долгое по всей Руси прошитьё: потом — Никонианское вторжение в «древлее благочестие», вторжение, может, и вынужденно-необходимое, назрелое, но сделанное наспех, революционно, директивно; ещё — Петровская вздыбка целой Руси — прорубка окна в Европу, и бездонная прорубь, в которую низвергаются миллионы подданных; ещё Второ-Александровские реформы — буржуазные, сверхбуржуазные. И как венец — февраль семнадцатого года и чреда разрушительно-устроительных большевистских лет…
«Спотыкаясь… я добрёл до экспедиции… потом я тронулся на базу, где нашёл Сегеркранца и Фухса (Александра Исааковича, московского домовладельца и промышленника, маленького еврея в больших очках, человека доброго и простого)…
Путь был ужасен, дорога невообразимо грязна, лил непрерывный дождь. Предстояло идти дорогой холмистой, похожей в профиле на пилу… Я вынес что-то ужасное: скользил, проваливался в снегу и воде, балансировал, обходя ручьи и болота, раза два падал, а сверху меня мочил дождь, и моя шуба, и без того тяжёлая, становилась всё тяжелее и тяжелее… На моё счастье версты 3–4 меня подвезла женщина, ездившая в Важино на врачебную комиссию… На пути она думает в Екунде купить картошку. Сегодня она ничего не ела и говорит об этом, как о чём-то обыденном. Вот дети с их просьбой хлеба волнуют её неизменно. Она не знает, откуда это явилось, что такое случилось с нашей землёй».
Он остановился у знакомого — Николая Герасимовича, который скорбит о судьбе деревни, порухе её уклада, в колхозы не верит. Рассказ его о деревне скорбный…
Ранним утром двинулся в дальнейший путь. «Мои английские боты сыграли свою роль… Если бы не их тягость, боты были бы идеальной обувью». Забавный штрих: «англонеприязненник» пишет в дневнике похвалу английским ботам, надёжным, хотя и тяжелоувесистым.
Через реку Важинку положены перекладины — для весенней связи меж берегами: непонятно почему административно-штабные точки, аттестационная комиссия и учётно-распределительная часть находятся на левом берегу, а палатки и столовая — на правом. Лучше всего связь между берегами зимою или летом на лодке, но горе тому, кому надо было идти вдоль Важинки или перебираться на другой берег и обратно во время ледохода, в весеннюю распутицу, в грязь. «Она не просто грязь, а яркое культурное явление… Интересно сопоставить организацию британской станции в Индии, там капитализация (дороги, телеграф, почта, здания…) места идёт в первую голову».
Отмечается в «северном» дневнике, что Россия далеко отстала от Англии — во всём практичной, во всём целесообразной, исходящей из векового принципа своего интереса. А Россия — во мгле, как сказал почтенный англичанин, писатель. И дневниковые записи про каждодневное — унылое, бедное, не дающее надежд.
Через день — снова поход за учётными данными. Прошёл три деревни. Остановился у того же Николая Герасимовича, как в собственном доме. «Настроение моё было тихое и удовлетворённое, хотя виденное в деревне (беднота, пьянство, ругань, дикие порядки, ведущие к разору…) вызывало во мне чувство большой тревоги. Не накануне ли наша страна пред каким-то большим крахом или несчастьем? Даже маленький удар (война, недород) для нас теперь невыдержим…»
3
Вскоре «начались дни, похожие друг на друга. Я дежурю с Лосевым (А.Ф.) и Ульяновым (И.И.) … В 4 часа я встаю легко и без еды или умывания двигаюсь на пост (в полверсте ниже по Свири, у её берега). Я должен стеречь 29 цепей, 8 якорей, несколько десятков “баланов” (больших брёвен) и несколько менее досок. Это такелажный остаток от старого большого достояния, постепенно гибнущий…»
Но даже на этом странном сбережении никому не нужного и гибнущего Снесарев по-военному исполнителен, ему претит нерадивость, ему нередко приходится перестаивать сверх положенного, поскольку его товарищи относятся к дежурству спустя рукава. «Лосев много приличнее… Ульянов — типичный лодырь, последний умудряется ночью вовсе не бывать на дежурстве, и никогда не достаивает свои дневные часы. Как-то ему всё сходит с рук».
(Этот Ульянов недаром, видать, оказался носителем знаменитой фамилии; во всяком случае, поступил по-ульяновски, по-ленински, когда однажды в ненастную погоду не пойдя на пост, стал с пылом доказывать начальнику, что он не виноват, он, мол, предупреждал сменщиков, и надо выяснить, кто из них виноват.)
Виноваты, разумеется, оба: и Снесарев, и Лосев. Оба православные, оба с казачьими корнями, оба глубокие мыслители, и сердечная их мысль — о России, на кресте и без креста распинаемой.
Снесарев не имел никакой возможности познакомиться с книгой Лосева «Диалектика мифа», изданной в 1930 году полутысячным тиражом и тут же конфискованной. Но отзвуки от политических ударов по этой книге, развенчивающей и даже разоблачающей марксистско-ленинскую мифологию, могли до него долетать. И получалось, что они были родственниками и по духу, и по положению отверженных. Во всяком случае, Лосев, державшийся в лагере несколько легкомысленно-небрежно, уже побывал в долагерные дни на волосок от смерти и уцелел чудом: и впрямь на каком уровне, на каких форумах и какие длани обрушились на голову философа казачьего рода! На партийном большевистском съезде, шестнадцатом по счёту, для Кагановича не находится более важной задачи, как поведать неведающим большевикам о страшной крамоле, яде и динамите «Диалектики мифа»: «Последняя книга этого реакционера и черносотенца под названием “Диалектика мифа”, разрешённая к печати Главлитом, является самой откровенной пропагандой классового врага…» Далее драматург Киршон, выступая не на какой-нибудь областной писательской встрече, а всё с той же трибуны высшего партийного форума, гвоздя книгу и её «философские оттенки», не только вторит Кагановичу, но и, как подобает писателю, использует тонкие «художественные» средства, вроде: «А я думаю, что нам следует за такие оттенки ставить к стенке». (Самого Киршона поставят к расстрельной стенке в 1938 году, и сколь бы ни было печальным его ему безвестное будущее, время поупражняться в радикально провоцирующих художествах ещё есть.) Для поклонников творчества Горького также не самый благодатный штрих деятельности «великого пролетарского писателя» — он-то зачем решил поучаствовать в обрезании крыл вдохновенного и смелого мыслителя? «Профессор этот явно безумен, очевидно малограмотен, и если дикие слова его кто-нибудь почувствует как удар — это удар не только сумасшедшего, но и слепого». Кажется, все такты — и художественный, и нравственный, и публицистический — изменяют писателю, если ещё принять во внимание, что Лосев в лагерях действительно слепнул, и слепнул катастрофически быстро.
Остаётся сказать о восприятии книги органами ГПУ — устроителями спецбыта и Лосева, и Снесарева, и родственных им великих людей Отечества. «Философы» из сурового спецведомства предельно чётки в своей справке-характеристике:
«В работах Лосева, особенно в его последних книгах “Диалектика мифа”, “Дополнения к «Диалектике мифа»”, правомонархическое, контрреволюционное движение получает развернутое идейное обоснование…
Основные положения “Дополнений” сводятся к следующему:
Вся история человечества есть история борьбы между Христом и Антихристом, богом и сатаной. Феодализм — высшая ступень в истории человечества, торжество бога; феодализм падает под ударами сатаны, дальнейшая история есть история развёртывания сатанинского духа. Ступени этого развёртывания — капитализм, социализм, анархизм. Историческим носителем духа сатаны является еврейство. Марксизм и коммунизм есть наиболее полное выражение еврейского (сатанинского) духа. Последним этапом воплощения духа сатаны будет анархия, неизбежно вытекающая из социализма…»
«Положения, характеризующие советскую власть, окончательно оформились под влиянием той агрессии, которую проявила советская власть в своей церковной политике последнего времени, в своём курсе на индустриализацию и коллективизацию».
4
«Идут страшные вести, — запишет Снесарев в дневнике за апрель 1932 года, — и, странно, особенно страдают богатые районы: Украина, Северный Кавказ, Приволжье… Цензура не может превозмочь народного письма (многословно, неразборчиво, скучно, наивно) и, вероятно, их не читает… Конечно, источник этих писем — покинутые, обездоленные и бесправные семьи — узок, страстен и односторонен, но…»
Но от фактов, от страшной действительности не убежать, не спрятаться, не заслониться газетными разворотами. В Приволжье, на Украине, Северном Кавказе, да и на Урале, да и на его родном, давно ли богатейшем Дону взрослые и часто дети пухнут от голода и мрут, подчас вымирают семьями, села половинятся, как после страшной опустошительной войны. Деревни — бывшие кормильцы огромной страны — глохнут в бурьяне, пустеют, замолкают. Мор, как в дни Гражданской войны. И сколько физических и нравственных тягот и унижений для детства, поделённого на своих и чужих. Чужевраждебных! Снесарева поразил рассказ, как в одной раскулаченной, до нитки обобранной семье десятилетний сын, обутый в уцелевшие добротные сапожки, по пути в школу был встречен уже развращёнными подростками и со злыми усмешками: «а сапоги-то кулацкие» — был разут под одобрительное слово шедших мимо давно развращённых взрослых.
Коллективизация завершалась. Народ с тысячелетним крестьянским укладом стал как дерево с перерубленными корнями и поломанными ветвями. Крестьяне теряли крестьянское. Непокорные доламывались на Свири и в Соловках, на Урале и в Сибири, в бесчисленных гиблых лагерях спецпереселенцев. Уцелевшие всеми правдами и неправдами тянулись в города, где с распростёртыми объятиями их никто не встречал. Но и в селе уже нечем было зажечь семейный домашний очаг. Кроме разве новой молнии — новой революции, уже против самой революции большевистской.
Но не воплотились в жизнь, да и не могли воплотиться, идеи-предсказания из «Путешествия моего брата Алексея в страну крестьянской утопии» выдающегося русского учёного-экономиста, писателя Александра Чаянова. Герой его повести, однажды прочитанной Снесаревым, сказочно переносится из 1921 года, из Москвы, где на митингах и сборищах в Политехническом зазывают лозунги «Разрушая семейный уклад, мы тем наносим последний удар по буржуазному строю», в 1984 год, в Москву, так сказать, крестьянского образца.
Герой «Путешествия…» узнает, что в 1934 году, после подавления элитарного путча, «имевшего целью установление интеллигентской олигархии наподобие французской», впервые был организован целиком крестьянский Совнарком, а съезд Советов принял антиурбанистический декрет о сносе городов численностью свыше двадцати тысяч жителей. Видя порядок и процветание, путешественник из двадцатых в восьмидесятые годы спрашивает, на каких новых основаниях сложилась русская жизнь после крестьянской революции тридцатых годов. Из восьмидесятых ему отвечают: «В основе нашего хозяйственного строя, так же как в основе античной Руси, лежит индивидуальное крестьянское хозяйство. Мы считали и считаем его совершеннейшим типом хозяйственной деятельности… В нём труд приходит в творческое соприкосновение со всеми силами космоса и создаёт новые формы бытия. Каждый работник — творец, каждое проявление его индивидуальности — искусство труда».
Личность — труд — космос. Какая естественная и всеобъемлющая мысль, согласуемая и с учением Вернадского о ноосфере и в то же время исходящая из глубин народного уклада и фольклора!
А успешная в повести крестьянская революция? Свершись она — определился бы, надо думать, иной, бесконечно более разумный, нравственный, человечный путь страны — путь «крестьянской демократии», а значит, и путь общенародный. Но такая предсказанная на начало тридцатых годов крестьянская революция не свершилась. Наоборот, именно в начале тридцатых годов крестьянству был нанесен неисцелимый, погибельной силы удар. Славянский земледельческий народ был распят на бескрайних полевых и лесных верстах страны-голгофы.
…По весне 1932 года часть заключённых военных освобождена, надолго ли? Свирь тоже по-своему освобождается — сбрасывает льды. Снесарев, стоя на посту и наблюдая движение шумно шуршащих льдин, даже не заметил, как пробежали часы дежурства, зато отметил своеобразие местных рек: они не имеют разливов.
Иное дело Дон. Краешком памяти ему вспомнилась река детства в Воронежской губернии: как стоял он на круче у Старой слободы, а Дон разлился на километры, и под водами — пойменные луки и лесное левобережье. Эпические ледоход и разлив на Дону — тревожное, радостное воспоминание.
Но воспоминаниями здесь прожить не дают, и Снесарев с тоской думает, как неумолимо несёт рок почти обезбоженную страну, и если она хотя бы в чём-то похожа на северные лагеря, добра не ждать. Он уже не удивляется жестоким особенностям лагерного быта, но его мучает, что крестьянство и интеллигенция даже не пытаются постоять за свои права.
Тем более его радуют сильные, смелые и честные люди, которые, слава Богу, не переводятся на русской земле. В его палатку, избыточно наполненную узниками, подселили Вячеслава Дмитриевича Вир-ского из Ельца. Не без гордости помнит, что он, как и Снесарев, выпускник Алексеевского пехотного училища. При аресте и следствии безбоязненно изобличал следователей и власть, а на вопрос: «Агитировал ли?», отвечал беззаминочно: «Да». Снесарев сострадательно спросил: «Зачем вы это делали?» — на что бывший воин ответил: «Я рад, что сослан, стыдно как-то было оставаться».
Разумеется, на каждого апостола одиннадцать иуд, на каждое разумное начинание дюжина безрассудных, а каждое тихое пребывание здесь добрых Божиих созданий вытесняется неудельными, наглыми, крикливыми, даже и представительниц прекрасной половины рода человеческого: «До сих пор у нас были тёмные (женщины в тёмном), больше монахини, кулачницы, девотки, тихие, трудолюбивые. Вместе с последними этапами появились иного сорта женщины: короткие в обтяжку юбки, длинные чулки, красивые кофты, обнажённые бюсты, руки и ноги. У них короткие волосы. Они наглы, ругаются и к вечеру пьяны. Это сосланные публичные женщины. Они несут с собою новую обстановку, увлекают мужчин и вообще развращают массу. Обыкновенно женщины не ругаются, а эти превосходят самых ругателей-мужчин».
Позже он побеседует с бывшей монахиней Гликерией Черниковой. Глушей. Она, поставленная на стирку белья, так и останется монахиней. «Грязь отстаёт от неё, омываемая ручьём её прочного миросозерцания. “Мы и там трудились, этим нас не испугаешь, нас также никуда не пускали, нам только церкви не хватает”. Она из строгого монастыря и по сию пору в восторге от его порядков… Теперь к ним прибыли публичные, она говорит о них и с недоумением, и с сожалением, и с негодованием… Как важна религия в смысле государственной прочности и вынесения страданий».
5
Гнетущее впечатление, усугубленное перед тем украденным у него куском сала, оставляет у Снесарева первомайский день.
«Около 7–8 часов вечера под игру оркестра пошёл на пост… Оркестр играл до сумерек, один пароход был украшен фонариками. На реке шла какая-то суетня, вероятно, ловили плоты или брёвна, и слышалась ругань. Разговор всех прохожих касался речки, плотов, нужд… один только сказал про заутреню… Долго гудел колокол деревни Важино… Обстановка была далека от торжественных моментов, и только наплыв воспоминаний несколько её скрашивал. Мне было грустно и одиноко, грызла тоска по семье. Как-то они там проведут этот день?.. Около часу ночи меня сменил Лосев, и я пошёл. В палатке все спали, стоял обычный “тяжкий” дух… Оркестр с расстроенными инструментами, играющий шаблонные вещи, кусок кеты… Это говорило об убожестве административно-педагогической мысли, а главное, о тягчайшей нищете, прогноившей нашу страну и везде показывающей свои зияющие раны…»
Снесарев и здесь думает о трагедии страны, думает о педагогике, частной и общей, благодаря которой народ, его молодые поколения могли бы выжить. А кругом — гнусный быт: лгут, крадут, пьют. Партия проституток — именно партия. Но колокола ещё звонят.
Сразу после первого майского дня Андрею Евгеньевичу и его учёным сотоварищам по несчастью приказано перебраться в новую палатку — просторную, но к житью непригодную: без окон и дверей, без печи, лампы, рукомойника…
Он не то что возмущается, но его удивляет, что из угла в угол швыряют именно учёных, относительно которых есть определённый декрет: дескать, советское правительство не заинтересовано в дисквалификации своих учёных, и в ссылках они должны иметь возможность читать, писать, чертить.
Снесарев, Лосев… Ответственность за бревна и доски, несколько якорей и три десятка цепей. Разве что вечные цепи для нашего народа. А так никому не нужные якоря и доски, всё реально и чисто символически закрепляет и угробляет. А был ответствен за большие территории, за десятки тысяч солдат. За Россию!
Можно предположить, сколько бы эти два человека могли сделать, будь они не в лагерных условиях, объедини они усилия. Один бы сказал о геополитическом облике России и мира, а другой о красоте Античного мира и православном духовном величии России. С другой стороны, что может сказать стране и миру человек, не прошедший предельных испытаний! Разумеется, их проще проходить молодому, как Лосев. А в старости — надломишься и угаснешь в болезнях.
Два сторожа. Два великих человека. Иногда ответственный Снесарев не принимал нарочитых бесшабашности и неисполнительности Лосева, а тот был молод. Но он уже принял тайный монашеский постриг, ещё до ареста — он инок Андроник.
Хорошо, хоть не переселяли из лагеря в лагерь, но внутри Андрею Евгеньевичу приходилось в день, в ночь ли сменять свои обитальче-ские углы. Привели новых заключённых — опять надобно подвинуться, теперь — на чердак. Бестолковщина передвижений, переселений, перетасовок. После чердака снова перенаселённая палатка.
«Палата наша полна урок, а оттуда — шум, мат, болтовня, брань, нервность, пение, пляс… целый ад. Урку я теперь узнаю за версту, настолько он типичен. Он жесток, шумлив, нервен, по-своему самолюбив, хороший актёр, циничен, грязен… Его внешность также типична: чаще небольшой рост, худоватость, неуклюжесть в корпусе и походке, какое-нибудь уродство (шрам, раскосость, безручие, безножие). Словом, физически он так же противен, как и духовно. И прежде всего полная аморальность и враньё. Эти люди — пустой балласт страны…» Чуть раньше скажет грустно-справедливое, обратного хода не имеющее: «Когда дерево прогнило насквозь, его не отходить ни поливкой, ни другими мерами. Урка — прогнившее дерево!»
Вскоре Андрей Евгеньевич увидит их в деле — перевозящих на лошадях бревна-баланы. Зрелище было сердцеразрывающим. Бедная лошадь, попавшая под кнут урки: «Да он убьёт отца родного, если последний ему не угодит, а бедная лошадь? Что ему Гекуба? Он нарочно станет над ней измываться…»
(Для Снесарева конь был другом с юности, и выручали его кони на Памире и в Карпатах, на Ужка был похож несчастный коняга здесь, и ныло сердце от человеческой жестокости.)
Май на Русском Севере неровный: то тихий и тёплый, то ветреный и холодный. Природа далеко отстоит от тропической, близко — к арктической, всё есть, но не крикливое, не яркое. Распускаются деревья. Проволочно-околюченный мир оглашают вольным щёлканьем многочисленные соловьи, из певцов, правда, малозатейливых, трёхтрельных. Иные соловьи, карпатские, вспоминались Снесареву, которые не боялись ни оружейного огня, ни грома пушечного, которые своими яростными перещёлками утверждали жизнь.
Кукует кукушка. Бабочки исчеркивают луг, крохотные и крупные, одноцветные и разноцветные. Цветы в пёстром изобилии растут всюду, где есть не убитая людьми земля. Мир Божий, мир вечный — глядеть бы на него часами, не будь лагеря, его режимного быта, его мелочного учёта.
6
«Вытаскивание брёвен не ладится, спад воды, неправильное применение техники. Съехалось начальство, волнуется, ругается. Слепой Лосев ходит и улыбается — происходит сцена, начальство принимает на свой счёт. Приказ убрать Лосева и, кажется, арестовать его на два дня…»
Начальству такие заключённые, как Лосев, что кость в горле. Но Снесарев-то понимает, в чем лосевские ранимость, сила и вера, и он сожалеет, что тот слепнет, и тревожится за него: «Лосев потерял очки и сколько он мучился, водя носом по читаемому материалу (он писал бесконечно… он пойдёт отсюда слепым, если в ближайшее время не получит очки)».
Однажды Алексей Лосев скажет: «Время — боль истории». А разве снесаревский тёзка и земляк Андрей Платонов не о том же, когда говорит: «Время — движение горя», а разве он, Снесарев, намного раньше их пришедший в этот мир, не горевал, часто предаваясь мыслям о том, что история — страдная, изнурительная, бессмысленная дорога человечества, и всё же имеющая сокровенный Божественный смысл.
7
Вскоре ему дадут в помощь Веру Хомеко — она тоже не прочь бы походить в начальницах. «Хохлушка, кончившая семилетку, бывшая комсомолка. Типичный продукт нашего времени: самоуверенна, всё знает, обо всём спорит, ни на чём не может сосредоточиться, небрежна… К этому надо добавить: капризна, фальшива, врёт, подсматривает…»
И сколько он встретит здесь таких хомеко в мужском и женском обличье. Они и среди урок, и среди интеллигентов, и среди начальников-десятников… Поистине: «Я накажу тебя людьми», — однажды, ещё в семнадцатом году явившаяся Снесареву эта всеохватная во времени и пространстве безжалостная мысль будет постоянно подтверждаться в лагерной жизни, да и не только лагерной. Но в противостояние ей — сколько на его горестном пути здесь встретится прекрасных духовно, нравственно и характером заключённых — от академика Искрицкого, профессора Духовной академии Бриллиантова до бывшей монахини Гликерии и крестьянина Николая Герасимовича.
Итак, обычное в лагере наказание людьми. А работами? «Работы у нас идут непрерывно: и днём, и ночью; одни кончают, другие приходят им на смену… Отсюда много обедов и завтраков, много подъёмов и лёжек (ложись спать) … Идёт сложная, бессистемная, судорожная возня… Она, конечно, чистая туфта, т.к. является нездоровым, глубоко бесхозяйственным измышлением услонских честолюбцев».
Днём и ночью наблюдая бесчисленные лжедела и полудела, авралы и вахты, ударники и месячники соревнований, постройки и поломки, погрузки и разгрузки, постоянные лагерные «передислокации», Снесарев приходит к заключению: «У нас так всё устроено, что всем тяжело и трудно». Истинно созидательного труда нет, а есть всевозможные его имитации, которые всё равно обессиливают и так обессиленных лагерников, едва влачащих ноги: «…вся сущность труда в этих вяло волочащихся ногах…»
В нескольких его строках — не только оценка малодейственного труда, но и указание на причины этой малодейственности: «Как устроена лесорубка и подвоз срубленного материала к берегу, я не знаю, но слышал много-много жестокого… Ударность всегда результат каких-то организационных промахов. Природа бывает катастрофичной как исключение, но в основе она эластична и эволюционна… Но особенно неудачно и неровно ведётся дело сплава. Река капризна… режим её сложен, полон неожиданностей. Начать с того, что режим этот не изучен, никаких предсказаний создать нельзя и набросать программу трудно: нет основы. Затем дирижируют люди незнающие, они сильны напором, руганью, они могут заставить работать, но им чужды знания, понимание техники, у них нет кругозора. И, наконец, что самое главное, люди подневольного труда… И вот то воды мало и все баланы сели на мель, произошли косы, заторы, пошла забивка… то вода высока, прорваны кошели, снесены запани — и брёвна поплыли в Ладожское озеро…»
Вскоре Снесареву велено участвовать в ударнике, то ли разгружать, то ли загружать вагоны. Выходить надо было ранним утром, обуви, даже лаптей, не хватало. Всё же с десяток человек переправились через Важинку, добрались, кляня и власть и жизнь, до Курмана, куда подходит ветка от железной дороги и где когда-то остановился состав, привезший приговорённых из Москвы и ещё, сколько их, несчастных, со всей страны. «Итак мы пришли, вагонов не нашли… вагонов не было…»
Очередное хождение по лагерным деревням выдалось не просто трудным, а едва не повергло Андрея Евгеньевича в отчаяние, поскольку пришлось узреть несколько черт народных, прежде редкобывалых, почти небывалых. Он из Ульино неудобь-тропой нечаянно-негаданно попал на болото, едва выбрался, спустился к берегу Важинки и пошёл берегом. Навстречу шедший заключённый пообещал впереди «массу лодок», на них не составит труда перебраться на противоположную сторону. Вместо массы лодок набрёл на две тяжеленные, которые было не сдернуть, а на противоположной стороне у костров сидели люди, но у них не было лодок. Зато от них последовало твёрдое заверение, что вверх по речке, минуя Граждановку, у Пичино есть дежурный лодочник, который — день ли ночь ли — знай себе перевозит. Мокрому и обессиленному Снесареву пришлось ещё долго идти, но дежурного лодочника он так и не встретил: его попросту не существовало. В каком-то полуотчаянии он во весь голос стал звать этого мифического дежурного лодочника, звал более получаса и не докричался. «Не было ответа, хотя, как потом выяснилось, многие слышали мой отчаянный глас…»
(Какой в этом, разумеется, не единственном эпизоде жуткий приговор обездушенному, помельчавшему народу: зови — не дозовёшься, кричи — не докричишься!)
Июнь. Приезд жены с детьми в Важино — великая радость. Оттаивало грустное сердце, слыша редкий детский смех. Удалось совершить лодочную прогулку на Попов остров, полный вётел, берёз и цветов. Правда, не радуют привезённые вести. Жена рассказывает, а он оставляет запись в дневнике: «Москва полна крестьянства, которое кучами, чаще семейными, валяется на вокзалах, тротуарах, особенно у булочных, исхудалое, старое, просящее. Особенно много с Украины… Наплыв иностранцев, их избалованность… Продолжается наплыв евреев, давший повод к легенде, что русских под разными предлогами выживают из Москвы, чтобы освободившиеся площади предоставить евреям…» И далее: «Женюша говорит про сестёр, что они очень мною недовольны, что я зря упрям, не хочу прибегнуть к милосердию властей, жертвую семьёй и т.д. Во всяком случае, меня взяла тоска: зачем этот забавный ток настроений… Шёл дорогой служения, затем служишь большевикам. Что-то сделал (чему они сами не верят) и наказан. Дурак, зачем не приклоняешь выю. Что сову о пень, что пень о сову.
Сегодня прекрасный день, я не пошёл на вечерние работы и гулял с семьёй в лесу, нарвали букет цветов, повалялись на траве. Цветов здесь много, и их убор не плох, но они не пахнут, не пахнут ландыши, фиалки, даже черёмуха».
(Северные цветы, которые не пахнут: здешнее низкое солнце не рождает в них ароматы. Поэт Жигулин при наших московских и воронежских встречах не раз мне говорил о них, да у него есть и стихи «Полярные цветы», где щемяще рассказано, как к тем дивным и жалким скромноцветным островкам спешат заключённые лагеря с Колымы и несколько часов кряду, пока трясутся в кузове машины, бережно, словно согревая, держат нежные цветы в давно огрубелых ладонях; это было без малого тридцать лет спустя после того, как подобные цветы у реки Свирь согревал в руках пожилой генерал и вспоминал свои любимые — полевые, придонские.)
Снесарев — канцелярский работник — записывает бригады, в самих названиях которых — «Штурм пятилетки», «Красная звезда», «Волна штурма», «15-я годовщина Октября», «Вперёд», «Ответ интервентам», «Путь к исправлению», «Красный труженик», «Путь к свободе» — закрепляются статус красно-революционной страны, штурмовщина и сплошь беспутный, кому только известный путь, как исправиться, как стать свободным.
Белая ночь. Река Важинка. Топкие берега. Лесосплав. Ударничество. Погибающий лес, погибающие люди.
8
«Примитивное создание коэффициента… Без корректив на возраст, силу физическую, обстановку труда, пищу… даже настроение. Человек должен много получать не за то, что он Поддубный, и лишаться необходимого не за то, что он мал весом или стар… Для социализма должен быть выработан более широкий подход для определения трудового коэффициента. Государство не торговая компания, а что-то более широкое и сложное».
Снесарев размышляет, как в немыслимых, предельных обстоятельствах помочь и человеку, и государству, и чтобы дело человека складывалось во благо ему, окружающим да и стране.
Были устроительные дела на родине и на границе. Были боевые пути-дороги. Был смысл.
Но какой смысл во всём этом тупом кружении лагерного колеса на речке Важинка, на сырых её берегах? Приходится растаскивать дрова на косах, выкатывать брёвна с отмели, снимая кору, укладывать их в товарняки, грузить дрова и камни на баржи, пробивать заторы на реке, готовить плоты, кошели, устраивать дамбы. И что же?
Брёвна снова оказываются в воде, лишь малая часть их доходит по назначению, плоты разбредаются по брёвнышку, образуя на реке новые заторы, баржи протекают и заваливаются, дамбы не выдерживают напора воды. От худой, авральной или не бей лежачего работы, лишённой ясности, мастеровитости и надежды, толку почти никакого.
Более двух веков на Воронеж-реке, на Дону затевалось, ухало и звенело топорами и пилами «великое корабельное строение» — Пётр Первый надеялся выйти в Азовское и далее в Чёрное море. Мужицкие, оторванные от семейной страды руки, измученные тяжкими работами, простудами и болезнями, нередко во множестве пластом лежащие строители; нещадно изрубленные боры и дубравы, горы корабельных сосновых, дубовых, ясеневых стволов, большая часть которых из-за спешки не пригодилась. Более двух веков миновало с той поры, как петровские флотилии шли вниз по Дону, мимо его, Снесарева, родных мест, а на его земле во власти мало что изменилось.
Всю жизнь знавший цену времени, труду, ответственным человеческим отношениям, вот уже какой месяц жил он в мире абсурда, бессмысленной траты времени огромной массы заключённых, обозлённых, поделённых, вынужденных обретаться в чаду ночных побудок, лести, подкупа, взяток, краж, сумбура и произвола, мифических трудовых коэффициентов и процентов, постыдно-жалких премвознаграждений, брани и мата, надзора, понуканий, наказаний, исходящих от всякого рода надсмотрщиков — от десятников и рукрабов, бригадиров и контрольных бригадиров до начальника лагпункта.
Пробыв девять месяцев в Важине, на лагерной Свири, Снесарев сожалеет, что дневниковые записи приходится вести урывками, наспех. Он убеждён, что УСЛОН заслуживает изучающе-пристального внимания «как бытовой опыт над десятками тысяч людей, волею политики поставленных в своеобразные условия… как картина многочисленных людских переживаний при этих условиях, не разбираясь в сумме благ или зол… как научно-политический опыт применения начал и практики социализма… как осколок от того огромного, что зовётся Союзом и в сфере которого те же опыты малоуловимы и трудно синтезируются. Конечно, при условиях заключения, моих годах и случайностей писания ждать большого толку от моих заметок не приходится, но они всё же являются малопомутнённой фотографией виденного и пережитого…»
И даже чёткой фотографией! Даже галереей мрачных картин. Даже книгой. Увиденное, пережитое и записанное Андреем Евгеньевичем могло бы составить книгу, для названия которой уместны были бы его слова: «Гнилая сторона системы — подневольный труд и невежественные дирижёры». Или же: «У нас одна свобода — это умирать». И в эпиграф — его же слова: «Я старался быть по возможности объективным и спокойным Нестором, насколько это допускали мой темперамент, моё миросозерцание и, особенно, мною пережитое и переживаемое…»
Дадим здесь хотя бы несколько страниц этой книги — несуществующей и тем не менее реально, в дневниковой рукописи, существующей.
«Наш лагпункт — сплавно-погрузочный, т.к. прилежит к системам рек Свирь (погрузочная преимущественно) и притока её Важинка (сплавные работы)… Если бывает зима, то дрова добываются из-подо льда… На других лагпунктах, входящих в наше отделение, производятся преимущественно лесозаготовочные работы (на нашем мало… всё уже крупное вырублено): повалка, очистка, распилка и кладка, перевозка или перетаскивание брёвен-дров, погрузка (в вагоны)… Для регулирования реки Важинки производятся примитивные мелиоративные работы, главным образом строятся дамбы и возводятся плотины, но всё это — без техники и капиталов, людскими мускулами…
И над всей этой трудовой системой, как зловещая тень Банко, лежит сложнейшая и мелочнейшая отчётность и канцелярия, она въелась в эту систему, отравила её, сделала труд прискорбным и надоедливым… Много и с потом на челе пишет уже десятник (выводит проценты, “пропорционально” распределяет… он просто лжёт и фантазирует, подделывает под предъявляемые требования и свои расчёты… его исправит “контрольный бригадир”… Этот вносит поправки, главным образом устраняет арифметические безграмотности, но заряжает свою туфту, т.е. лжёт шире, а т.к. он работ не видел и судит лишь понаслышке, то от жизни он уходит ещё дальше, перенося картину работы в деспотическое русло канцелярии… теперь картина покатится по проторённой дороге, без запинки и сомнений… Тут будут добавлены поправки (один старший счетовод сколько добавит) … и от серой и сложной действительности не останется и следа… Трудкоэффициент — очень важный фактор в экономике — предстанет пред обществом и исследователями не в своей скромной и грязноватой одежде, а в лощёном костюме с маской на лице — дитя канцелярской переделки…
Зэк знает, что вода Свири холодна, а осенью она будет холоднее, что морозы здесь люты, ветры бывают шквальные, и он бережёт обувишку (свою и казённую) как зеницу ока, как якорь спасения в суровые дни непогоды… он ходит в лаптях до последнего момента, пойдёт — пока можно — босый, чтобы грядущие испытания встретить в кожаной обуви. Он знает, что на работу он пойдёт даже в случае, если обувь не была подана в достаточном количестве… Ленинград должен быть отоплен, а он — услонец — пока его единственный согреватель…
На реке Важинке — главной сплавной артерии — брёвна-дрова отжимаются к определённому берегу, параллельно которому пойдёт запань с системой ряжей и каменных кладок, возведённых косо поперек реки…»
(Вот так и с людьми, как с брёвнами… И вообще что дали эти брёвна, сколько построено из них деревень? Изб? Деревянных колодцев? Кинуты на топливо озяблому городу на Неве? Если бы от начала до конца именно так. А то тьмы и тьмы их затонут, сгниют на сырых берегах, затеряются, как и люди. — Авт.)
«Итак, в работе тупик, почти крах, пусть временный. Можно ли его было предвидеть, учесть как неминуемую возможность. Думаю, что да. Баржи протекают, потому что стары и рассохлись, надо и можно принять меры: заклепать хоть наиболее грозные щели, медленнее грузить, заблаговременнее просить о присылке новых барж (вопрос о специальной статье в плане). Каприз реки — это вопрос более трудный, предполагающий предварительное и долгое изучение режима реки, но и его более опытный руководитель (готовый к роли теоретически и практически) сумел бы одолеть… суетный о копеечном думает — рублёвое теряет…
Главное — специальная правдивость в УСЛОНе изречения… homo homini lupus est: здесь, как я говорил, не верят друг другу, боятся друг друга, интригуют, провоцируют и сплетничают… Этим живёт УСЛОН и как средством борьбы, и как техникой понижения других и вылезания кверху самому, и, наконец, как способом развлечь себя среди однообразной и тесной обстановки…
Я часто слушаю собеседования моих товарищей по заключению; это одна из моих привилегий присматриваться к народу, что мне удавалось раньше чисто случайно… Знать свой народ, своих компаньонов по родине, — это обязанность каждого, а особенно власть имущих, правящих этим народом. Мы, например, наше крестьянство явно не знали, и недавние события пошли стихийно, как сель в Средней Азии, как наводнение на Инде… А ведь, казалось бы, наша литература так близко и интимно подходила к нашему крестьянству. Глеб Успенский, Златовратский, Чехов, Решетников, Кольцов, Никитин — сколько их, сколько картин, тонких анализов, сколько вскопано материала и фактов… А наши народники, специально ходившие в мужицкую среду… А наше земство, невольно обитавшее в толще народной… И всё это говорило, писало, составляло записки, анализировало, пророчествовало, восхваляло или ругало… А народ оставался сфинксом, тёмным и загадочным… Он словно иронически смотрел на эти бессильные потуги, прочно храня вековые тайны своей природы… “Народный бунт, бессмысленный, жестокий”, — эта мысль великого прозорливца, потому что он был гением слова, прошла незаметной для изучающих народ или была умышленно заглушена политическими течениями…
А они были круты, а особенно к мыслям политического содержания. Картёжничество, торгашество и расправа с крестьянством Некрасова могли быть ему прощены, но “Бородинская годовщина” Пушкина или “Письмо к Белинскому” Гоголя были “хулой на Духа Святого”…
Вчера был дождь, ливший день и ночь. Люди работали и пришли промокшие насквозь… Заключённые работают при всякой погоде и обстановке. Это, по-видимому, правило, напоминающее таковое о стрельбе в старой армии (в уставе имелась подчёркнутая фраза “стрельба из-за погоды не отменяется”), но насколько это правильно, конечно, разумея вопрос со строго деловой точки зрения… педагогики, морали, человеколюбия и других тонких вещей не касаясь. Успех работы при ветре и проливном дожде будет слабый, люди измочалятся и дадут изрядный процент заболевших, одежда ускоренно истреплется (особенно обувь) … Да, наконец, УСЛОН выбросит из своих недр измочаленных и конченых работников, которые лягут бременем на плечи страны… Из УСЛОНа рискует выйти не воспитательный аппарат, а пожирающая и преждевременно истрепывающая людей машина… В УСЛОНе нельзя быть идеалистом, а надо быть несколько поближе к Марксу или, говоря иным языком, к Мамоне…
Уже десятник, повторим, ходячая канцелярия. Вы часто видите склонённую над столом голову “писателя”, который часа… два корпит над задачей, которая не стоит пяти минут. Но поднимаясь от десятника, вы увидите, что бумага растёт в большой пропорции: табели, отчёты, донесения, описи, ведомости, копии, справки, записки, цифры, которые лукаво не сходятся, таблицы — всё это кружится над делом, осложняя его, путая, отнимая людей, ссоря их, вызывая аресты… И этот бумажный винегрет идёт очень высоко, может быть, до Москвы…»
9
Так и не научась оборонять свое сердце от чужой беды, Снесарев не может не погоревать о нелепой гибели заключённого — старика, не умевшего плавать, который на запани поскользнулся и его утянуло в глубь реки. Случилось это на глазах у многих, и Андрей Евгеньевич опять-таки не может не поразиться человеческому равнодушию, столь убийственному в объяснениях солагерников, соработников, соглядатаев. Мол, не приметил, или не спохватился, или же не умею плавать, и даже — я вытаскивал бревно. Выходит, бревно дороже человеческой жизни.
Андрей Евгеньевич прошлым словно бы пытается заслониться от смога текущего: «Я помню на Дону, как все беззаветно бросались вперед, не думая о риске, когда гиб человек. И не было погибших».
И не было погибших. Это когда было? Полвека назад. Казалось бы, что за срок в длинном беге больших времён! Но за этот малый срок разразилось несколько войн и революций, в которых погибать пришлось лучшим. И не единичным личностям. А поколениям. Лучшей части русского, да и российского народа. Уцелевших доламывали, добивали здесь. УСЛОН (ББК — Беломоро-Балтийский комбинат), ГУЛАГ…
И Снесарев считает морально необходимым записать всё, что здесь увидел, услышал: жуткие картины измывательства над человеком, сюрреалистические полотна убийства народа, — быть может, будущие поколения прочтут, задумаются, избегут страшных повторений.
«Слушаю рассказ Топорова (Макар Павлович). Он говорит от 29 года о видах самоубийства: 1) под падающее дерево; 2) с моста вниз в реку (ручей), покрытые тонким слоем льда… один прыгнул, за ним другой; 3) кончают с собой под нарами и т.д. Картина одуряющая, “не забыть вовеки”, — добавляет он, зажмурив глаза. Как издевались: 1) выгон на поверку: громкое произношение фамилии и бегом; 2) не выполнили наряда, загоняют в студёную воду и держат часы (у Красной Горы погибло 200 человек) …
Из кровавых гримас нашей жизни: вновь слышу про случаи из знаменитого 29 года: 1) человек по лени или болезни уклоняется от работ или не выполняет уроков. Ему приказывают лезть на дерево. Сначала уклоняется, тогда наставляется винтовка. Лезет. Крик: “Выше, выше”. Лезет сколько может, пока не удовлетворит высотой… “Кричи петухом (или мычи коровой, или гогочи по-гусиному, или…)” — начинает кричать… Дело происходит при страшном морозе, на ветру. Всё это разыгрывается, пока жертва не коченеет или от истощения не упадёт в обморок и не свалится, как сноп, вниз на землю… 2) набирается партия уклоняющихся от работ, или недорабатывающих, или не работающих по болезни, выводится на поляну, и им приказывается… выть, мычать, кукарекать, лаять, кудахтать, чирикать воробьем, петь соловьем, ржать… — и при том возможно громче, сцена продолжается, пока не надоест начальству… 3) ставили на пень и обливали водой (при морозе в — 40 °С), ставили на одинокий камень, вроде маленького острова на озере, где человек мог еле держаться, а скользил или, задремав, падал, оказывался в ледяной глубокой воде…
Уже близко к полуночи… Круть Иван Иванович, весёлый и спокойный малый, украинский партизан, много перестрелявший людей за прожитую им четверть века, человек с воловьими нервами, рассказывает: “«Вы расстреливали комиссаров?» — спрашивает меня следователь. Говорю: «Расстреливал…»” “Отец пошёл в партизаны, я, мальчишка, пошёл за ним” — другая его фраза. Круть говорит про тот же исторический 29 год, всё, что он передаёт, он видел — по его уверению — собственными глазами. Вот ещё факты, напоминающие китайские истязания: 1) пора комариная… “а комары смертные, кто не переживал таких, представить картины не может”; человека, не выполнившего урок… сажают на пень, приставляют к нему часового и заставляют стоять или сидеть неподвижно, под угрозой разрядки ружья… Комары налетают тучами, облепливают беззащитную неподвижную фигуру, затемняют глаза, лезут под одежду и напиваются допьяна, становясь красными и толстыми: жертва лишь подёргивает кожу мелкой незаметной дрожью, как делает это лошадь летней порою, сгребая и поводя кожей в тех местах, куда не достают ни зубы, ни хвост… 2) устраивали на болоте что-то вроде будки, с потолком, утыканным острыми кольями (как в бороне), высота от пола до острых концов такая, что человек может сидеть только скорчившись в три погибели (Круть показывает, какая получается поза); втискивают человека в эту будку и запирают. Снизу болото, сверху острия кольев… “Посидит человек несколько часов и выходит или помешанным или ревматиком на всю жизнь…” 3) в мороз (“а морозы там во какие”, — разводит Круть руками, представляя воображаемую величину мороза) разденут человека догола и заставят стоять на одном месте… 4) дадут заключённому в руки сито (или решето) и заставят из одной проруби переливать воду в другую прорубь, а потом обратно (расстояние между прорубями достаточное для утечки из решета воды) и бегает человек по морозу как безумный, работая над услонской бочкой Данаид… У меня на душе поднимается неутешимая скорбь… Я высказываю свои сомнения по мотивам невероятности подобных жестокостей и их очевидной бесцельности. Круть принимает вызов и говорит, что в приказе № 168 (кажется, от 18 мая… он его хорошо помнит, т.к. за его утерю, как секретного документа, отсидел 15 суток), где говорилось о 124 (или 125) подлежащих расстрелу начальниках, были подробно перечислены жестокости… Как бы я хотел видеть этот крупнейший исторический документ, больное и неожиданное дитя первой трети XX столетия!..
Мне думается, что страшный 29 год переживёт не одно поколение, и чем дальше протекут годы, тем он будет перевит всё более сложной и сказочной гирляндой рассказов, один ярче и невероятнее другого… Уже теперь от него веет какой-то легендой. Все эти ужасы, разнообразно и столь жестоко подобранные, брёвна, на которых написаны скорбные рассказы о переживаниях и которые понесут эти сказания до мира Европы, карания виновных, не менее жестокие и страшные, чем вершённыя ими деяния… Зачем этот хаос человеческого безумия, эта отупелая бойня? Чем она вызвана и какие в ней основные мотивы или причины? Когда же человечество будет в силах надёжно ответить на эти вопросы? Боюсь, что не скоро и что ещё долго (если не навсегда) оно будет руководиться страстями и настроениями…»
Вечное поле истязаний человека и человечества. Что же дремлет человек-гуманист? В каждое время — своё истязание. На всех пространствах земли, во всех народах. Но что нам возмущаться испанской инквизицией, средневековой итальянской интригой, кровавым английским Кромвелем — душителем крестьянства, европейской охотой на индейцев, когда у нас на родине, в северном уголке, на малой реке, на малом острове — лагерь истязаний, чудовищный, немыслимый для нормального сознания: под дулом винтовки карабкаться на вершину дерева, стоять на пне, обливаемым с ног до головы ледяной водой, под дулом винтовки сидеть на пне под мириадами комаров, издавать звуки по-звериному: лаять, ржать, завывать, блеять; с ситом бегать, переливая воду из одной проруби к другой… Изуверские вариации крайнего надругательства над человеком. Но выносимей ли, думал Снесарев, было в древние и Средние века, да и в новые военные времена и в иных землях; разве мало их, сошедших с ума отцов, на глазах которых их юных дочерей и жен распинали победители, кочевники, номады… да, непреходящая мировая боль… и как же страшен этот северный уголок родины с обезглавленными деревьями-сагами, и эти уголки разрастаются во весь пространственный размах родины…
10
В августе 1932 года по лагерям было распространено письмо начальника второго отделения Свирлага Э.И. Онегина: литераторам, учёным и инженерно-техническим специалистам не только разрешалось, но и настоятельно предлагалось заняться литературной и научно-исследовательской работой. Снесарев подал соответствующее заявление начальнику лагерного пункта, принявшему его «спокойно и деловито». Андрей Евгеньевич указал, что хочет написать две книги из четырёхтомника «Индия. Страна и народ», мемуарное размышление «Во главе двух дивизий» и ещё «Очерки современной стратегии», по которым материал собран, продуман, а курс «Современной стратегии» и прочитан в Военной академии.
«Вот и нашёл себе Онегин дело — пушкинский Онегин, лишний человек. Не может быть человек лишним», — с грустно-шутливой улыбкой подумал Снесарев.
Всё время думает о дочери. Незадолго до её очередного приезда, обрадованный её двумя огромными письмами, записывает в дневнике: «Она несомненный талант: остроумна, жива, мило-мечтательна и натуральна… всё вытекает легко и само собою, как течёт ручей, струями и пеной ниспадая по камням. Как она даровита, драгоценная моя дочка…»
Рисовальщица, танцовщица, актриса! Нет, жизнь от неё требует другого — самоотверженности и жертвенности.
«15 сентября 1932 года я снова выехала к папе, захватив с собой сколько можно съестного… Эта поездка как сейчас стоит перед моими глазами. Как всегда, была пересадка в Лодейном Поле. Какой-то молодой человек, тоже ожидавший пересадки, помог мне с моими тремя чемоданами. На станции Свирь поезд стоял одну минуту, он вытащил чемоданы на перрон и бросился к уже трогающемуся поезду. Вокзал был передо мной, но дойти до него с моими чемоданами было невозможно. Тут же вскоре справа и слева раздалось два голоса: “Вам в зал ожиданий? Разрешите помочь?” Два молодых человека в военной форме дотащили мои вещи, предложили довезти утром на казённой лошади до Важино. Мы сидели, разговаривали. Вошёл небольшой старичок и спросил: “Есть кто на Важино?”. Я вскочила: “Я поеду”. Молодые люди дёрнули меня с обеих сторон: “Вы знаете этого человека?” — “Нет”. — “Мы в форме и вооружены, но не решаемся ехать этими местами ночью. Поедем утром. Не рискуйте”. Я поехала».
Дочь Снесарева была уже взрослой девушкой, вполне способной соизмерять последствия того или иного поступка, но именно это её решение, продиктованное стремлением как можно быстрее увидеть отца и обезопасить себя от непредвиденных лагерных неудач, вроде утреннего отъезда из зоны начальника (как и случилось в действительности), свидетельствует о силе её дочерниного чувства — самоотверженного, беззаветного, жертвенного; если бы кто, скорее, из женщин-писательниц с проникновенным сердцем и философским взглядом взял на себя труд составить всемирную книгу-антологию «Отец и дочь», в этой антологии естественным был бы рассказ о Евгении Андреевне Снесаревой.
«Ехать было 12–15 км, и посередине пути мне стало на один миг страшно. Дорога шла лесом, вся выстланная деревянным настилом… И вот поднялись мы в гору, светила яркая луна, вышедшая из облака, старик остановился, и из лесу послышался долгий, сильный свист. У меня душа ушла в пятки. Потом старик тронул лошадей, и мы снова поехали. Довёз прямо до хозяйки, Анастасии Ивановны, где мы всегда останавливались. С утра я пошла к начальству, обутая в высокие сапоги хозяйки, по запани… Вскоре пришёл начальник и улыбнулся. “Мы с вами только что на запани разошлись, и я подумал, она ко мне, видимо, приехала к мужу или отцу на свидание”. Велел вызвать папу и дал сначала 12 часов личного свидания, потом прибавил ещё 6. Папа был страшно худ и бледен. Он только что чем-то отравился и был болен. Тонкая шея виднелась в широчайшем воротнике. Отношение к нему со всех сторон было хорошее…»
К концу 1932 года многие из военных вернулись, среди близко-знакомых — Бесядовский, Сапожников, Свечин, Сегеркранц, Голубинцев, Сухов. К тому времени и приём в прокуратуре на Спиридоновке стал проще. Не нужно было записываться заранее, в приёмные дни можно было попасть в живой очереди. Мать с дочерью обычно ходили вместе, чтобы каждой иметь полноту знания вопроса. Прокурор Фаддеев — высокий, спокойный, доброжелательно настроенный человек — принял заявление о пересмотре дела и посоветовал также обратиться к наркому Ворошилову — требуется его виза. Так и поступили, но дело с мёртвой точки не сдвинулось. Как вспоминает дочь, «заявление поступило к некоему Агееву, который, зная, что папе 67 лет, ответил, что это возраст запаса, который их не касается, к тому же срок 10 лет, а за таких они не хлопочут. У Тухачевского тоже оказалась стена непроходимая. Были бесплодными звонки и чаяния приёма у многих боссов Военного комиссариата: одни делали вид, что ничего о вынесенном приговоре не знают, другие “не знали” об аресте. Третьи обещали принять и не принимали, назначали приходить, а сами не приходили (Летуновский, управляющий делами комиссариата); некоторые принимали стоя и задавали вопросы типа: “Зачем вы к нам обратились, мы не карающая организация, мы строим оборону страны…”»
СОЛОВКИ — МОНАСТЫРЬ И КОНЦЛАГЕРЬ. 1932
3 ноября его внезапно разбудили, повезли под конвоем группу в вагоне на пристань, где изготовилась к отплытию баржа «Клара». Что-то неуклюже-тяжёлое, днищем давящее в этом издалека приплывшем слове «баржа». Памятная — царицынская. А ещё прежде — кронштадтская, балтийская. Были еще крымско-черноморские, каспийские, беломорские баржи. Все или расстрельницы, или утопленницы. Эта куда?
С 5 ноября 1932 года Андрей Евгеньевич Снесарев — на Соловках. Никого за пределы лагеря не отпускают, и ходит слух, что на границе неспокойно, и может прийти пароход и захватить политических. Но чей пароход? Советский? Иностранный? Узник-учёный вспоминает «пароход учёных», там были его знакомые, но и сейчас он бы не принял путь ушедших, не изгнанных, а ушедших: крестный путь пройди на родине!
1
Сначала — деревянные бараки. Затем — монастырь, кремль… был Кремль Московский — начало жизни, теперь кремль соловецкий — излёт жизни, тесное проживание в бывших кельях; в час ночной бессонницы однажды живыми явились монахи — основатели монастыря — святые Савватий, Герман, Зосима; стало легче, словно побывал на последней исповеди.
Направили Андрея Евгеньевича в древоотделочный цех изготавливать пресс-папье. Потом перевели в полировочный цех, где он раскрашивал подставки для деревянных фигурок — солдатиков, медведей; в каком-то уголке, поди, и сохранились? Далее покрывал лаком шахматные фигуры… А где-то разыгрывается великая шахматная игра, ещё в полную силу играет Алехин, гениальный земляк, и ещё не скоро будет написана «Великая шахматная доска».
Вскоре определили его в банщики — надо было таскать по сорок — пятьдесят вёдер воды, колоть дрова, топить печь. Наконец его в шестьдесят семь лет поставили разгружать баржу «Клара».
2
Наверное, Снесареву было бы легче, прочитай он тогда потрясающее свидетельство о раннесоветских Соловках — «Неугасимую лампаду» Бориса Ширяева. Великий художник Михаил Нестеров сказал ему в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко». Ширяев был вывезен на остров в 1922 году — за десять лет до Снесарева. Преподаватель, также выпускник Московского университета и также дважды приговаривавшийся к смертной казни, заменённой ссылкой на Соловки, автор ещё не написанной «Неугасимой лампады» плыл на пароходе «Глеб Бокий», но под этим именем чекиста просвечивало старое название «Святой Савватий». На Соловках он пробыл семь лет. И строки его остаются для нас как знаки вечной духовной победы над мерзостями преходящего человеческого «хрустального муравейника».
«Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа державы Российской, Святой Руси — вплелось омоченное в её крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле — тонкие нити трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора Святого Преображения».
«Подвиг торжествует над страхом. Вечная жизнь духа побеждает временную плоть. Безмерное высится над мерным, смертию смерть поправ. Так было на Голгофе иерусалимской. Так было на голгофе соловецкой, на острове — храме Преображения, вместившем Голгофу и Фавор, слившем их воедино… Путь к Голгофе и Фавору един».
3
На Соловках в 1922 году — кронштадтские матросы, архиепископ Илларион (Троицкий), офицеры Белого войска («через месяц ими забили до отказа две гнилые баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами»).
Позже раскулаченные крестьяне, «вредители»… Кто был ещё? Духовно-религиозный мыслитель Флоренский, поэт Плужник, экономист Озеров, лингвист Виноградов, ещё будущий академик Лихачёв, что под конец своей достойной уважения жизни проявит слабость и растерянность (может, вспомнились устрашающие Соловки), подпишет расстрельное письмо и примет из рук расстрелявшего парламент «конституционного гаранта» высший орден. Солженицын поступит иначе: высшего ордена из рук «всенародно избранного» не примет, зато Соловецкому монастырю перечислит гонорары за свои произведения, изданные в нашей стране в пору перестройки.
Соловки напоминали и о живших здесь вольно или невольно в былые века, побывавших здесь незаурядных людях, о которых Снесарев думал ещё задолго до Соловков: одни ему были интересны как личности исторические, другие — как духовные устроители Отечества.
Сосланный сюда после взятия московскими войсками Казани татарский царь Симеон Бекбулатович, «осчастлививший» Соловки своим государевым посещением российский самодержец Петр Первый, пробывший четверть века в соловецком заключении последний гетман Запорожской Сечи Пётр Калнышевский — все они в значительной мере были особы военные, с ними Снесареву было бы о чём поговорить, поспорить; всё же гораздо больше ему приходили на ум люди духовных начал — поборник нравственности и просветительства митрополит и патриарх Московский Филарет, составитель-создатель «Домостроя» священник Сильвестр, в монашестве Спиридон; теперь само слово «домострой» ругательное, а на домоустроительных лесах новой власти словно кувыркаются слуги князя тьмы. Данилевский… взгляни он на Соловки двадцатых — тридцатых годов двадцатого века, наверное, что-то бы изменил в «России и Европе»!
4
Сохранилась тетрадь «Соловки» — одна из трёх: две утрачены, скорей всего, безвозвратно; рука Андрея Евгеньевича оставила записи о пребывании на острове с 5 по 21 ноября 1932 года; процитируем их хотя бы частично: помимо того что в них зафиксирован островок жизни самого Снесарева, его острый ум даёт штрихи мира соловецкого — не советского, как похвалялись нечаянные невольные насельники святого и страшного острова.
«Утром нас разбудили часов около 6, дали кашу и направили по разным работам. Проверенные ещё раз на дворе, мы тронулись в путь “в колонне справа по 4”. Шли мимо кремля по-над Святым озером, миновали небольшую церковь и подошли к ряду удлинённых деревянных в один этаж построек, освещенных электричеством. Нас ещё раз пересчитали, а потом предложили работать в разных цехах: столярном, кукольном… на конце был полировочный (часть древообделочного цеха), куда я и попал… Тут делали: пресс-папье, шахматы, трубки, ещё что-то. Я попал на сборный стол пресс-папье…
В полировочном целая народная кунсткамера: много китайцев, 3–4 корейца, значительная группа кавказцев, турки, латыши… даже хохлы как-то тушуются в этом Вавилоне и не так доминируют, как на лагпунктах материка… Начальник цеха — турок, приёмщиком — такой же… Я встретил хорошее к себе отношение и, вероятно, приспособлюсь… Но физическая работа остаётся чем-то некультурным, убивающим мыслительные процессы и пригибающим к материальным переживаниям… Не только писать, даже подумать некогда…
7-го и 8-го мы отдыхаем; никакого празднества нет, про амнистию ни слуху ни духу… меня посетил Искрицкий… своим бытием на Соловках он доказал мне свой старый облик морально прочного человека, и подтвердил грустные догадки относительно академиков… Грауман (немец, предложивший похлопотать для меня место в библиотеке) упомянул, что Озеров на одном из островов… Оба праздничных дня прошли как-то бледно…
Попал в полировочный цех… Приёмщик, офицер турецкой армии, обо мне слышал и проявляет ко мне благосклонность… На Соловках, оказывается, 3 владыки (все сторожа) и много священников, монахов и монахинь, есть ксендзы и пасторы… Еще существует единственный монах монастыря…
Сегодня переходим в кремль… Слово “материк” звучит у соловчанина очень отчётливо, словно он каждый раз хочет подчеркнуть, что он — “островитянин”… “Командировали на материк”, “прибыли с материка”, “оркестр, библиотеку разобрали на материк”… В этой манере говорить звучит какая-то гордость и что-то вроде пренебрежения к людям Европы… Вообще соловчанин считает себя за специальную особь и о старых соловчанах говорит с оттенком уважения…
Вчера около 5 часов нас отобрали (работающих в полировочном цехе), два раза пересчитали и повели в кремль… Мы прошли ci о ворота, смотрящие на северо-восток, и вступили в узкие улицы: прошли 3 туннеля и подошли к 3-этажному зданию…
Как ни тесна и ни сера наша обстановка, она пересыльного пункта (где мы были) уже потому выше, что у нас топчаны и сверху на вас не сыплется всякая дрянь, а сбоку товарищ не кладёт на вас свои ноги или голову… Сегодня обнаружилось, что меня перевели на более лёгкую работу… Они, пожалуй, и правы, т.к. разъединение колодок, вытаскивание гвоздей, а особенно завинчивание винтов, требуют больших усилий… Может быть, от этого со мной случилось вчера что-то вроде сердечного припадка… замолкни, усталое сердце…
Работа была у меня простая: раскрашивать шахматные фигуры… Работа лёгкая, но монотонная и скучная…
(Здесь наспех изготовленные, наивные шахматные фигуры, их мало кому нужные ряды и россыпи, кони, кроме шахматных, неумолимо редеют на земле, а свою “Великую шахматную доску” Бжезинский напишет в удобстве, тепле и на свободе; а жизнь не игра, разве что игра случайностей, абсурд, иначе великий геополитик, некогда, в студенческие времена, даровитый шахматист, не занимался бы ныне раскраской лубочно-наивных шахматных фигур. — Авт.)
За нашим столом три батюшки — Ануфриев, Смирнов и Георгиевский; они полны своих интересов: архиереи, хоры, службы, консистория, прихожане непрерывно мелькают в их разговорах, как будто они ничего не пережили в последние годы, как будто посетившие их невзгоды пролетели не сокрушительной бурей, а лишь лёгким шквалом ветра. А пострадали некоторые из них (например, Ануфриев) очень тяжко… Я говорил вчера с Овчаренко (Александр Порфирьевич) о тяготе, причиняемой в заключении сотоварищами (людьми) по заключению. Он очень ими тяготится и готов бежать от них под сень глухих лесов и пустынь. Когда я сказал ему, что удивляюсь, не найдя в Библии, а также у Шекспира, Данте, классиков выражения: “Я накажу тебя людьми”, т.е., попросту, поставлю в тесное общение с дурными людьми… он пришел в исключительный восторг. “Как это хорошо, как это верно”, — повторил Овчаренко… Он вспомнил Фому Беккета, который был советником и воспитателем у Генриха II… Потом, когда последний растлил его единственную маленькую дочь, он отошёл от двора, занялся духовными делами. Он возненавидел людей и во время молитвы, глядя на распятие, он говорил: я многое из Твоих дел понял и принял к восторженному сердцу, но как Ты мог умереть за них (людей), этого я не понимаю… “Я накажу тебя людьми” — как часто эта фраза приходит мне в голову и как тяжко порой я её переживаю…
Трудности и переживания меня уже не смущают, да и где кончать жизнь — не всё ли равно… Я не Пушкин и считаю, что “бесчувственному телу равно повсюду истлевать”… Конечно, обретать в себе юношескую энергию, способность бегать за кашей или кипятком… не по годам, но эта необходимость поддерживает энергию, делая её необходимой, иначе скоро бы развалился и одряхлел… Но, быть может, это не самое главное… Что я мог бы делать в Москве? Научными работами мне заниматься не дадут, печатать не смогу, читать лекций не позволят, сползу я по необходимости на преподавателя военных наук в высшей школе… Много ли я проработаю? А сколько внутренних обид и досад я должен был бы перенесть? Сейчас я как-никак политический страдалец, прикрывающий этой позой мою практическую беспомощность; этот облик мне выгоден и в том отношении, что в семье моей, среди сестёр и людей, мне дорогих и мною уважаемых, создаёт тот ореол или, скромнее, то настроение, которое является ценным, хотя и незаслуженным подарком…
Вчера взял у воспитателя справку, нашёл библиотеку и взял Тита Ливия… и Старке “Происхождение семьи”… Библиотека представляет собой развалины, по которым бродишь с грустью… А когда-то она была очень серьёзна и занимала видное место среди частных библиотек России… Сколько нужно было увозов, сколько потерь и хищений заключёнными, чтобы такое книгохранилище довести до нынешнего состояния… Рассказывают про слова одного из комиссаров, отвечающего на сетования по поводу развала библиотеки: “Если в ней то, что есть у Маркса или Ленина, то она излишня, если что-либо другое — она вредна… О чем жалеть?” Чем не Омар? История повторяется…
Енич — поляк, учился в Киевском университете… знает Луначарского…
Если завтра будет выходной день, пойду осматривать достопримечательности: Преображенский собор (значительно пострадал от пожара, но иконостас уцелел), музей (с коляской Петра Великого), может быть, питомник и т.д.
Вчера мои соседи разболтались… о резком уменьшении площади посева… Слово “бурьян” не сходит с описаний… о развале, бесхозяйственности, мотовстве колхозов; тема трактуется в ироническом тоне (как их будят, как они много курят, спешат на собрание, бесконечно болтают) … И что же в конце концов: прибывает у нас площадь посева или убывает? Больше она дореволюционной или меньше? А колхозы: опора ли они наша и надежда в будущем или они орудие окончательного крушения наших хозяйственных ресурсов? Как важны эти вопросы и с каким страданием в сердце ищешь и ждёшь годного на них ответа…
Жизнь состоит из мелочей, из повседневных тревог, забот и опасений, но и из таких радостей и улыбок удачи; всё это скоро забывается, тонет в прошлом, как удаляющийся путник в тумане, и на душе уцелевает лишь что-то общее, средняя линия жизни или, может быть, судьбы. Вот почему полезно закрепить возможно каждый день с его подробностями, чтобы затем яснее представить себе и другим, что тобой в действительности пережито…»
5
Но Снесареву и так запомнилось и не раз вспоминалось пережитое на Соловках. И не то, что физически тяжёлое, как разгрузка баржи, почти непосильная в его годы. Вспоминал, как несколько раз бывал на развалинах монастырской, когда-то одной из крупнейших библиотек России, с какой горестью поднимал среди книжных свалов то или иное издание, брал как дитя, погибшее под дождём и снегом; вспоминал разговоры сокамерников о том, как запустевает село: кругом бурьян, кругом пустырь — уже и предполагать не желая, что однажды в конце двадцатого века его соотечественники снова увидят развал, руины, бурьян на полях, пустыри; вспоминал крепких в делах веры священников, живших своим прошлым как настоящим, а также ксендза из Киева, который пытался обратить Снесарева в католическую веру, на что он грустно отшучивался, мол, безрассудно и безнадежно затевать этот сомнительный миссионерский шаг в твердыне Православия, где даже английские корабли с их ударными корабельными пушками оказались бессильны, снаряды и те отлетали от валунных монастырских стен.
Пусть берега Свири уже не корневая Россия, но всё же Россия ещё материковая. А Соловки словно оставленные Россией, как крыга, отбитая от большой льдины.
Снесарев отписал домой о своём движении на Север, «к белым медведям», и волновался, дойдёт ли письмо и как быстро. Знал, что посылок теперь не будет: до мая закроется навигация.
Евгения Васильевна, получив письмо, бросилась к прокурору. Помог помощник прокурора Верховного суда Р.П. Катанян, который на её заявлении предписал: «Впредь до пересмотра дела перевести на материк до закрытия навигации».
С последним рейсом «Клары» Снесарева перевели в Кемь. На Вегеракшу.
КЕМСКОЕ «СИДЕНИЕ». 1932–1934
Город Кемь «открывал» знаменитый Державин. Его направил туда наместник Олонецкого края. Поэт, в ранге губернаторском, «приехав в Кемь, увидел, что нельзя открывать города, когда никого нет». И все же открыл, то есть провёл церемонию преобразования его из селения в город в 1874 году. У Державина в друзьях — Болховитинов, в героях — Суворов, поэт обоим посвятил стихи. И все трое: бронзовозвучный пиит — «бич вельмож», историк и духовный пастырь, а также не знавший поражений полководец — были дороги Снесареву, но тяжела была мысленная встреча с ними именно в Кеми.
1
Надвинулся тридцать третий год. Год голодомора. Год паспортизации. Год всесоюзной и повсеместной индустриальной стройки, чаще всего — ссыльными крестьянскими руками.
Обратимся снова к воспоминаниям Евгении Андреевны Снесаревой: «Нам с мамой не удавалось долго работать в каком-нибудь месте. Нас всё время сокращали. Меня было приняли в Институт резиновой промышленности в качестве секретаря-переводчика… сократили. Местком делал кое-какие попытки найти мне место внутри института, хоть какое-нибудь, но ничего не получилось. Мама работала в институте, связанном с каракулеводством; в конце 1932 года после длинного разговора с директором в присутствии секретаря и бухгалтера, когда он расспрашивал, где глава семьи, откуда мама знает иностранные языки, она была сокращена “как чуждый элемент и жена ссыльного”. Страшно в этом было то, что у сокращённых отбирали карточки, так что мы оказывались без хлеба… В середине января 1933 года мама тяжело заболела, успев перед болезнью устроиться на работу в Дорком РОКК Северной железной дороги на вечернюю работу. С её болезнью я стала заменять её. Маме было плохо, температура, кололи камфору. Но врачи-знакомые, которые всегда лечили нас, теперь приходить боялись, т.к. среди врачей в это время шли аресты…
Из Москвы людей выселяли пачками. На собраниях в учреждениях и домоуправлениях объясняли, что “паспорт — это путёвка в жизнь”, где нет места бывшим людям, вредителям, беговым колхозникам. Говорили, что паспортизация упорядочит вопрос с продовольствием и жильем в Москве, очистит Москву от недавно приехавших, от лишних. Все мысли и помыслы в январе — марте 1933 года были заполнены паспортами: таким-то неожиданно дали, таким-то неожиданно не дали, иные дворяне получали, иные нет. Только о паспортах говорили, только этого боялись. Обстановка в Москве была тревожная, неуверенная. Люди разделялись на получивших и на не получивших. В приёмной у Калинина стояло по 10 тысяч человек. В результате всей беготни, стояний в очередях, звонков, хождения по приёмным и, по-видимому, неведомых нам хлопот, звонков и неких сил выселение наше было приостановлено до 10 мая. Но плохо было то, что мы обе были без службы, без зарплаты, без карточек… у нас в это время оказалось очень много друзей… Помню, что к нам заходило много народу: то ли меньше боялись, то ли превыше боязни болели за нас».
В Кеми Снесарев разнорабочий, банщик, посыльный. И преподаватель, лектор, учёный. В учебно-производственном комбинате преподавал математику, экономическую географию, и хотя ученики с трудом воспринимали обращенное к ним слово, но были благодарны; в клубе, женском бараке читал лекции о путешествии в Индию, далёкую, солнечную, заключённым нравилось, встречные приветливо здоровались и улыбались. В марте он был назначен библиотекарем и стал жить в комнатке при библиотеке, уйдя из барака-роты с её двухэтажными койками, шумовенью и руганью. Через неделю получил пропуск — право бесконвойного выхода в город. Исходил Кемь, подолгу стоял у старинного Успенского собора; ещё было живым предание, что когда-то на его месте находилась часовенка, в которой перед отъездом на Соловки молились первые устроители островного монастыря; собор вздымался на горе, откуда видно было всю Кемь; внутри храма, тогда ещё нетронутые, взирали на входящих лики с деревянных резных икон.
А в Кеми по весне всё чистилось, убиралось — ожидали приезда Бермана, начальника ГУЛАГа, и Раппопорта, замначальника ББК. Но никто из них не «осчастливил» своим появлением. Вернее, Раппопорт проследовал по железной дороге, не выходя из вагона, принял бодрый рапорт и отбыл далее.
2
26 апреля случилась беда. Надо было заменить пропуск. Заменили, но готовивший пропуск ошибся (вместо Андрей Евгеньевич — Александр Евгеньевич), у проходной Снесарева остановили небрежно-грубо: «Не твой пропуск». Он возмутился и, весь в ознобе, вынужден был идти менять пропуск. Это огорчение, перешедшее в потрясение, оказалось из тех, что приводят к шоковому состоянию. При возвращении в комендатуру его повело вправо, и он упал, потеряв сознание. Очнулся в лазарете, но там его долго не стали держать, так как не было температуры. По дороге из лазарета к дому он снова упал, его ударило так, что отнялся язык, перекосило лицо, левая рука повисла бессильной плетью. Его снова доставили в лазарет.
Когда родным пришла открытка с извещением, что у Андрея Евгеньевича случился удар и он в лазарете, Фаддеев разрешил Евгении Васильевне выехать немедленно. Но не было денег. Билет купил А.И. Тодорский. Деньгами помогли друзья: Грум-Гржимайло, Рябковы, Де-Лазари, Джашитов, Певневы, Курбатовы, Путиловы, Нежданова.
Она приехала 20 мая, а дома умирал старший сын Евгений, а её отец и сын Кирилл уже покоились на Ваганьковском кладбище. Евгения Васильевна пробыла до июня, разрываясь душевно между Москвой и Кемью. В начале июня старшему сыну стало совсем плохо и вскоре, ночью, он скончался. Хоронили его без матери, в ту же могилу на Ваганьковском кладбище, где лежали его дедушка и его брат.
По возвращении Евгении Васильевны из Кеми туда сразу же стали собираться дети — Женя и Саша, так как отца одного, без родных, из-за его глубокой смертной тоски надолго оставлять было нельзя. Но на этот раз сложилось не очень складно. Дважды было разрешено свидание на общих основаниях — в сопровождении стрелка, а затем и вовсе отказано. Дочь обратилась к Онегину, новоназначенному начальнику лагеря Вегеракша, раньше начальнику второго отделения Свирьлага. Узнав, что в свиданиях отказывают, он помог без проволочек.
3
18 августа 1933 года на Вегеракше загорелась и вмиг заполыхала деревянная лагерная больница. Снесарев был на втором этаже, мимо сновали сестры, санитары, врачи, спеша вынести лежачих больных. Андрей Евгеньевич медленно шёл вдоль стены. Спускаться было неудобно, так как перила находились слева, а левая рука бездействовала. Никто на него не обращал внимания. Суеверный ещё со времён мировой войны, он подумал, что если его никто не зацепит, не собьёт с ног, то он выберется наружу. По счастью, так и сталось. На улице две молоденькие сестрички отвели его, вконец обессиленного, подальше от жара и смрада, усадили на ошкуренное бревно.
Больница рухнула — угли разлетелись по всей стране! Горели городские ломбарды, горели деревенские избы, горели леса, выгорали под знойными злыми летними лучами ржаные поля…
Больных распределили по ротам. Снесарева поместили туда, где селили уголовников, отказников от работы, беспомощных инвалидов. Там крали всё: обувь, одежду, пайку хлеба, ложку прямо из рук. У Андрея Евгеньевича уворовали даже брюки. Трудно сказать, что было бы дальше, если бы не помог священник Михаил Семёнович Яворский: он уводил больного и обворованного в свою роту, одевал, кормил, поил, хранил посылки.
И Снесарев после пожара, остро пережитого, вдруг всё вспомнил. Может быть, это была последняя ослепительная победа памяти над сгущающимся склерозом, над сумеречной неотразимой забывчивостью. И он вспомнил во множестве штрихов раннее детство, как летом детишки играли в прятки в высоких травах и лозняках близ Дона, как зимой санки по лукам ехали, ехали в сторону Мироновой горы, и казалось, никогда не доедут, может, едут они и доныне, только сидит на облучке теперь другой возница.
В начале сентября дочь снова приехала к отцу, о чём вспоминает: «Свидания сначала не давали вообще. Потом новый начальник лагеря Онегин на собственный страх дал свидание на общих основаниях, т.е. на проход мой в лагерь в сопровождении стрелка, и в лагере в определённой комнатушке встреча с папой на 1–2 часа в присутствии двух стрелков… В октябре свидание стали давать всё короче и всё с большими трудностями… Папа значительно окреп… Речь совершенно восстановилась, и он иногда читал мне вслух, как и в прежние годы, с тем же мастерством и разными модуляциями голоса. В конце октября произошло невероятное: из Москвы пришла от кого-то бумага с предложением перевести Снесарева в лазарет, где создать ему самые лучшие условия.
Поздней осенью 1933 года У СЛОН (управление Соловецких лагерей особого назначения) был преобразован в ББК (Беломоро-Балтийский комбинат). Лагерь Вегеракша становился девятым отделением ББК, с начальником Иевлевым. Он отказал мне в свидании, так как Андрей Евгеньевич теперь находился в поясе лагеря, а людям вольным туда вход воспрещён. Я тогда обратилась к Сутырину, помощнику начальника ББК, который в это время находился в Кеми, с просьбой разрешить мне лично ухаживать за отцом. Разрешил. Это был человек невысокого роста, с тремя ромбами в петлицах. Про него говорили хорошо. Я стала регулярно посещать папу в лазарете. Он действительно находился в маленькой отдельной комнате».
4
В ноябре над Кемью, над карельскими, над архангельскими лесами и деревушками, над лагерями, над Соловками, над всем Беломорьем уже кружила жестокая метель, ветер валил с ног, слепил глаза, заметал избы до крыш и деревья до крон. Вечные ветры над Россией, вечная кинжальная пурга, переходящая в буран.
«С 7 ноября всё внезапно замёрзло», — пророчески и нечаянно символически скажет дочь, теперь уже постоянно жившая в Кеми, рядом с отцом.
Отец говорил ей, что обдумывает книгу «Во главе двух дивизий», где воспоминания о войне перемежаются с теоретическими и практическими разборами боёв, раздумьями о природе войны, о духовной и физической подготовленности воина, о «маятниковой» психике человека, продиктовал дочери проспект сочинения «О чём говорят поля сражений», надеялся написать «Околобрачные обычаи» — индийские, персидские, славянские…
И всё же чаще — изнуряющая горечь, усталость, а не жажда действий. Угасают сыновья. Или ему, как Муравьеву-Апостолу, суждено потерять их? Но сыновья сенатора сами потянулись в полымя, а его дети? А неисчислимые дети трагической родины? Отчего им уготована такая судьба? Угаснуть, молодыми завершить земной путь… Отчаяние находит: он, всю жизнь живший для семьи, для Родины, теперь не в силах помочь им даже малой малостью.
5
«С разрешения начальника лагеря я стала работать в лазарете санитаркой, — вспоминает дочь, — потом сестрой и за это получала обед; а позже — и сестрой в городской больнице. 14 января 1934 года, всё еще не получая ничего конкретного относительно освобождения, по совету Онегина и Чернова, я отправилась в Медвежью Гору. Страшновато было идти на станцию в 4 часа утра, поезд отходил в 6. В Медвежьей Горе провела три дня, подала Сутырину заявление о пересмотре дела, заручилась его обещанием запросить Москву и прислать ответ в Кемь и 17-го вернулась домой. Через несколько дней… мне было предложено написать заявление в ГУЛАГ о пересмотре дела и подписаться “за больного отца”, а также сказано, что по распоряжению Пильнера (зам. начальника ГУЛАГа) мне дают на 20 дней свидание. В конце января меня попросили выступить в клубе на вечере… Я танцевала матросский танец и мазурку Венявского…