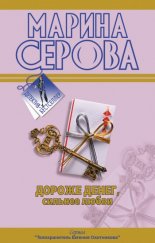Генерал Снесарев на полях войны и мира Будаков Виктор

14
В письмах Снесарева с июля по октябрь 1914 года, в бытность его начальником штаба Сводной казачьей дивизии, названия мест: Голосково, Городок, Требуховцы, Ходоров, Любен Великий, Самбор, Старый Самбор, Борыня, Пидбуж, Дрогобыч, Ластовка; места, где завязывались жестокие бои: Бучач, Монастыржеска, Городок, Чортков, Стырь, Миколаев, Гнилая Липа, Золотая Липа, Садова Вишня, Стрый, Турки, перевал Ужок… В письмах с октября 1914 года по октябрь 1915 года, в бытность его командиром полка, названия мест и повторяющиеся, и новые: Сянки, Лопушанка, Борыня, Шельбицко, Стрельбиче, Явора, Яблонка Нижняя, Новоселице… большинство названий мест славянские, более того старорусские, русинские, это земля русинов, долгохранителей родного языка, родных традиций.
Русины — Прикарпатская, Червонная Русь, и они русскими ощущали себя все эти долгие века, какие бы нашественники и угнетатели ни появлялись в их краях: турки, поляки, австрийцы, евреи, венгры. На русинах вполне подтверждалась старая истина: чем многотерпеливее народ, чем вернее и преданней он своему прошлому, тем больше гнетут его властные верхи.
Во время европейских революций 1848–1849 годов в адресе на имя австрийского губернатора список пожеланий или требований русинов весьма умерен: введение в школах и присутственных местах Восточной Галиции родного языка, доступ русинов ко всем должностям и уравнение в правах духовенства всех вероисповеданий. Но и этому списку не дан был ход. Более того, австро-венгерские власти русинов переименовали в… рутенов, дабы и главный — этимологический — корень убить. Но народная память не выпалывается, как трава. Сколь бы ни была жестока и даже искусна власть, отнять у русинов прошлое не удалось. Разумеется, сказали сокровенное и подвижники культуры Карпатской Руси. Александр Духнович (1803–1865) — духовный деятель, издатель, поэт, чей стих «Я русин был, есмь и буду…» стал народной песней ещё при жизни автора, а стихотворение «Подкарпатские русины, оставьте глубокий сон» утвердилось как гимн Прикарпатской Руси (1919–1939). Или Яков Голо-вацкий (1814–1888) — учёный, поэт, основатель Галицко-русской матицы — просветительской организации, издававшей книги на родном языке, профессор русского языка и словесности во Львовском университете, уволенный за участие в Этнографической выставке в Москве в 1867 году; эмигрировал в Россию, возглавил Виленскую археографическую комиссию, издал трёхтомник «Народные песни Галицкой и Угорской Руси». Или Александр Павлович (1819–1900), священник и поэт, младший друг Духновича, пропевший соловьиную песню «Карпатскому милому краю».
Были подвижники истории карпатского славянства и в России. Учёный Фёдор Аристов (1888–1932) создал в Москве Карпато-русский музей (1907–1917), в котором были собраны научные и художественные книги о Прикарпатской и Закарпатской Руси, рисунки, карты, фотографии, около пяти тысяч рукописей: автобиографии, дневники, письма, воспоминания закарпатских писателей и учёных.
Однажды Снесарев, находясь в Москве, побывал в том музее, но он, разумеется, не мог предположить, какая печальная участь постигнет духовную, культурную сокровищницу Карпатской Руси. В начале Первой мировой войны особняк приспособят под лазарет, а музейные коллекции, запаковав в ящики, свезут на городской склад. Его в революционное смутовременье разграбят. Редкостные экспонаты исчезнут бесследно.
Брусилов в книге воспоминаний, говоря о нетерпеливом и далеко не приветном отношении галицийских поляков, евреев к русским войскам, противоположно отмечает русинов, из-за своего «русофильства» испытавших австрийских, венгерских тюрем (на отвоёванной территории Брусилов оттуда велел их выпустить), концлагерных бараков, проволоки и иных утеснений. «Русины, — пишет он, — естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазе-пинцев, выставивших против нас несколько легионов».
Снесарев, более чем в других, провоевав в русинских землях, сопереживательно воспринимал тяжкую долю небольшого народа, который инстинктивно ощущал себя ветвью народа большого, упрямо считал себя русским; Андрей Евгеньевич удивлялся и радовался этой душевной верности и крепости, чем мог, помогал горским славянам. Не однажды захватывало его особенное грустно-трепетное чувство в небольших деревянных русинских церковках, где его солдаты молились так трогательно и истово, «как только молятся на войне или, по словам поговорки, на море».
15
Три последних месяца 1915 года Снесарев — командир бригады 34-й пехотной дивизии Восьмой армии. В бригаде — 134-й Феодосийский и 135-й Керчь-Еникальский пехотные полки. Уже больше года — одно и то же: окопы, атаки, стрельба. Да грязь, да пыль. Монотонность войны ещё несноснее монотонности мирной скучной жизни. Теперь у него два полка, и сколько времени, сердца и воли потребуется, чтобы собрать каждый как единое целое, вдохнуть в них чувство единой семьи, подготовить для побед.
А прежний, выпестованный им, начинает рушиться медленно, но необратимо, как дом, оставленный без хорошего хозяина. Раненые офицеры в полк не хотят возвращаться, многократно раненные подают рапорта об уходе. «Доктор Богорад острит над ними: “Они, как прежние запорожцы, хотят своего кошевого… и никакого другого… Подай им батьку Снесарева”». Дисциплина тает с очевидностью весеннего снега, и известия о неостановимом превращении ещё недавно ударно подготовленного полка в зауряд-полк приносит бывшему его командиру не только горечь разлуки, но и горечное сознание надвигающейся гибели — до атаки, до погибельного боя.
И сколько ещё так — вдали от семьи, от мирной жизни, от исполнения замысла в сфере науки, геополитики, педагогики? Приходят на ум слова одного генерала, случайного попутчика в вагонном купе: «Течение дня ещё можно заметить, но полёт месяцев и годов быстр до неудержимости…»
Настраивают на мирный, почти семейный лад трое казаков, обслуживающих командира бригады, — Трофим, Осип и Кара-Георгий… Они, как младшие братья, ревнуют своего начальника, но все ему верны и преданы.
Радуется, словно на миг возвратил невозвратимое, когда он, четыре года прослуживший в кавалерийской дивизии, а теперь пехотный бригадный, на осенней проверке конного парка бригады профессионально оценочно пропустил перед своими глазами полтысячи лошадей, немало удивив офицеров и ветеринара быстротой и точностью оценок. Кони — на всю жизнь его слабость, и он часто с улыбкой любил повторять старинное наблюдение, что в мире есть совершенные по красоте создания, и прежде всего — женщина и лошадь; разумеется, они дочери природы — вечной и необозримой по воле и благодати Творца.
В письме от 25 октября 1915 года находим слова, удивительно сильные по лирическому чувству человеческой всемирности, жажды бесконечных времени и пространства: «…Огромный дом, скорее дворец, стоит на высоком холме, покрытом с одного своего ската парком; на востоке видна деревня, южнее её долина, с протекающей по ней речонкой… горизонт большой, вид внушительный. А тут ещё эта осень, с воем ветра, падающими хлопьями золотистых листьев и с нервными стаями галок, кричащих и плавающих в воздухе… Я хожу по аллеям, ветер хлещет мне в лицо, будто хочет прогнать мои назойливые думы, а сверху смеются галки, перебивая одна другую и купаясь в струях воздуха. “Смотрите, — читаю я их галочью болтовню, — о чём это думает там этот глупый человек, и пора бы ему измерить аллею своими шагами… не сто раз же делать эту промерку”. А глупый человек ходит всё и ходит, а для его дум и фантазии мало не только ближайшего театра войны, мало всей его страны, мало того текущего клочка времени, которое сейчас развертывается… Он расширяет и место, и время, и всё же теснота душит и жмёт его».
Панорамность взгляда, расширяющиеся время и пространство. А ещё — почти поэтическое чувствование ветра. Ветер звучит во многих строках и размышлениях геополитика, словно и их — ветра, бури, урагана — силы и векторы имеют геополитическое значение. Пятидесятилетний человек, испытавший и мирной жизни и военной страды, вскользь обронит в одном из писем: «смотрю впереди своего века» — не похвальба, а грустное признание.
А вокруг — пули, окопы, грязь и хлябь, и гибель, и награды за воинские заслуги, и сколь ни понимает Снесарев их известную условность и лежащую на них человеческую субъективность, случайность, но задержка высокоценимого им ордена Святого Георгия, к которому он не вчера представлен, некоей занозой отдаётся в его строках жене: «О моём Георгии опять ничего не знаю… Я вижу перед собою такую массу в этом отношении и огорчений, и несправедливостей, что моя личная неудача кажется маленькой, совсем тонущей в море чужих неудач, ошибок и огорчений… Вчера на позиции я ездил с артиллерийским подполковником, и он мне рассказал, как у него два раза дело не вышло с Георгием… И когда, говорит он, я написал об этом своей жене, она мне ответила: “Нам всё равно, придёшь ли ты, украшенный отличиями или нет, лишь бы пришёл, а о том, что ты свой долг выполнял и выполнил, я — твоя жена — знаю, и людской суд или его сомнения для меня пустяки…” Он передавал это мне с улыбкой, но… я чувствовал много перенесённых горя и боли. “Да, теперь всё позабыто, и можно улыбаться”, — бессознательно ответил он на мою догадку».
В письме от 30 октября 1915 года уведомляет жену, что, как выпадет свободная минута, занят набросками военного теоретического труда, и ему требуются отечественные и иностранные армейские уставы, учебники тактик, книги по истории войн, мемуары великих полководцев, «чтобы выловить их приёмы и манеру воспитывать…» Но таковых книг нет во всех Карпатах с их главными городами, не говоря уже о глухих карпатских теснинах, лесных нагорьях, бедных деревеньках и малых городках, где ему приходится дислоцироваться.
В этом же письме советует, как лучше поступить в поисках багажа, затерявшегося при перевозе из Каменец-Подольска. Надеется, что библиотека уцелела и не пропадёт, поскольку на всех корешках книг его фамилия. «Конечно, за такой длинный период наше добро свелось к пустякам. Библиотеку же можно будет перекупить на том аукционе, который, вероятно, состоится, если все наши блага не попали к иностранцам…» Вопрос возможной утраты имущества и компенсации за него — для семьи явно болезненный и материально, да и морально, поскольку многие вещи стали одушевлёнными — помощниками, друзьями, соучастниками красивого, ладного быта; и через полмесяца Снесарев вновь к нему возвращается: «Если столько дадут за наш пропавший багаж, как ты это пишешь, это будет очень хорошо. У нас получится достояние, приносящее (вместе с прежним) до 2 тысяч в год, а это позволит нам иначе взглянуть на мир Божий. Сколько раз мне приходило в голову или выкинуть какую-либо штуку (вроде книги, статьи…), или просто бросить службу, но этот постоянный рабий страх за существование, за кусок хлеба сковывал мою волю и размах. Теперь, если бы я даже моментально вышел со службы, у нас с моей пенсией будет не менее 4 тысяч, а с этим можно жить припеваючи и поднять детей. Пишу, конечно, чисто теоретически, так как сейчас не такое время (время великой борьбы), чтобы думать об уходе».
Андрей Евгеньевич не из одних книг, разумеется, но из жизни знал, скольким крупным, талантливым, даже отмеченным искрами гениальности людям эти страх, тревога, забота о куске хлеба насущного пригашали пламень вдохновений, подрезали взлёт и даже полёт, скольких великих поэм, симфоний, полотен не досчитался мир из-за этого, а теперь и себе вынужден был признаться в том, что волю и размах сковывает именно подёнщина добывания самого необходимого для семейного стола.
Под бездомно гудящий, всезаполоняющий ветер, из-за которого лишаются эха даже редкие ружейные выстрелы, остра боль. Скончался от ран ротный его полка, прапорщик Дмитрий Чунихин, надёжный воин, всегда готовый постоять за окопных товарищей своих, серьёзный и весёлый, вдумчивый и шутник, размашисто одарённый. Снесареву он был дорог как человек воинского долга, чести, он ему был как младший друг, он годился бы ему в сыновья, «22-летний ребёнок». Комполка хлопотал о Георгиевском оружии для него, и Чунихин получил его — уже после своей смерти. Снесареву попал в руки дневник прапорщика, где он о своём командире несколько раз «упомянул тоном самой глубокой привязанности… Это дорого потому, что неподдельно и искренно». Чем-то судьба Чунихина напоминала судьбу убитого Мельникова, только тот был эгоцентричен, надменен, не допускал в свой мир других, а Чунихин был солнечен и открыт. Война и смерть не разбирают, кто лучше, кто хуже, хотя достойных настигают чаще, нежели им противоположных.
16
В конце ноября выпавший было снег сходит, наступает слякоть, хорошо известная семье Снесаревых по Каменец-Подольску. Он снова оказался на Каменецко-Ларгинской дороге, размытой, исчёрканной глубокими колеями, загромождённой брошенными повозками, разбитыми орудиями, павшими лошадьми. (Невольно вспоминалась былая слава. Дорога былой славы. Приходили на ум времена и имена Петра Румянцева, Григория Потёмкина и даже Петра Первого; ещё и Карла Двенадцатого и Ивана Мазепы — все они побывали здесь.) «Кстати о Ларге. Она теперь заглохла, никого там нет; её буфетчиков я вижу перекочевавшими на новые станции, одни на Здолбуново, другие — на Шепетовку… побежали, как крысы с погибающего корабля. И Каменец попутно приходит мне в голову, и я не знаю, как вспоминать его. Были там люди хорошие, там родилась наша дочка… и, пожалуй, всё. Отними это, и останется он не более, как случайный этап или ступень на пути офицера Генштаба».
Декабрьская пора — затишная. Ни частых, ни редких атак, позиционное сидение, но чтобы полки по первой команде встали и устремились в атаку, требуется постоянно бывать в окопах, беседами и чутким словом крепить дух подчинённых. В письме от 5 декабря 1915 года пишет о том, что побывал на празднике Феодосийского полка, и ему пришлась по душе речь батюшки — о. Льва, который говорил о терпении, подвиге, женских верности и капризе, привёл исторический пример, как во время войны молодая красавица графиня Потоцкая на балу танцевала с одним пылко влюблённым в неё офицером и вдруг, прервав танец, сказала своему обожателю, как если бы была царицей полумира: «Я с вами окончу танец, но тогда, когда вы вернётесь победителем». В этом же письме сообщает радостную для него весть: в полк вернулся, убежав из плена, унтер-офицер Ургачёв, уже третий из ранено-пленённых. «Нет лучшего доказательства прочности полка, как возврат из плена этих орлов в своё гнездо. Ведь сколько они должны при этом вынесть, выстрадать, и каково должно быть в них тяготение к полку и какое должно быть в душе горделивое чувство свободы…»
Что-то приходится корректировать по части тактики — не только в отношениях с врагом, но и в отношениях с однополчанами, даже друзьями. В декабре нечаянный выдался вечер горячей, без недоговорок, беседы, когда он несколько часов кряду проспорил с «коренниками»: Тринёвым, Кременчуцким, Волнянским и Колумбовым; почувствовал, что и друзья, разумеется, не первейшие, не давней, долгой службы, за его шагами наблюдали, быть может, даже придирчивей и требовательней других. «Тактика — вещь определённая, и её в общих тонах преподают одинаково, но ту тактику, которой я держался… хотели обесценить, хотя, кроме победы, она полку ничего не давала, а людям хранила сверх того покой, здоровье и тёплый уют. В этом мы оказались согласны все пятеро, хотя в словах моих собеседников проглядывала мысль о моей гордости и одинокости, которые мне, по-видимому, довольно вредили в глазах начальства и равных товарищей… Во всяком случае, многое мне стало яснее, а выяснять — хотя и прошлое — всегда не поздно…»
Когда Снесарев однажды признается, что солдатская шинель ему так нравится, что он с удовольствием её надевает и ходит в ней, это не было жестом внешним, но, может быть, и наивно выраженным и всё же корневым проявлением солидарности с солдатом, с воином передовой. А окопы, цепи траншей — не просто густые оспины войны, угрюмо-нагие рвы. Они своеобразные, вдруг выросшие и в земле упрятанные деревни, где вчерашние крестьяне, скучая и тоскуя по страде мирной, вынуждены заниматься всем, что называется страдой военной.
«Этой ночью, — пишет 19 декабря 1915 года, — был в окопах и проверял полевые караулы… Мне пришлось наблюдать окопную жизнь ночью, и в ней много своеобразного, грустного и мрачно-красивого… Видишь, ползут фигуры то с мешками хлеба для роты, то с досками, то идут отдельные посыльные… мелькает ласковый огонёк и слышны речь или тихое пение… А в воздухе неумолчно гудят одинокие выстрелы и жалобно свистит пуля, словно ей страшно хочется загубить жизнь человеческую, и она упорно ищет на пути своём человека… Ночь тёмная, но её хмурый фон бороздят то осветительные ракеты, то лукавый и жадный сноп прожектора.
И думаешь, наблюдая жизнь, сколько этого пару и крепости в нашем солдате, который в этих погребах копается и живёт по месяцам, нос к носу с неприятелем… И мне думается, отчего это наши военные корреспонденты не поживут немного в окопах, чтобы понаблюдать их интересную жизнь и потом рассказать о ней людям. Обыкновенно они снимаются у пушек на “передовых” позициях, а такие пушки подчас стоят от окопов верстах в трёх-четырёх… И выходит, что корреспонденты могут воочию видеть только штабы, тыловую и обозную жизнь, т.е. то, что наименее интересно и наименее характеризует войну; а о последней им приходится получать данные из вторых рук, от тыловых господ или от раненых. Эта же категория людей сама или мало знает, или рисует боевую жизнь нервно и пристрастно. Всё это очень грустно, потому что между корреспондентами есть немало талантливых и искренних людей, и они могли бы сказать своё хорошее слово».
(Андрей Платонов — корреспондент окопа. Его солдат — пахарь и плотник, и война — его вынужденная страда. Есть ещё «окопная проза» лейтенантов — писателей Ивана Акулова, Виктора Астафьева, Владимира Богомолова, Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Константина Воробьёва, Вячеслава Кондратьева, Виктора Курочкина, Виктора Некрасова, Евгения Носова, потом пути их разойдутся, но допрежде о Второй мировой войне, пройдя через поля и холмы сражений, они скажут так, что, читая их книги, слышишь затруднённо-прерывистое дыхание правды.)
17
«Где ты, какая ты, смееёшься или плачешь? Уже привыкаешь к тому, что между нами лежат пространства…» — слова эти, однажды письмом схваченные (7 декабря 1915 года), давно звучали непрерывным рефреном во всём его существе, особенно в долгие осенние, зимние вечерние часы, когда тоска по семье обострялась. Всю боль, печаль, нежность он не мог вместить в письма, но когда писал их, словно видел родных перед глазами и, как уже чужое, врагом занятое поле, отвоёвывал своё прошлое.
Если вычленить письма сугубо семейные, в них явственны два начала, два словно бы искрящих провода, а проще говоря — две нити. Одна нить — детский мир, троица малых.
Отец слышит каждый вздох каждого из своих детей, он врач, педагог, просветитель, печётся о верности или выверенности каждого их шага, он нацеливает на разумные труд и отдых, он тревожится за здоровье и сохранность их, чем бы они ни занимались: катанием на коньках, бегом, книгами — он не забывает спросить, достаточно ли они едят овощей и фруктов, он предупреждает, что «обильная музыка может сказаться на нервах», как позже увидит угрозу детскому здоровью в частом просмотре удлинённых киносеансов: «В кинематограф посылай детей поменьше, так как это крайне вредная вещь и для детской психики (излишняя, неуловимая детьми торопливость действий вне времени и места), и для глаз. Вырастут — успеют насмотреться»; он даёт в письмах существенные пояснения житейского и нравственного характера, подобно следующим: «У Гени есть это сильно развитое чувство эгоизма, особенно резко проявляемое в разгар игры, когда он готов даже правила игры ломать в сторону своей выгоды. Это хорошо и плохо. Хорошо для боя в жизни, где удачи порой приходится выгрызать зубами, а для этого надо их хорошо чувствовать и сознавать; это плохо с высокой плоскости идеала и с точек зрения более широкого миропонимания… конечно, я говорил бы с ним на тему, что всегда нужно быть справедливым, что лучше, красивее и правильнее даже пострадать за это, потерять личную выгоду… Откуда это у него? Я в детские годы был Иван-простота, говорил, не знаю урока (хотя и знал), когда все гуртом говорили это, гиб за товарищей при всяких случаях… то же в университете, то же в Академии. В этих смыслах простота-Кирилленок пока ближе ко мне»; позже — 1 августа 1916 года: «Относительно Гени… Вся задача (педагогическая) с ним — это приучить его к систематическому труду… У него способности блестящие, и они могут его испортить, давая ему всё слишком легко. А между тем без привычки к труду в жизни не хватит и самых выдающихся способностей… жизнь становится сложнее и труднее, борьба за существование злее, наука больше, специализация уже и тоньше. Только паруя способности с умением работать, можно стать борцом, пробить себе дорогу и принести людям пользу… в размере полученных от Бога дарований»; «Следи, мать, за тем, чтобы слова “знаменитость”, или “красавица”, или “умница” поменьше долетали до детей, они должны быть скромны, а если и выйдет из них что крупное и родине полезное, мы с тобой будем смотреть на это, как на подарок Бога».
Ещё одна нить — отношения их, мужа и жены, в которых ушедшее, постоянно воскрешаемое памятью, живёт сегодня и переходит в завтра. Солнечный Туркестан и промозглый Петербург — любовь, вера, преданность, но случалось и такое, в намёках скользящее, что нынче трудно разобрать, увидеть как эпизод или настроение. Но главное — любовь, вера, преданность. Снесарев внеоговорочно убеждён, что без любви, увенчанной семьёй, победы на войне — ни единичной, ни общенациональной — настоящей победы быть не может. Своими настроениями он делится с женой: «На фоне военных переживаний прошлое нашей брачной жизни смотрится с ещё большей серьёзностью и с ещё большим углублением. Могли ли мы прожить лучше, я не знаю, но в основе нашего брака лежали начала прочные и вечные, и всё ими освящалось и направлялось. Только при них можно создавать брак, как, с другой стороны, только при них можно воевать… иначе война придушит и смутит своими сложными и тяжкими картинами».
Он объясняет, почему временами непривычно редок в письмах — объясняет суеверием, которое подчас поднимается в нём едва ли не вровень с пушкинским. Сердце захоланывает, когда рассыплется соль, или многократно гаснет свеча, или нечаянно утром встанет не с той ноги. Тут многое набирается: одна чёрная кошка на дороге, два жёлтых цветка во сне, шесть молчаливых птиц в небе… А вот неказистая, кривая палка, словно охранный посох. С нею он нигде не расстаётся, поскольку она сопутствует ему во всех удачных боях и победных сражениях. Странно подобные поклоны приметам наблюдать у сына православного и чуждого всяким суевериям священника, но, наверное, здесь тот случай, когда яблоко далеко от яблони падает.
Вдруг вспоминает осеннее посещение петербургского дома Федченко в первый свой отпуск-приезд с войны и невольно уносится мыслью в Ташкент, где надо было случиться одной из первых горькопамятных размолвок: «…Дом Федченко какой-то диковинный… В душе человека есть какие-то упорные и злые уголки, которые… злым огоньком тлеют до могилы. Увы, это грустно, но так человечно. И о тебе, моя детка, они все запоздало мечтают… Я никогда тебя не ревновал к Федченко, но каждый раз, когда я думаю об их мечтаниях, где-то в глубине, на самом донышке моего тревожного сердца, что-то начинает колыхаться, и нервные струны звенят …»
(Да, ревность Снесарева ещё с тех знойно-туркестанских времён, а может, и ранее — ещё с отроческих… Вообще Андрей Евгеньевич бывал ревнив к знакомым и даже друзьям, которым верил и доверял до какого-то укольного мига. Так было и с Григоровым, сотоварищем по ташкентской квартире, среди главных лиц по праздничному ритуалу на свадьбе, и с Пославским, и с Федченко… Справедливости ради надо сказать, что и Евгения Васильевна страдала необъяснимо-беспочвенными приступами ревности, словно находясь в плену у стародавней приметы: чем больше любят, тем больше ревнуют. Разумеется, вернее было бы сказать: чем больше любят, тем больше страдают. Никто из двоих не давал и малой тени, малого повода поддаваться «чудовищу с зелёными глазами», как определил ревность самый ценимый Снесаревым англичанин — Шекспир. И когда настигнет, ударит испытание Соловками, Северными лагерями, чувство ревности не только бесповоротно уйдёт, но и вспоминаться будет как тягостная морока, с ними ли бывшая.)
«Целую мою невесту, — пишет в письме от 2 ноября 1915 года, — на которую косо посматривал, подходя от дверей церкви к коврику и аналою… ты была страшно серьёзна и проникнута важными думами… и я тут же решил спокойно: это хорошо, надёжная, т.е. на вещи смотрит строго, и религиозная… Я чувствовал себя или пловцом, достигшим гавани, или учеником, получившим награду… но взор уже скользил дальше: там что будет?.. Увы, несказанно бессилен человек пред полотном своего будущего!..»
Через полмесяца: «Твои письма от 5 и 7 ноября — два ярких контраста: первое резко тоскующее и второе резко веселящееся. В Каунпоре (Индия) есть статуя на месте массовой когда-то гибели англичан… Как всегда, ввиду бедности британцев статуя прислана откуда-то со стороны, чуть ли не президентом Соединённых Штатов, изображает она ангела, у которого одна сторона лица суровая, а другая — улыбающаяся. При чтении твоих через день идущих писем я вспомнил об этом двойном лике ангела. И вправду, детка, если срок писанья ты ещё сократишь, то, переходя от грустного письма к весёлому, ты не успеешь всё лицо перевести на улыбку, и отставшая часть будет ещё плакать, в то время как торопящаяся начнёт уже хохотать… точь-в-точь, как у Каунпорской статуи.
Мы живём втроём: я, Тринёв и адъютант, и много спорим или, скорее, рассуждаем. Тринёв вырос на Дону, а учился в Константинов-ской станице (в 35 верстах от моей); и у нас с ним зацепок давно было много. Посещают нас очень многие, и разговоры не умолкают».
Он пишет письмо 21 ноября 1915 года — дата, незабываемая из постоянно живого туркестанского прошлого: «Я сел сегодня писать потому, что 21 ноября и моя мысль тонет в прошлом. Уж это моё прошлое! Нет большего раба, нет более горячего поклонника, как я, пред тенями и властью минувшего… И ты, лучезарная, освещенная солнцем, взволнованная… стоишь пред моими глазами в далёком домике, отнесённом от тебя на тысячи верст…»
Через месяц: «Вспомнил я наше первое с тобой музицирование: папа с мамой сидели в столовой, а мы разбирали, а потом исполняли какой-то романс (забыл, какой, но такой славный и широкий); ты старалась вовсю (тебе было 15–16 лет), а я был проникнут каким-то особенным настроением. Я уже много пел, многие мне аккомпанировали, слушали меня большие залы со многими людьми… там мною руководило и чувство гордости, и славы, и известного творчества… а тут было два человека, о которых я и не думал. Я пел только… только для маленькой женщины-ребёнка, о которой я мечтал уже тогда странными и туманными грёзами и в душу которой я хотел переложить и свои думы, и робкие надежды, и далёкую даль неясных ещё и мне самому горизонтов…»
Через день — снова исповедальные, поэтические, благодарственные строки: «Дорогая моя, славная, ласковая, беленькая, шатененькая, тоненькая… сижу сейчас и думаю, что ты у меня завтра именинница, и мне весело и уютно думать об этом… Если бы тебя не было, я бы остался один до конца дней своих, брёл бы по земле одинокой тропою, пока не ослабли бы ноги и не приютил бы меня случайный забор житейской улицы, а ветер не закрыл бы моих усталых глаз навеки. Но ты нашлась где-то в точке мира, в любимом Бабуром городке, затерянном на краю Туркестана и приплюснутом к могучим контрфорсам Алая; нашлась тогда, когда уже многое и многое меня или утомило, или разочаровало, когда я понял горечь быстротекущих восторгов и расценил отраву сладостей жизни, когда, ещё не живши, я уставал жить и, сторонясь наслаждений, я уже уставал наслаждаться… Ты нашлась, русалкой поднялась из волн Ак-Буры, и с полудетской простотой, с ласковостью нелукавого сердца сказала мне: “Ну пойдём, брось хмурить брови и давай заживём в мире по-новому…” И мы пошли, и зажили, и понесли в люди нашу веру и наши сердца, наделали много глупостей… и люди нас обманули, и жизнь над нами надсмеялась… Но мы не заробели и старались лишь о том, чтобы наш челнок обеспечить прочными якорями… их мы нашли три и, опершись на них, сделали наш чёлн устойчивым и определённым. Мы продолжали путь с новыми силами и тем, которые согрешили пред нами в прошлом, мы стали слать нашу смешливую улыбку, а потом и прощенье… Моё бедное сердце окутывает тихая радость, а в душе встает благодарение Творцу, который дал мне жёнушку и никогда не забывал нас в нашем пути…»
Русские религиозные мыслители полагали, что безрелигиозный человек резче всего проявляется в отсутствии у него жертвенного чувства к семье, к церкви, к родине, а также к государству как двуединству защиты личности и угрозы для личности. Снесарев — решительно противоположный образец здесь, и в нём все названные ипостаси находят своего честного истолкователя и верного защитника.
18
Страшные, в сущности, строки пишет в предновогодний день — 31 декабря 1915 года. Хотя, казалось бы, для войны эка невидаль: расстрелян солдат. Но — расстрелян в канун Рождества Христова; расстрелян своими; расстрелян как перебежчик. Такого — и попытки перебежать к австрийцам, и приговора к казни — в дивизии ещё не было. Священник, причащавший несчастного, рассказал Снесареву о том, как бреметягостно было перенести обряд расстрела и ему, и офицерам, каким надлежало присутствовать при расстреле: их лица были белей полотна, белей савана. Зато нижние чины, что исполнители, что выделенные от рот (для педагогического назидания?) наблюдатели, были обычны, спокойны и не то что покорны, а словно бы равнодушны. «По-видимому, солдаты отнеслись безразлично, как к одной ещё мимоходящей смерти, но принесённой своими, а не врагом. Осип так характеризовал отношение их: “Что ж, заслужил своё… не полатается бегать…” Когда я задумаюсь над сотнями тех смертей, которые ходят вокруг нас вот уже второй год, ходят изо дня в день, делая сердце жёстким и угрюмо-холодным, приучая его и воображение ко всем текущим ужасам, то что тогда значит лишняя и притом одинокая смерть? Был человек, и нет его, вот и всё… Осипу и говорить об этом неинтересно: “Не ходи куда не нужно”».
(Расстрел перебежчика — «что тогда значит лишняя и притом одинокая смерть?» Ещё одна, которой могло бы не быть? Разумеется, одиночная смерть — невесть какая редкость, привычное, каждый умирает в одиночку. Но чтобы «лишняя»? Эпитет, уместный разве в устах Господа Бога, но у него лишних нет. Для войны же этот эпитет из сентиментально-побочных, в ней работают другие эпитеты — информационные: «ещё живые» или «уже погибшие».)
19 Последней русской операцией 1915 года — декабрьским наступлением войск Юго-западного фронта — Ставка надеялась отвести австро-германский молот от истекающей кровью Сербии. Сербия, чья столица была подвергнута кромешному обстрелу уже в первый день войны, чья армия уступала австрийцам во всём, кроме обречённого мужества, долго выстоять не могла. Между тем осенью 1915 года она вынуждена была обороняться со всех сторон. Германская армия Макензена, подвергнув небывало разрушительной бомбардировке Белград, переправилась через Дунай и Саву, австрийцы форсировали Дрину, болгары надвинулись с востока, а на западе, у Адриатики, располагались гористые территории албанцев, под огненацеленной и огнеизвергающейся враждой которых сербскому вооружённому народу вскоре придётся отступать к морю в страшных условиях непогоды и ненависти, каких, может быть, не испытывала ни одна армия за все века от сотворения мира. В обширном труде «Мировая война 1914–1915 гг.» A.M. Зайончковский полагает, что «единственно возможным спасением для сербов было предупредить выступление Болгарии и напасть на неё во время мобилизации. Это могло бы сразу вывести Болгарию из строя или даже передать её в руки Антанты. Однако такому акту воспротивилась под давлением Англии Антанта, которая предала, таким образом, Сербию полному уничтожению». Зайончковский называет и другие способы — уже солидарной — помощи сербам, столь же успешно отвергнутые союзниками, и оставалось одно: помочь сербам через русское наступление.
Третья армия под командованием генерала Щербачёва, бывшего перед войной пять лет начальником Николаевской академии Генерального штаба, поначалу готовилась быть отправленной в Болгарию, — эта страна с лёгкостью непамятливой женщины забыла про славянские жертвы России при освобождении её, веками туреченной и протуреченной, и без мало-мальских угрызений совести объявила войну России, присоединяясь к Серединному блоку. Но что можно было сделать с одной, и не самой закалённой, армией во враждебной стране? Да и как её перебросить туда? Румыны, ещё не надумавшие, к какому союзу причалить, отказались пропустить русские войска через свои земли, а десантировать войска на болгарский берег Чёрного моря, освоенного германскими подлодками, без близкой базы при осенней непогоде было предельно рискованно.
Щербачёв склонил царя перебросить армию из Одессы в Карпаты и там предпринять наступление, чтобы оттянуть австрийцев от балканских операционных линий и прежде всего от Сербии. Но и в Карпатах она, вынужденная словно бы растопыренными пальцами бить по широкой полосе прорыва, успеха достичь не смогла. Подкрепления ей не дали. Командующий Юго-западным фронтом Иванов ничем не стал помогать одинокой армии. Соседние армии, кроме разве Девятой, стояли на месте. Липкий снег мокропогодицы, грязь, полное бездорожье довершили пораженческий исход.
К концу 1915 года план Шлиффена — план короткой войны — провалился: будто самый точный скорый сошёл с рельсов. Антанта противопоставила немецкому иной план — медленного изымания германской энергии. На первый взгляд, успехи Германии велики: на Восточном фронте русская армия оставила Галицию, Польшу и часть Литвы, Болгария присоединилась к германскому блоку, создан единый союзный пояс от Ламанша до Дарданелл и далее, почти сломлена Сербия, в России появилось недовольство неудачами в войне, продовольственными затруднениями, неспособностью справиться со снабжением окопов. (О интенданты! Снесарев об это ведомство «ранился» не раз, знал, что это была напасть целых армий и целых стран.) С другой стороны, перед Германией грозно маячили горизонты затяжной войны, так называемое мировое общественное мнение осудило подводную войну, постепенно спадал губительный наплыв немецких подлодок, американцы настраивались помогать Антанте, а союзники Германии всё больше превращались в непосильные для неё вериги.
И снова исторически (или историками) отвергаемое «если бы…». Если бы не русский фронт, немцы бы одни, без союзников, с методической выверенностью разделались с Францией. Но в 1915 году Восточный, то есть русский, фронт был главным полем битвы Первой мировой войны. Русские, отступая, изматывая себя и наступавшие германские корпуса, давали Франции передохнуть, изготовиться к победным сражениям.
В конце декабря 1915 года Снесарева извещают о производстве его в генералы…
ЛУЦК, ПАМЯТНИК ВСЕМ ПОГИБШИМ.
1916
В Луцке есть (метафизически всегда будет — даже порушенный) памятник-мавзолей над могилой павших австрийцев; в могилу захоронены и воины враждебной стороны. Надпись на памятнике: «Справедливый спутник! Под этими холмами спят достойные восхищения храбрецы, которые в великих боях за Отечество и Императора жизни свои положили. Здесь также покоятся и их враги, присоединённые с уважением. Мир вам, благочестивые души!»
Каких редакций нет, но суть единая: примирение, предсмертное или посмертное прощение в потустороннем мире тех, кто в земной жизни по своей или чужой воле были врагами. Поздней осенью 1916 года в дневнике Снесарева отмечено, что офицер для поручений Михаил Буд-ков прислал письмо с латинской выпиской на чёрной мраморной доске Луцкого мавзолея: «Siste viator! Hi tumuli tegunt illos fortes admirantos, qui vitam in magna bella pro patria et Jmperatore dillecta posuerant. Hie etiam hostes guondam cum caritate conjuncti reguiescant. Avete piae animael» («Путник, остановись! Здесь погребены те люди удивительной силы, которые отдали жизнь в великой войне за родину и дорогого императора. Здесь также покоятся враги, некогда к ним с почтением присоединённые. Поклонись их верным долгу душам!»)
Не раз упоминал о памятнике, воздвигнутом австрийцами в Луцке над братской могилой, и славный генерал Ханжин, передавая латинскую надпись так: «Путник, остановись! Здесь погребены те, что пали за Родину и монарха… здесь же с ними погребены и враги, к общей могиле присоединённые без злобы». Это «присоединённые без злобы» Снесареву, как он сам говорил, очень пришлось по душе: «Это дивно хорошо… присоединённые без злобы!»
А как уже не за горами революция в северной столице отделит на Марсовом поле жертвы нового порядка от жертв старого порядка? С брезгливостью жестокосердной атаманши. «Слишком много страсти, много мстительности обнаружили страницы революции, что лишает и её, и возвещённые ею свободы спокойствия и благородства, — убеждённо, справедливо выскажется Снесарев. — Или это нервность, или боязнь, или отсутствие кругозора? На Марсовом поле тщательно отделяют жертвы — защитников Нового порядка от защитников Старого. А последние не более, как люди, верные тому, чему принесли присягу и во что веровали…»
1
В 1916 году германское Верховное главнокомандование решило главный удар обрушить на Верден, мощную и основную препятственную крепость на пути германских дивизий к близкой французской столице. Сражение началось 21 февраля. После массированной многочасовой артподготовки немцы пошли в наступление. Невиданные по ожесточённости бои продолжались до сентября, но французская оборона — как ни трещала — выстояла. Французам удалось удержать фронт ещё и благодаря весенним, крайне тяжёлым для русских операциям меж озёрами Нарочь и Вишневское, как справедливо о том сказал выдающийся военный мыслитель Керсновский: «Выручая Верден в марте 1916 года, мы положили у неразбитой немецкой проволоки у Нарочи двести тысяч русских офицеров и солдат, надорвали свои силы на весь остаток кампании и не получили от союзников даже простой благодарности…»; разумеется, на исходе битвы под Вердном отразилось также противоборство русских и австро-венгров в Карпатах и Прикарпатье, куда немцы снова были вынуждены направлять свои полки, столь необходимые под Верденом.
2
На Восточном фронте наступательные операции в 1916 году немцами не предполагались. Стратегическая оборона виделась здесь более предпочтительной. Понятно, что у Германии главным противником была Франция: немцам надо было удержать, сохранить за собою Эльзас и усмирить, если не похоронить реваншистские французские настроения. А снова затевать фронтальное в тысячекилометровой растяжке наступление против русских у немцев не было ни расчёта, ни порыва. Восточный фронт не сулил ничего скороуспешного. Не надломленной поражениями на втором году войны оставалась боеспособность русских, и, как и во все времена у враждебных России полководцев, у германского главнокомандования рождалось нечто вроде иррационального ужаса перед безграничными людскими, материальными возможностями русских и русскими пространствами, где русско-европейские степи, леса, болота и возвышенности, разметнувшись на тысячи вёрст, уходят в Сибирь, в Азию, аж до Тихого океана.
В марте 1916 года командующим Юго-западным фронтом был назначен Брусилов. Он учёл уроки предыдущих кампаний, посчитал возможным отказаться от классических способов прорыва неприятельской обороны и предложил рискованный план: атаковать не на узком участке, а по всей — на сотни вёрст — фронтовой полосе. Для прорыва необходимо было сосредоточить крупные силы, что не укрылось бы от воздушной разведки, и противник, без труда обнаружив, куда именно нацелен главный удар, принял бы срочные противомеры. И Брусилов распорядился земляные работы и подготовку к прорыву начать в каждой армии, в каждом корпусе на выбранных ими участках, так что австрийцам оставалось гадать, куда именно вонзится наступательный клин русских.
Без поддержки соседних фронтов «брусиловское» наступление, разумеется, не могло решить ни исхода войны, ни даже исхода противостояния на тысячевёрстной полосе. Однако командующие сопредельными фронтами Куропаткин, Эверт и бывшие у них в подчинении во время Русско-японской войны начштаба Ставки Алексеев и сменённый Брусиловым, но всё ещё влиятельный недавний командующий Юго-западным фронтом Иванов по существу-то не поддержали Брусилова и, словно напуганно помнящие дальневосточный синдром и удерживаемые им, использовали совокупность задержек, проволочек, опозданий, перерешений, бездеятельных многотерпений.
Раздастся приказ, и атакующие войска всех четырёх «брусиловских» армий двинутся на широком участке — тоже что-то вроде фронтовой новинки-уловки на тот час: каждая армия имеет свой сектор прорыва. Основная задача возлагалась на две армии. Восьмая (генерал Каледин) устремится на Луцк. Девятая (генерал Лечицкий) прикроет левый фланг операции, своими возможными успехами косвенно воздействуя на Румынию: та всё не могла выбрать, куда ей пристать: к Антанте или к Серединным державам. В этой весьма динамичной армии и выпало около года воевать Снесареву — сначала начальником штаба 12-й пехотной дивизии, затем командиром 64-й пехотной дивизии. Между ударными армиями находились Седьмая армия (генерал Щербачёв) и Одиннадцатая армия (генерал Сахаров), должные решать вспомогательные задачи.
А покамест идёт подготовка к Луцкому прорыву, ещё и не известно, именно ли он станет главным…
3
И весь шестнадцатый год, как и предыдущие, так и последующие годы войны, Андрей Евгеньевич во фронтовом потоке живёт настроением неизбывной думы о жене и детях. Он в свободный час прогуливается по горному лесу, а ему вспоминается далёкий странный луг в Риме около собора Св. Павла. И он испытывает сильнейшее желание снова побывать с женой в Вечном городе, который «царит один — властный и вечный — в тайниках потрясённой души».
Несколькими днями спустя он полушутливо, а может, и не без гордости оценивает художественно-авангардистские упражнения дочери, мол, её «девочка со скакалкой» и особенно «чёрт» — вещи серьёзные, и «пора посылать их футуристам (или кубистам, или как их там) … им они пригодятся для будущей выставки…»
Снесарев, росший в окружении сестёр, прекрасно понимал, сколь непростая задача — воспитывать единственную дочь в окружении братьев: не избаловать её и не огрубить; он постоянно думает о ней, и письма разных лет доносят следы этих дум. Он хотел бы оградить её от чёрных сторон жизни, но она, исполненная великого по беззаветности чувства к отцу, поедет к нему в Северные лагеря, сверх меры насмотрится этих чёрных сторон, а вместе с тем на всю жизнь останется душой светлой, лучисто-светлой.
И снова, и снова — думы о семье, строки о семье, бесплодные попытки выяснения отношений с женой, грустно-никчемных разбирательств-зановоповторений, давних и недавних, дневных и ночных размолвок, обид, подобий ссор, каких и в помине не должно бы быть. Но, как говорится, бес — в мелочах.
Ещё раньше он в одном из писем поверял жене распространённое на войне убеждение, что «самые капризные мужья возвращаются с войны кроткими и терпеливыми, настолько война углубляет их психику и делает в их глазах мелким и пустым всё то, что ранее волновало их, вызывая с их стороны досаду и капризы…» Но не у всех так и не всегда так. Всё намного грустней, неожиданней, непредвиденней.
27 февраля 1916 года покаянно пишет: «Дорогая моя грустная жёнушка!.. Есть, значит, причины, которые сильнее нас с тобою. Люди мы с тобой не плохие, жизнь понимаем серьёзно и стараемся жить разумно, друг друга любим… Что же ещё? Вероятно, это не всё. Ты, имея большую душу, полная высоких и глубоких задач, всё же не умеешь вовремя сдержать своих нервов или налёта гнева, а я, при всей своей опытности и наблюдательности, не способен заблаговременно предусмотреть и предупредить твою вспышку. А в результате, случайный факт — и мы с тобой накануне расставанья мучаемся целую ночь, как будто нам ещё быть вместе целые месяцы и как будто на другой день я не уезжаю… да ещё куда? На поле крови! Действительно, нашли время капризничать и препираться! Это так странно, так непонятно, как будто мы с тобою пара врагов, которым мешают поссориться, и они ловят для этого первую возможность: ночной покров… Я более склонен винить себя, и, между прочим, мне приходила и такая мысль: может быть, если бы я не был почти вдвое тебя старше, твоя и психика, и физика пошли бы иным путём, более ровным и нормальным, нервы твои так не растрепались бы… Словом, думал я много и на разные лады, но менее всего на ту тему, что я стану менее любить свою жену, а тем более перестану уважать её. Ну да оставим это…» (Но не оставляется. Разгадка большой любви — малой ссоры не разгадывается, письмами её тоже не разгадать, не поправить, но от писем, как от чего-то реально и созидательно исполняемого, уходить не хочется, и он не уходит. Обоих их спросить, что же произошло в февральскую последнюю тогда вместе ночь 1916 года, когда Снесарев на считаный срок сумел навестить семью в Петрограде? Из-за чего? Да никто бы из них толком не разъяснил, откуда полыхнул огонь размолвки.)
«Может быть, во всём виновата моя гордость, — принимает муж вину на себя в письме жене от 16 марта 1916 года, — я хочу, чтобы выбранная мною женщина была совершенство и в духовном, и в физическом смысле, и когда случается что-либо, посягающее на такой вывод, я чувствую себя задетым… Ну да теперь всё это пустяки, так как на последней странице твоего письма стоят слова “безгранично тебя любящая”, и вся наша философия, все наши споры летят вдребезги, как царства мрака и теней от золотого луча Солнца».
А через несколько дней ставит точку, после которой диалоги, споры, обиды в этом круге представляются исчерпанными, разрывающими круг: «…Я у тебя, золотая моя жёнушка, забыл попросить прощение, но это неспроста: как я ни грешен пред тобою всякими согрешениями, ты меня всё равно простишь… Батюшке на все вопросы отвечал “грешен”, а когда спросил, не грешу ли перед женою, отвечал “нет”… Батюшка только и мог ответить: “Конечно, конечно”».
4
С февраля по сентябрь 1916 года Снесарев — начальник штаба 12-й пехотной дивизии в Девятой армии; в мае — июле (Луцкий прорыв) руководил полками бригады; за бои 28 мая и 12 июня награждён орденами Святого Станислава первой степени, Святой Анны первой степени с мечами. Штаб дивизии для него дело более чем известное, немало, правда, значило — что за дивизия и кто её командир? Дивизия — из обстрелянных, боевых, командиром дивизии — генерал-майор М.В. Ханжин, артиллерист. Брусилов пишет в «Воспоминаниях: «…Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который топтался на месте, но вперёд не шёл, и, ободрив его несколькими прочувствованными словами, он сам стал перед полком и пошёл вперёд. Полк двинулся за ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение… Такие личные примеры имеют ещё то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются, и такому начальнику солдат привыкает верить и любит его всем сердцем».
Дивизионные будни, неизменные думы о семье. Дальнейшие его строки, как и предыдущие, хотя и пронизаны чувствами семейственности, но не только: они обо всём, чем всколыхивалась фронтовая и тыловая жизнь, они органично вмещают всю полноту фронтовой жизни, передовой, окопа, и раздумья о минувшем, и текущие тревоги, и краткие рассказы, и свои мысли о старых заброшенных усадьбах и парках, о Пушкине, Толстом, Достоевском, о больших и малых военных чинах, горестные раздумья о сестрах милосердия, о столичных съездах, столь хвалимых, скажем, Брусиловым, но истинное, малосоответствующее декларируемому статусу значение которых Снесарев понимал гораздо глубже; записи о встречах с фронтовыми друзьями ещё по молодости, и как многих их уже недостаёт, коль война — будь она победа или поражение — всегда гибель; причём распространенное убеждение — гибель лучших.
Сокрушается о прерванных судьбах боевых товарищей по Академии Генштаба, своего академического выпуска, погибших (скорбно-примечательный штрих), будучи командирами полков, то есть наиболее близкими к окопам, видит их облик и подвиг прекрасным, крестным, называет их фамилии: Вицнуда, Сегеркранц, Жуков, Орлов; через несколько дней мартиролог расширяет: Тетруев, Березин, Румянцев, Карпов… Вынужден признать: «жатва обильная…»
А ещё и вовсе не академические, а фронтовыми буднями, атаками, тяготами передовых позиций породнённые друзья: Панаев, Голубинский, Зимин, Лопухин, Мельников, Чунихин… Они уже покоятся под могильными крестами. Другим хрупко-временного деревянного креста ждать недолго.
«Эту сторону войны мы все забыли. Проза её и великие текущие нужды, эмалевые кресты так берут всех нас, что о могилах и крестах деревянных нам некогда подумать, как следует… Их так много кругом, они так обыденны, что внимание утомляется, а рука устаёт креститься. А между тем под ними-то и лежат герои, хотя часто другие носят заслуженные теми кресты…»
Снесарев сетует, что человек организован, в сущности, не тонко: малочувствующим, бессильным видеть даль. Ему, с уместными почестями похоронившему подчинённых на карпатских лесных холмах, хотелось бы видеть, что происходит в семьях осиротелых, чем и как они живут в глубине России — в родной донской стороне, да и на Печоре и Северной Двине, да и за Волгой, за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, наконец. Но не дано человеку хотя бы внешне проницать даль: ни ему, воюющему, видеть далёкие мирные избы, над которыми, быть может, кружат птицы гибели близких, ни живущим в тех избах видеть тихие родные могилы, словно ждущие скорого забвенья травой за отсутствием родного пригляда. (Бог весть, встречаются ли убитые там, но живые, слава Богу, встречаются здесь, подчас и не думая о встрече, не надеясь за давностью лет и бытовой ненадёжностью времени.)
«Позавчера был у Марка Семеновича, — письмо от 21 февраля 1916 года, — (я тебе писал: мой друг по Нижне-Чирской прогимназии, с которым мы не виделись 33 года), обедал и разговаривали без конца. Интересно было выслушать из его уст, каким я тогда был, как выглядел и чем занимался. Был я, по его словам, высоким и тонким “отроком”, с тонким девичьим голосом, страшно конфузливый и застенчивый; красоты был исключительной: имел мечтательные серо-голубые глаза, матово-бледное лицо и густую шапку волос, всегда поэтически небрежную. В попойках их никогда не принимал участия, больше был одинок и много читал. Все они (полстаницы молодежи) были влюблены в одну девочку (Елена Хопёрская), но любила она меня, и любила страшно и верно… как только могут любить в 14 лет: до гроба. Я провёл у него 2 часа, и всё далекое прошлое встало живым пред моими глазами… Многих товарищей уже нет, что и естественно, многие погибли от пьянства, что менее естественно и печально…» (В дневнике последняя фраза добавляется жалеющим, минорным, меланхолическим — «лишь немногие достигли высот».) В начале марта его вызывают в штаб корпуса, он там находит много знакомцев, о многом и долго беседует с корпусным: «Каледин… у нас много общего… Теперешний корпус не похож на 7-й: тот — немецкий, а этот не только русский, но и казачий: Каледин, Ханжин, я, Рыбальченко — командир нашей бригады, Корольков — командир одного полка, — все казаки. Немецких фамилий нет и в помине».
И это говорит Снесарев, видевший в немцах органических союзников, и вот она, реальность меняющихся русел, жизнь, всех и вся меняющая!
Граф Келлер — он что, русский-русский? В нём разве нет немецкого: крови, чувства чести, тяги к порядку? Между тем именно его в один из мартовских дней навещает Снесарев, они беседуют долго и обо всём, днём позже ему граф шлёт свои размышления-выводы о декабрьской провальной операции, и — замечает Снесарев — «в них много правды». (Генерал-лейтенант Келлер, «первая шашка России», человек чести и мужества, поздней осенью 1918 года благословлённый в Киево-Печерской лавре митрополитом Антонием (Храповицким) на выступление против большевиков, надеявшийся вскоре «поднять Императорский Штандарт над Священным Кремлём», но перед отъездом из Киева убитый петлюровцами на Софийской площади. Фёдор Артурович не оставил ни военных трудов, ни мемуаров, храбро воевал и погиб от тёмных сил, как погибли тысячи, десятки тысяч русских офицеров-монархистов.)
Весенний день, а на сердце безотрадно, чтоб не сказать уныло, и мысли совсем невесёлые: «Грустно подумать, что минет война, из углов вылезут тараканы, и бедные боевые пчёлы будут задушены массой, отодвинуты на задний план, и их труды, их военные работы будут обесценены и заменены глубоко мирными расценками».
В начале апреля стало известно, что Каледин назначен командующим Восьмой армией, а командиром корпуса будет Кознаков, бывший начальник 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.
В начале апреля Снесарев (его дивизия находилась в резерве, на отдыхе) на несколько суток обрёл кров в брошенном, запущенном поместье в пятнадцати верстах южнее Хотина. В поместье было много книг и многолетних выпусков «Современника» и «Русской мысли». Как только вошёл в гостиную, он сразу обратил внимание на фамильную библиотеку в трёх высоких шкафах. Но к книгам даже не стал притрагиваться, чтоб не расстраиваться от невозможности их прочитать. Решил проглядеть стопки журналов. Открыл первый глянувшийся «Современник», был он 1856 года, открыл первую страницу. Стихи Пушкина. Они заканчивались так:
- Мне милый лик блеснет во сне,
- И вновь я к жизни пламенею.
Он их прочитал вслух, несколько раз повторил их.
Тем же месяцем шлёт домой фотографии, среди них и снимки с выпестованным конём Ужком. Не то констатирует, не то жалуется, что приходится позировать фотографам-съёмщикам, которые, только появись на прогулке, тут как тут: «Ваше превосходительство, нельзя ли там сесть (лечь, стать, повернуться боком…)»; но Снесарев и сам никогда не чурался объектива, всегда был не прочь сфотографироваться и сфотографировать всё, что его окружало, да и его идея — фотолетопись полка.
«У нас стоит роскошная погода (как исключение, сегодня немного дождит)… — пишет в конце апреля. — За это время мы ожили, отдохнули, ребята подзагорели и раздались, поздороваешься — орут барабаном, о землю ступят — гул идёт… Божественные люди! До земли клонишься перед великим стратегом земли Русской — русской бабой, которая народила этого народу в таком обилии, что ему нет конца и краю».
«Нет конца и краю…»? Снесарев, как и ранее Менделеев, как и другие судьбой Отечества озабоченные современники, быть может, надеялся, что большой прирост народа в конце девятнадцатого века будет продолжаться и далее — при естественно-эволюционном развитии России. Но… Несколько раз по-страшному пустят ей кровь, и к концу двадцатого века вместо предполагавшихся четырёхсот миллионов русских останутся не столь великие десятки миллионов волеослабленных, духовно пригнетённых, корнеизраненных, лишающихся почвы и неба, обворованных соотечественников.
До Снесарева доходят вести о союзах и съездах, о бесконечной их «корпоративной болтовне», и он недоумённо размышляет-вопрошает: «Конечно, наша просвещённая интеллигенция в поте лица своего хлопочет за эти союзы, провидя в их организации будущую свободную, демократическую Россию… Право, наблюдая такие вещи, на минуту можно подумать, что нет глупее твари, как русский интеллигент, бестолково кричащий о свободах… Кому и чему он служит своим криком?»
«Стоят дни пригожие, но настроение неважное… — жалуется жене в письме от 5 мая, — долгое стояние в резерве человека балует и настраивает на тыловой лад: чем ближе к окопам, тем всё яснее, цельнее, совесть спокойнее. А здесь начинаешь думать, что зря получаешь деньги. Я понимаю тех израненных офицеров, которые на 2–3-й месяц лечения начинают стесняться выходить на улицу; их, как они говорят, стыдит каждая пара детских глаз, таящая в себе суровый вопрос: “Что ты тут, дядя, делаешь среди нас, маленьких, почему не воюешь?”
От Михаила Васильевича получил письмо в очень печальном тоне: очевидно, как человек простой и привыкающий, он чувствует себя там одиноким и печальным. Но, увы, всё на войне горит много быстрее, чем в минуты мира, и я с грустью замечаю, как быстро исчезает и летит в реку забвения его добрая память…»
Печальное письмо Михаила Васильевича Ханжина — словно предчувствие его ломаного будущего. Он проявит себя толковым генералом и военным министром у Колчака, да только самого Колчака скоро расстреляют большевики, и Ханжину придётся спешно перебраться в Китай, мытарствовать там, но и быть председателем попечительского совета по охране русских военных кладбищ. В 1945 году советские военные власти его арестуют, приговорят к заключению и только через десять лет освободят из лагеря, но проживёт он после того недолго.
5
Снесарев и по глубине чувства, и по православному семейному воспитанию не мог не думать снова и снова о сестрах, столь далёких от него вёрстами, но бесконечно близких. Его мучают думы о сестрах, что-то не так сложилось у них, как обещалось природой, давшей им и добрый нрав, и красоту, и россыпь дарований. Многое — не так.
Его любимая сестрица Кая, поверенная его молодых честолюбивых упований, хранительница его тайн и писем, чуткая и неизменно внимательная, совсем недавно огорчила именно нечуткостью и невниманием. Так, пустяк. Заехавший к ней его писарь возвратился из Москвы с тремя коробками сластей, но без письма, даже малой записки, с устным от неё наказом кланяться. Брат был то ли раздосадован, то ли огорчён, хотя и понимал, что всё это выеденного яйца не стоит. Понимал и более драматичное: не будет уже никогда тех сокровенных, многочисленных, спешивших к нему в Туркестан писем, все сестрины письма для него закончились, как памирские туманы.
У сестры — своё. Он уже столько повидал разорённых войной семей, но живых надеждой — детьми, пусть временно и голодными, лишёнными детского счастья. У Клавдии такой надежды не было. «А судьба много положила и в её колыбель, и на путь-дорогу её жизни: дала богатую и талантливую натуру, широкую почву для восприятий, дала хорошего и крепко любящего мужа, дала богатство… но каким-то косым случайным ударом она не дала ей материнства и… обездолила, опечалила всё…»
Судьбы сестёр, как судьбы полевых цветков, от которых отвернулась благосклонная природа, обрушила на них непогоды и заморозки, и брат всё это видит и ничем не может помочь им, словно в необходимый миг помощи теряющий и ноги, и руки, и язык.
(В Свирских лагерях, в Кеми и на Соловках, в отрыве от семьи, раздумья Снесарева о драме рода особенно обострятся. Гибель Тростянского, Вилковых, сёстры-неудачливицы, бездетность Каи и болезнь Веры, молчание брата Павла, ранняя смерть сыновей Кирилла, Евгения, и уже за пределами его жизни — гибель под Москвой в начале войны ушедшего добровольцем его младшего сына Александра. Что ж, семейные трагедии — на всех материках, у всех сословий, у сильных и слабых, богатых и сирых. Только, скажем, о драме предпоследнего австрийского монарха, императора Франца Иосифа, потерявшего всех родных от брата и жены до сына, о ней знают, а о каком-то безвестном крестьянине, всех и вся потерявшего, — кто и что знает о нём?)
6
Думал он и о других сестрах: не родных по крови, но родных по жертвенному чувству. Скорее для него даже не сестёр, а дочерей, как он воспринимал их, отгоняя от себя естественные влечения мужчины. Найдётся ли в скорогрядущей литературе, думал он, слово о юных подвижницах с прекрасными глазами и чуткими руками, беззаветных сестрах милосердия, разумеется, разных: и до конца несущих свой крест милостный, и подчас не выдерживающих — уходящих или утопающих в случайных ласках?
Как они рвутся на фронт, в ближние от огня госпитали, вот и его племянница Леля Вилкова тоже. В письме от 8 июня 1916 года Снесарев посчитал необходимым высказаться об этом так, как оно есть: «Если присмотреться ближе к миру сестёр милосердия, то радости мало. Работа — высокая, большая и трудная — всего не заполняет, а вне этой работы стоит та же не разрешённая Лелей жизнь, которая подстережёт её и здесь, и подстережёт ядовитее.
Здесь атмосфера нервнее, смерть витает над всем, кладя на людские дела печать и большой азартности, и большой часто беспринципности. Человек, который завтра умрёт, сегодня спешит жить, пьёт соки жизни, увлекая в это опьянение и других… Жалко, что свою мысль мне нельзя иллюстрировать примерами, а они типичны. Вспомни, жёнушка, “Пир во время чумы” или “Декамерон” Боккаччио… Жизнь на вулкане создаёт свою канву, которая полна каприза, прыжков и крайностей. В этой ли канве Леля отыщет себе ответ на запросы и найдёт пристанище? Да ещё с её нервами и больными притязаниями… Немало сестёр, раньше никогда не куривших, девушек высокого происхождения, начинают на войне курить и курят запоем. И когда говоришь с ними, отвечают, что иначе не могут… Какой же должен быть кругом кавардак и нервоз, если девушка начинает питаться никотином и питается им запоем… Пусть об этом подумают невропатологи или психиатры, но мне эта картина в связи с другими говорит многое, и взбудораженный, больной и неудовлетворённый мир сестры милосердия мне больше всего виден сквозь эту частую и густую пелену табачного дыма…»
Через месяц в письме жене от 17 июля 1916 года снова невесело рассуждает о возможном будущем своей племянницы как сестры милосердия: «…Ты пишешь, что Леля поехала в Борисоглебск, а оттуда, если удастся, проберётся на фронт. Ещё больше, чем прежде, я настроен против подобных экспериментов для девушки. Что делать, война имеет свою изнанку, и таковая бьёт жестоко по линии наименьшего сопротивления… а что может быть слабее девушки, попавшей на кровавое поле народного состязания…»
Позже добавит: «…постоянная масса офицеров — артиллеристы, лётчики, пехотинцы, — которую я там видел, упрощённая обстановка, перемешивание с мужчинами, ругающаяся, выполняющая обязанности перед природой солдатчина, раскрытые больные, из которых некоторым надо вставлять катетер… как это всё должно действовать и на стыдливость, и на нервы, и на половую сторону, и на взгляды. Кого такая обстановка не дожмёт донизу?»
Снесарев воспитывал в подчинённых братское и пресекал подчас скотское отношение к сестрам милосердия. Всегда старался отвечать на их частые письма. Обедал с ними. Читал им стихи: пушкинские, лермонтовские, тютчевские. А ещё — эти беседы, полные узнавания ими нового, поездки в полки или на богослужение, где для них много нового и интересного, речи, посвящения-экспромты высокой чести офицеров. В каждой из них он видит избранницу или родную сестру незнакомого своего соратника, будущую мать, и для него не имеет значения, кто она: девушка из простой семьи или родственница высшего армейского чина, графская или княжеская дочь. Он и подшучивает над последними: «всё это французит, англизирует» — речь о сестрах из высоких сфер (жёны и дочери директора департамента, губернатора и вице-губернатора, командующего одной из армий и т.п.), составивших «фешенебельный» отрад, опекаемый Красным Крестом и Московским железнодорожным узлом; сестрам этого отрада не понравилась назначенная им дивизия, и они запросились к Снесареву, в подчинённых которого на всём пространстве исхолмленных Карпат они видели воинов наиболее воспитанных, благородно-рыцарственных, во всяком случае, не могущих обидеть.
7
Лето 1916 года. Луцкий прорыв, вскоре фронтовая и народная молва назовёт его Брусиловским, хотя не меньше оснований было назвать его Калединским. Луцк не столь давно уже был взят с ходу Железной дивизией Деникина. Его пришлось оставить и теперь снова брать, уже как город на стратегическом направлении. 23 мая Восьмая армия Каледина прорвала первую оборону противника и 25 мая вошла в Луцк, Седьмая армия ворвалась в Язловец. Войска Девятой армии в первый же день заняли всю передовую полосу противника и быстро продвигались на запад. Восьмая армия, которой Брусилов отводил главную роль, должна была двигаться к Ковелю, крупному железнодорожному узлу. Наступление в значительной степени зависело от своевременной помощи Западного фронта, которым командовал Эверт; последний же запаздывал, действовал несогласованно. Немцев особенно тревожила угроза потерять Ковель, и туда были незамедлительно направлены войска из-под Вердена и с итальянского фронта. Наступательная операция Юго-западного фронта летом 1916 года (несмотря на незавершённость: Ковель взять не удалось) прежде всего облегчила положение западных союзников, косвенно спасла Италию от разгрома её германцами и понудила Румынию встать на сторону Антанты.
Прорыв готовился тщательно. План прорыва разрабатывался и на карте и на местности.
Наступательные залпы раздались на заре 22 мая. В полдень, после шестичасовой артподготовки, одновременно поднялись в атаку четыре полка. За австро-венграми была создана ливневая завеса заградительного огня. Русские ударные полки шли вперёд безостановочно, часто врываясь в первую линию австрийских окопов, часто идя поверху, перескакивая или набрасывая на них заранее заготовленные мостки. На поддержку спешили бойцы второго эшелона. Мадьяры начали сдаваться в плен. Целыми толпами бежали они на восток, обстреливаемые собственной артиллерией…
Успех Девятой армии был очевиден: захвачены сотни офицеров, восемнадцать тысяч солдат. Австрийский генерал Пфлянцер-Балтин, командующий Седьмой венгерской армией, сообщал главному командованию: «Группа Бенигни не способна оказывать какое-либо сопротивление неприятельскому наступлению до тех пор, пока ей не будет представлен какой-то отдых».
Девятой армии Лечицкого, нацеленной на Станиславов, Коломыю, надлежало срочно форсировать Прут на участке румынской границы и отбросить австрийцев за реку Сирет…
12-я пехотная дивизия вышла к Пруту, по той стороне которого стояли австрийцы. Река шириной за полусотню метров. Южный, австрийцами занятый берег, против которого находился левый фланг дивизии русских, тянется грядой вершин высотой до двухсот метров, с крутыми склонами к реке. Вершины командуют над всей местностью. На фронте дивизии было три глубоких брода. Дивизия час за часом, раз за разом «обучалась», как быстро и не теряя солдат форсировать реку. Действительно перебралась на другой берег Прута успешно — вброд и по быстро наведённому понтонному мосту.
Снесарев в дневнике записывает, что 28 мая был славный бой и что ему вверены два полка, называет географические точки: Чёрный Поток, Похорлоуц, Юркоуц, Валява. Весь день идёт дождь. В Валяве приходится заночевать. Его пленяет достоинство радушного гостеприимства хозяйки — дородной, красивой, немолодой женщины с белыми волосами. Рассказывает о том, как она успокаивала пленного австрийца: «Чего горюешь… русские придут, они хорошие люди…»
И Снесарев восклицает: «Россия показала себя в блестящем нравственном свете!..» Как ему до прожильной боли хочется, чтобы слова женщины с белыми волосами звучали как можно чаще из сотен, тысяч, миллионов уст и чтобы действиями русских оправдывались эти слова; он прекрасно понимает, что его эмоциональный восклик о нравственном свете России на войне при строгом практическом взгляде утемнён тьмами тёмных пятен, подобно тому как сильный и внешне приглядный корабль по днищу облеплен вязкими гирляндами ракушек.
И тьма не заставляет ждать. Через несколько недель он запишет в дневнике: «Коломыя. Вчера ночью приехал сюда на автомобиле… Город милый, весь в зелени… Хотя был специальный приказ не грабить, много разграблено. С дикой жадностью ищется спиртное, и люди напиваются до одури… Сегодня был случай смертельного ранения одного интеллигентного русского, который вздумал остановить грабёж в соседнем доме. Убийцы… оба пьяные, выстрелили из винтовки в живот. Осталась жена и 7 детей…
Офицерство если и не грабит, то жадно раскупает вина, не заботясь о плате. Один аптекарь в несколько минут продал на 2 тысячи…»
С надеждой отмечает, что вне этой кровавой беды и суеты пребывают разве дети, воспринимающие музыку враждебных полков как праздник, хранимые то ли своими ангелами, то ли природными инстинктами; их ещё не обременённый детский ум не хочет видеть зло; только став взрослыми, они вспомнят разрушительные картины мировой драмы.
Через десяток дней — уже из Герасимува: «Изнанка войны: разграбленное всюду добро, поломанные и оборванные сады и нестерпимый всюду вас преследующий запах “сидевшего” солдата. Он ужасен, он портит вам всё, душит собою даже страшные, трупные картины войны. От него некуда деться, так как самые уединённые, часто красивые и прохладные места и являются убежищем опоражнивающегося…»
6 июня полки Снесарева помогают корпусу графа Келлера форсировать реку Сирет.
Эрих фон Фалькенгайн в уже названной книге «Верховное командование 1914–1916 в его важнейших решениях» не без разочарования и досады констатирует, что австро-венгерские войска отхлынули назад перед натиском русских армий, и стало ясно, что без немецкой поддержки им грозит разгром. В Галицию в который раз перебрасываются германские полки и дивизии.
А задачи, возложенные на Девятую армию, были выполнены более чем убедительно. По директиве Брусилова ей предстояла вспомогательная роль: отвлечь внимание противника от ковельского направления, то есть главного удара, который был возложен на Восьмую армию. Тем не менее ей удалось так потрясти войска Пфлянцер-Балтина, что они были вынуждены оставить всю Буковину и часть Южной Галиции. Успехи Девятой армии подвигли Румынию выступить на стороне Антанты. Девятая армия Лечицкого опережала все армии Юго-западного фронта, в успехе всей Брусиловской операции её большая заслуга.
Ханжин, тогда начальник 12-й дивизии, в боевой аттестации-характеристике на Снесарева от 17 апреля 1916 года, ещё до летних сражений, отмечал, что тот «обладает широким образованием — общим и военным; владеет французским и немецким языками; военное дело понимает, обладает большим и разносторонним боевым опытом, как прошедший боевую страду командира пехотного полка и бригады и начальника штаба кавалерийской и пехотной дивизий. К службе относится с редкой добросовестностью. Храбр и мужественен; во всякой обстановке сохраняет самообладание и полное спокойствие; всегда бодр; на подчинённых производит самое лучшее влияние, вызывая и поддерживая в них бодрое, спокойное и уверенное настроение, относится к ним мягко, сердечно, внимательно и заботливо. Здоровья прочного… достоин выдвижения на должность начальника дивизии и на должности по Генеральному штабу — начальника штаба корпуса и генерал-квартирмейстера армии — “вне очереди”».
К концу июля Юго-западный фронт снова перешёл в наступление. При переменном успехе в Карпатах и перед фронтом Девятой армии отход противника потерял всякий строй и лад. Продвижение русских на Карпатах заставило немцев перебрасывать туда свои войска. А на правом фланге фронта из-за ненастной погоды и неготовности приданной ему гвардии наступление пришлось отложить, но, раз начавшись, оно потерпело неудачу. Тяжёлых орудий, аэропланов да и солдат у атакующих было меньше. И в конце июля 1916 года Брусилов приказал правофланговым армиям фронта перейти к обороне. Ковельская операция была передана Западному фронту. Брусиловский (Луцкий) успех справедливее было бы назвать полууспехом-полунеуспехом.
Тем временем Девятая армия заняла Надворную и Станиславов. Армия на растяжке в двести вёрст действовала в трёх направлениях против превосходящих австро-германских войск и при подавляющем огне их тяжёлой артиллерии. Да и погода не благоприятствовала: шли дожди, грунт размок; горная артиллерия отставала. И всё же армия Лечицкого неуклонно двигалась вперёд, под пулями поднимаясь на две-три горные вершины ежедневно.
В конце июля с Западного фронта в Девятую армию, в восемнадцатый корпус, была переведена 64-я пехотная дивизия, что немало значило для будущей фронтовой судьбы нашего героя.
А в августе 1916 года Румыния подписала с Россией конвенцию о военном выступлении, хотя два года было непонятно, к какой стороне примкнёт. За четыре месяца боёв на стороне Антанты румынская армия, вообще не отличавшаяся стойкостью, оказалась разгромленной до последнего полка, поверженной под корень, и почти вся страна была занята немцами. И пришлось России перебрасывать свои дивизии на помощь румынам и для защиты собственной южной границы: вступление Румынии в войну ухудшило положение России стратегически.
Брусилов в «Воспоминаниях» дал такую оценку военной деятельности в лето 1916 года наступавшего под его командованием Юго-западного фронта:
«1. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания… Он выполнил данную ему задачу спасти Италию от разгрома и выхода её из войны и, кроме того, облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на этот год.
2. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт удара так и не нанёс, а Северный фронт имел своим девизом знакомое нам с японской войны “терпение, терпение, терпение”. Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооружённой силой и не только не управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником.
3. По тем средствам, которые имелись у Юго-западного фронта, он сделал всё, что мог, и большего выполнить был не в состоянии — я, по крайней мере, не мог. Если бы вместо меня был военный гений Юлия Цезаря или Наполеона, то, может быть, он сумел бы выполнить что-либо грандиозное, но таких претензий у меня не было и быть не могло…»
Ещё командующий фронтом оспаривает утверждения своих недругов, порицающих его за отказ от главного — одного-единственного — прорыва, а наступавшего несколькими ударными группами.
Брусилов свои мысли подкрепляет весомым авторитетом с враждебной стороны — начальником германского Генерального штаба Людендорфом, строками из его невесёлых воспоминаний: «4 июня русские атаковали австро-венгерский фронт восточнее Луцка, у Тарнополя и непосредственно севернее Днестра. Атака начата была русскими без значительного превосходства сил. В районе Тарнополя граф фон Ботмер, вступивший после генерала фон Лизингена в командование юго-германской армией, начисто отбил русскую атаку, но в остальных двух районах русские одержали полный успех и глубоко прорвали австро-венгерский фронт. Но ещё хуже было то, что австро-венгерские войска проявили при этом столь слабую боеспособность, что положение Восточного фронта сразу стало исключительно серьёзным. Несмотря на то, что мы сами рассчитывали перейти в наступление, мы немедленно подготовили несколько дивизий для отправки на юг. Фронт генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского действовал в этих обстоятельствах таким же образом. Германское военное командование сделало на этих обоих фронтах большие позаимствования, а также подвезло дивизии с запада. В то время сражение на Сомме ещё не началось. Австро-Венгрия постепенно прекратила наступление в Италии и также перебросила войска на Восточный фронт… Обстановка коренным образом изменилась. С началом сражения на Сомме и с выступлением Румынии она вскоре ещё раз должна была измениться не в нашу пользу…»
По-разному можно относиться к личности, военному дарованию и, наконец, малоуместному «революционерству» Брусилова, вынужденного (или по своей воле вздумавшего) одно время быть в пристяжных у военного министра Керенского, в котором не было ни на гран ни военного, ни министра, ни хотя бы честного заботника о России. Русский генералитет, в его патриотической части, враз забыл победы Брусилова, он мог ему простить даже поражения, но «братания» с внутренними врагами России простить не мог. Снесарев не принимал в Брусилове его армейское ораторство, его негативное отношение к Корнилову, Каледину, его не в меру широко разлитое скептическое отношение к «академикам» — выпускникам Императорской Николаевской академии Генерального штаба, некоторые черты его характера. И всё же именно Снесарева просил Брусилов незадолго до смерти разобраться в его бумагах, в его военно-творческом наследии, именно Снесарев вёл траурный митинг на похоронах Брусилова на Новодевичьем кладбище и именно Брусилов и Снесарев чекистскими верхами выставлялись как организаторы Русского национального союза, Русского монархического союза, Русского союза георгиевских кавалеров и т.д. и т.п.
8
В снесаревских письмах, в дневниковых записях, разумеется, чувствуется дыхание летнего наступления 1916 года. Да и всё, что волнует, радует, огорчает: и бедствия родины, и церковь, и семья, и воспитание малых и юных, и бедные сестры милосердия, и загубившие свою жизнь его друзья.
«…Был под всяческими огнями, какие только есть на свете», — пишет в конце мая, а через несколько дней, в начале июня, столь тяжелы его строки, словно он кладёт на картину густые, кровью пропитанные мазки: «…Мы много видим кругом трупов и крови, как мясники на городской бойне, мы шагаем спокойно по окровавленным полям, мы к этому постоянному кладбищу привыкли, но когда гибнут те, которые около нас близко, с которыми мы говорили и делились впечатлениями, то их смерть бьёт нас по нервам… она говорит, что могли мы пасть, а они остаться».
В городке Зелена на реке Прут, остановясь на двухдневное проживание в запущенном барском домике возле церкви, дважды за два дня и подолгу беседует с баронессой Василько — родственницей сербских правителей Милана, Обреновичей. Когда-то богатая и знатная, теперь нищая. Обычная история. Имела замечательный голос, да знатные родители не дали взойти на сценические подмостки. Или смотрели на это как на плебейское, не аристократическое занятие, или ещё почему, но вышло, как у сестры Снесарева Клавдии, имевшей отменный голос, но… родственники перекрыли ей дорогу на сцену. Много говорили о сербах, и она, уверенная в провиденциальной предназначенности Сербии, как и России, с горечью, но и с пафосом, правда, едва заметным, несколько раз повторила, видать, давно выстраданное, что, мол, Сербия — небесная страна, и пушками, бомбами, револьверами ничего не решить.
Снесарев видел, что жители — австрийцы и венгры — боятся не одних казаков, а и сербов. «В Сербии в последние минуты её борьбы на сцену выступили малыши и женщины, вооружённые бомбами и револьверами. Последовали народная борьба, вызвавшая страшное ожесточение с обеих сторон, и мероприятия австрийцев, перешедшие всякий предел разума и человечности. Власти приказали “не щадить”, а разошедшаяся солдатчина стала насиловать и убивать беспощадно… получилась война “потусторонняя”, где тактика, месть и пьяный разгул переплелись в уродливую и страшную верёвку. А теперь австрийцы ждут мести и со страхом спрашивают, нет ли среди нас сербов».
Между тем в плен к русским попадают огромные массы, да ещё по лесам бродят тьмы и тьмы австрийцев и венгров, готовых сдаться. Но и русских в германском плену едва ли меньше. При компактности германской территории пленные — это проблема для Германии. Но ещё большая — для России, поскольку её организационные навыки далеко не так велики, как немецкие. Куда пленных девать? Где размещать? Даже обезоруженные, они вместе представляли грозную тлеющую силу, в любой миг готовую вспыхнуть. Побеждённые, они, находясь в России, стали временными победителями, как, например, белочехи: много пришлось натерпеться от них и красным, и белым, и невоюющим русским людям; так же и от мадьяр, и от австрийцев.
Судя по пленным, и до победы рукой подать. А она добывается прежде всего солдатской и офицерской отвагой и кровью. Пусть ещё не победа, но в любом случае военные — люди чести, веры и верности; разумеется, и фронтовой дружбы, самой бескорыстной на земле.
В тот июнь он не то что пишет, а начерчивает в письме к жене горделивые слова: «И думаю я: такие трогательные и высокие минуты дано переживать нам, военным людям, полагающим “души за други своя”, только нам, а не людям во фраках, может быть, более нас умным, развитым, но умеющим проливать только чернила…»
«…радость не потому, что белый крестик даёт мне преимущества — это дело преходящее, — а потому, что он включает меня в семью храбрых; самая аристократическая семья, которую я только могу представить и о которой в душе я давно мечтал. Аристократизм есть разный: по происхождению (дворяне…), по уму (учёные…), по дарованию и таланту (артисты, художники…), по золоту (миллиардеры, богачи…) и т.д. — всё это аристократизм почтенный, заслуживающий внимания, но меня гораздо более трогает аристократизм по другому признаку — по храбрости, по способности в нужные минуты “положить жизнь свою за други своя”…» — напишет Андрей Евгеньевич год с лишним спустя.
Лето жаркое, жара страшная. Недели сражений чередуются с неделями затиший. Не хочется даже читать. Снесарев отмечает: «После двухмесячного перерыва сели играть в карты, но я весь извёлся: то мне казалось, что думают слишком долго, то жара томила, то изводили трубокуры…»(Карты — слабость Снесарева, разумеется, это не рулетка Достоевского, но было нечто сближающее их и здесь; главное же, изначально — оба военные, один — имевший военно-инженерное образование, другой — однажды надеявшийся его иметь; оба — мыслители, православные государственники.)
9
В июле пришел Высочайший приказ о награждении Снесарева орденом Святого Георгия за прошлогодний декабрьский бой у Посада-Работыцка. Но нерасплесканно-полной радости не было, может, из-за несколько формальной и усечённой оценки Государственной думой подвига его полка, ни мало ни много восстановившего блокаду Перемышля: «…забыто сказать, что мой 3-батальонный полк бросился на целую мадьярскую дивизию, т.е. на 4 полка… Конечно, я получил награду, и значит, мой подвиг награждён, но полк теряет». Но более всего его огорчает невнимание именно полка, вернее полкового начальства. Он получил поздравления от выпускников Московского университета и Академии Генштаба, близких сослуживцев, и только в последнюю очередь — от родного полка: «…Почему так поздно, да и не так удачно… В полку, по-видимому, началась переоценка ценностей: пошли вверх люди недостойные и вообще некрупные, в опалу попали люди большие, мужественные и надёжные. Очевидно, режим выдвинул людей, умеющих подогнуться и ответить мягким да…»
(Что поделать, так по всей стране, да и во всём мире, да и во все времена.)
10
За несколько дней до 22 июня 1916 года — трагического, пораженческого дня его дивизии — Снесарев, ничему, казалось бы, на войне уже не привыкший удивляться, удивляется массе пленных: австрийцев, мадьяр, чехов. Непроизвольно думает о товарище-враге Салагаре, с которым они определяли пояс границы, хлопоча и споря иногда из-за полуверсты. «Теперь придётся отдать огромные площади! — восклицает он, не называя, но подразумевая, кому отойдут эти площади, словно на миг забывая роковые превратности войны и мира, движущие ими иррациональные, а подчас и человечески-притаённые, закулисные силы, но тут же и выравнивая своё суждение, отмечая им уровень всесильного и непредсказуемого: — Так сильна и велика война по её влиянию на судьбы народов и царств: в мирное время спорят с пеной у рта из-за пустяка, клочка земли, а пришла война и всё смела, нивелировала, перевернула вверх дном старые порядки, права и собственности и всё сделала по-своему… на всё наложила могучую печать своей силы и власти».
Но вот 22 июня, в будущей войне роковой первый день, а здесь роковой для дивизии, в которой Снесарев — начальник штаба. Деревня Зивачув — какое невнятное, зевательно-чавкающее, вязкое название! Что же случилось? Ханжин из дивизии ушёл. Прискакал генерал Вирановский, ухватливый, имеющий смутное представление о чести, не лишённый остроумия, нравящийся женщинам и даже молодым офицерам, поскольку позволял вольности, на войне неуместные. За командование сугубо стрелковыми частями, а также лёгкость нрава и нацеленность на женщин прозван Стрелком. Но против австрийцев он оказался стрелком никудышным. Ханжин бы не дал погубить дивизию. А Стрелок…
И вот осмысление всего случившегося в дневниковых записях за последнюю треть августа. Снесарев находился на холме у деревни Герасимув, близ шоссе. Бой начался с утра, а потерю его пульса начальник штаба почувствовал в полдень. Австрийцы перебарывают и огнём, и тактикой. Тогда он отправляется в 45-й полк, на себя принимающий главный удар. Наблюдательный пункт командира полка полуразрушен и деморализован. Много убитых. Погибли почти все офицеры. Перебиты телефонисты, связь потеряна. Командир полка в крайнем удручении: осталась треть полка, ослабленная духом и сердцами, с кем наступать, а тут начальствующие крикуны на безопасном отдалении приказывают атаковать и непременно взять Зивачув и высоту 353. «Что же? Взять так взять. Поднялись… и умерли».
А ведь не надо было носить генеральских звёзд, не надо было дослуживаться до командира корпуса и начальника дивизии, чтобы упредить поражение, видимое даже невоенному человеку: если дивизия заступает на позицию в ночь, а утром ей приказано атаковать, можно ли ожидать чего-то победного? Разве не разумнее было дать осмотреться, почувствовать почву и дух местности, разузнать, что такое этот Зивачув, разузнать, сколько австрийских солдат и пушек, где им выгоднее всего наступать и отступать.
«…Что же должен был делать начальник дивизии? Или просить два дня для осмотра, или требовать обстановки. Ни то ни другое сделано не было… и дивизия легла.
…Начинают подыскивать стрелочника… А почему бы не съехаться в штаб корпуса, обсудить, сделать искренний вывод и иметь мужество послать его дальше: была неудача, но на ней учимся, чтобы избежать повторения таковых в будущем… И во всём этом вновь не видно военного воспитания…
…Моя белая страница, мне нечего сегодня занести на твоё поле. Душа моя суха, и кто её высушил, не знаю…»
Было отчего душе быть сухой! Он, берёгший солдата, видел, как по приказу свыше ложились они снопами в несчастном бою у Зивачува. Несчастный день — 22 июня. А ещё недавно, 28 мая, был славный бой, которым руководил Снесарев и за который новоявленный начальник дивизии Георгий Николаевич Вирановский, увиденный сослуживцами как Стрелок, а Снесаревым как «пустобрёх, фантазёр и трус», ловко получит орден Святого Георгия.
Поучительный июньский бой вызвал сгусток переживаний и камнепад мыслей. Ясно было: «После войны должна появиться целая литература и притом столь сложная, нервная и противоречивая, что в истине не нам суждено будет разобраться. Ещё вопрос, разберётся ли поколение наших сыновей, которое выступит на сцену мыслителей, толкователей и дирижёров не ранее как через 25 лет».
11
В июле Снесареву предлагают штаб особого корпуса, в котором корпусный командир — Зайончковский. Дал согласие. А пока ждал нового назначения, в дивизию пожаловали японцы: из Генерального штаба генерал-лейтенант Масатиро Фукуда, полковник Исазака, главный атташе при Ставке полковник Одигири, военный агент в Петрограде капитан 1-го ранга Арая, капитан Ямамото и подполковник Йеда. С ними флигель-адъютант граф Замойский и ещё несколько сопровождающих. Побывали на наблюдательном пункте, возвратясь, отменно отобедали. Начальник дивизии Вирановский — большой дока привечать гостей. Вина как воды в Японском море. Но гости пьют, а ума не теряют. Спрашивают по делу, отвечают по существу.
У Ямамото — орден Сокола, по значению равный ордену Святого Георгия. Ордену сопутствует легенда: в незапамятные времена микадо на войне заблудился с большим войском так, что, казалось, уже и не выбраться из враждебных горных теснин. И тут на дереве увидели сокола. Тот взлетел и полетел тихо, оставляя за собой, словно розоватый пояс, ясно видимый след, за которым войско и проследовало. Выйдя на удобное для битвы холмистое поле, столкнулось там с врагом и победило его. Так что орден дают тем, кто идёт в бой впереди и ведёт за ним ступающих к победе. «Легенда восходящего народа», как выразился Снесарев. Он же сразу почувствовал уровень японской гостевой делегации: «Все шесть — люди серьёзные. По некоторым брошенным фразам Фукуды видно, что военное дело понимают в корень… Воевать с ними, конечно, будем, но в голову или после англичан, вот в чём вопрос?»
Положим, с англичанами нам пришлось воевать все последние века, причём лишь однажды, в Крымской кампании, явно, а обычно Англия воевала и побарывала своими дипломатами и эмиссарами, своими заговорами, комбинациями и коалициями, своими сверхприбылями, поступавшими со всех концов угнетённого света. А вот над Японией, над бедной страной, уже сгоравшей от радиоактивного дождя американских атомных бомб, триумф выдастся полный: в сорок пятом советские войска в две недели проутюжат Маньчжурию, у сопок которой истечёт кровью Квантунская армия, как сорок лет назад армия русская.
12
«…Природа проще, справедливее и гуманнее; в её целях и средствах всегда много милосердия и снисходительности… — утверждается в такой мысли и в таком настроении муж в письме жене от 23 июля 1916 года. — Я поворачиваю голову на пережитое мною на войне, на всё её окружающее, на её лицевую и обратную стороны, и тогда думы становятся сложными, запутанными и пугливыми, заключения подходят робко, и я, как старый богатырь земли русской, чувствую себя на роковом перепутье: “направо поедешь — сам погибнешь, налево поедешь — конь погибнет”. Но налетит ветер, освежит моё лицо и спугнёт, как стаю птиц, мои тревожные думы; я оглядываюсь вокруг: проглянул луч солнца, зеленей взглянула мне в глаза зелёная каёмка лесов, поплыл, словно аэроплан, аист… Бог с ними, с думами! За всех не передумаешь, и слёз людских, слёз грешного мира не вытрешь; у меня есть моя маленькая жёнка, думающая обо мне, моя маленькая троица, и с меня довольно, если я сделаю их счастливыми по силе моей воли и разумения».
Он не раз думал об этом: слёзы грешного мира не осушишь. Но он всегда помнил Достоевского с его слезинкой ребёнка. И снова, как только ранился о чью-то гибель, внутренне плакал. Какое беспощадное ко всем время! Он понимал что и сильных людей сламывает, и крепкие узы разрывает, а когда на слабых давят — тут уж на долгие годы благочестного не жди. Вот и жене пишет про Григоровых. Как-никак друзья по Ташкенту, по Петербургу. «У Григоровых, конечно, супружеского благополучия ожидать трудно, особенно теперь, в войну, когда всё трещит: государства, народы… что такое семьи, по сравнению с этими группами… Теперь война, вынужденная жизнь врозь, когда только нравственные узы ещё могут держаться, а другие… могут потухнуть, как огонь без дров. Сколько слышишь разных вещей, неожиданных, грандиозных по сложности и драматизму… даже Пенелопам начинает надоедать ожидание своих одиссеев… Чувству чуждо расставание, пространство губит всякое чувство…»
Между тем некая раздвоенность подстерегает даже такого цельного человека, как Снесарев. Он редко сомневался, где ему быть в час войны. Разумеется, на фронтовой полосе, в окопе, на поле битвы! Но вот в письме от 8 августа 1916 года просвечивают оттенки, не совсем привычные, даже совсем непривычные для его ясного взгляда: «Во имя идеи, во имя великой борьбы, переживаемой миром, я хотел бы быть здесь, но у меня много данных сомневаться, что от меня возьмут то, что я могу дать… Опыт (и не меня лишь касающийся) показывает, что силы — мозговые и нервные — применяются не всегда целесообразно, иногда совсем не применяются, часто вкривь и вкось. Конечно, война — дело сложное, в большинстве своих форм — совершенно новое, все мы на ней учимся, пробуем, гадаем… я это допускаю и мирюсь с этим. И тем не менее неудачное или случайное использование военно-интеллигентного материала меня прямо смущает. В мирное время я объяснил бы это протекцией или кумовством, а в военное время мне стыдно прибегать к такому объяснению… слишком уж это непригодно для лика великой войны. А отсюда я уже не так нервно цепляюсь за окопы, как прежде, а куда мне хочется приклонить мою головушку, я не знаю…»
В этом же письме упоминается про места на Хопре и Бузулуке, о которых Снесарев не раз слышал, что они красивы и богаты, много лесов и рыбы; по всей видимости, семья начинала подумывать, где бы можно было переждать хотя бы в относительном спокойстве и довольстве подступавшие времена. Ибо через пару недель в снесаревской строке снова некий географический причал: «…осень часто на Дону бывает лучше всяких сезонов… осень с её фруктами, арбузами, виноградом».
Ora et labora. Bellum et labora. Работа и молитва. Война и молитва.
«С утра я пошёл Богу молиться и молился с таким настроением — полным и приподнятым, как давно не молился, — сообщает жене в письме от 16 августа 1916 года. — Теперь я командую временно дивизией… Пели певчие головного полка… и я вместе с этими серыми, ходящими пред ликом смерти людьми молился Создателю мира с чувством глубокой веры и признательности… Батюшка сказал короткую, но хорошую проповедь и окончательно меня растрогал. Тема её: Богородица — покров всех, к ней идущих со смиренным и чистым сердцем. Будьте чисты: щадите храмы, кому бы в них ни поклонялись, воюйте со врагом, неся ему в сердце меч, а не с жёнами и детьми, которые встречаются на вашем пути и выносят все невзгоды войны…»
Война полыхает, уходят из жизни воины, и часто — друзья, близкие, товарищи. Полк за последние бои потерял многих: кто ранен, кто вовсе убит. Гибель Тринёва особенно тяжёлым камнем легла на сердце. Земляк, спорщик, фронтовой друг, предчувствовавший и не раз, когда потерял двоих друзей, повторявший, что будет убит. Веря в своё предчувствие, стал сторожек, даже робок. Имея целый расклад наград, всё хлопотал и торопился получить орден Святого Георгия, к которому был представлен Снесаревым, после гибели Тринёва грустно вопрошавшим: «…Зачем была эта суета, это беспокойство о земных украшениях, когда его подкарауливала смерть?»
Снесарев, сознавая бессилие своё и мира, не раз повторял грустную сентенцию о том, что, мол, всех слёз людских не вытрешь, но слёзы эти, сиротство мира, разруха мира всё время отзывались в его сердце саднящей болью. Человеческой растерянностью и пониманием неизбежности многого, что на земле происходит, дышит письмо жене от 21 августа 1916 года: «Кругом нас, куда ни придём, бабы, дети и старики, мужчин нет, словно их вымели веником. Нужда кругом большая; если бы не наши солдаты, население умирало бы с голоду. Грустно видеть, как эта тяжкая нужда всё выбивает в человеке — нравственное, стыдливое, возвышенное… Война, при всем её суровом величии и необъятности размаха, — во многих своих углах жестокая кровавая драма, особенно там, где она бьёт мимоходом посторонних. Эти посторонние, забитые чёрным крылом войны, — одно из тягостных её явлений; в минуты раздумий они встают предо мною как живые и просят меня ответить им: “Зачем, что они сделали?..” Ребёнок с простреленными ногами, принесённый в лазарет… крестьянин, убитый на улице и свалившийся в канаву с окаменелым недоумением на лице, корова, валяющаяся около пруда с вывороченными внутренностями, беременная баба, убитая пулемётом с аэроплана, аист, поражённый прямо в сердце и уже мертвецом планирующий к земле… И сколько их, и зачем они? Я знаю некоторых людей, храбрых и бодро смотрящих в лицо смерти, которые уверенно говорят, что после войны они ни секунды не останутся в рядах войска. Я их понимаю, этих жалостливых людей, хотя очень плохих философов. Я сам очень много страдаю с моей жалостливостью от многих картин, но остаюсь при вере, что война и великое дело, и дело неизбежное. Ибо иначе пришлось бы категорически осудить мыслительный аппарат человечества, не сумевший вычеркнуть войну из своего мирового обихода. В том-то и дело, что война влита в существо нашего мира как один из величайших факторов юридического, экономического и нравственного характера».
Часто размышляя о войне, Снесарев и его друзья-сослуживцы сходились на том, что она никогда не сдастся, не закончится, не уйдёт, а «будет ещё злее, открытее, жгучее».
13
Вторую половину августа 1916 года Снесарев проводит в Яремезе, удаётся побывать и в недалёкой Ямне. Чудесные карпатские уголки для влюблённых, для поэтов, для философов… места божественные, на вечное загляденье. Австрийцы называют их едва не лучшими в Европе. Во всяком случае, сюда любят приезжать на отдых даже швейцарцы, которых, казалось бы, никакими красотами природы не удивить. Глубокая живописная долина, по горным скосам — хвойные, лиственные леса, хрустальные снопы водопадов, луговые цветные скатёрки. Через Прут перекинут арочный железнодорожный мост, словно бы пришелец из другого мира. И хотя ниже мост для телег, ещё ниже мост для пешеходов, но, кажется, что человеческая жизнь выпадает здесь редким и издалека счастливцам как праздник на краткий срок, а обычной человеческой жизни здесь вовсе и нет. Но она есть и движется под диктовку войны. Ходят по горным тропам старики, старухи, совсем малые дети. А чаще одинокие женщины и полудевушки-полудети.
«Они выпрашивают хлеб, за ягоды ли (малина), за проданную ли любовь. “Что тебе нужно?” — спрашивает солдат девушку после жарких поцелуев. “Хлеба”, — отвечает почти ребёнок, уже без стеснения оправляя свой костюм…» — беспомощно замечает Снесарев, понимающий, сколько гибнет здесь любви, которая в другие времена могла бы стать нравственным, лирическим образцом целого народа.
14
Последнюю неделю августа Снесареву выпало провести в Кавказской дивизии, возглавлял которую генерал-лейтенант Хельмицкий. Дивизия располагалась в округе Зелены, полки: Екатеринодарский (Кубанский), Осетинский, Кизляро-Гребенский Его Величества и Дагестанский. Что называется, с первого взгляда и слова сдружились с подполковником Хандиевым, командиром Дагестанского полка.
Дневниковые записи тех дней свидетельствуют о коротко выдавшемся отдыхе в прелестном уголке земного шара. «Живу в охотничьем доме в глубокой зелёной и красивой долине с командиром одного кавалерийского кавказского полка, начинаю понемногу практиковать… по-кумыкски (наречье тюркское), живём на чёрном хлебе, а с сегодняшнего дня начинаем наслаждаться шашлыком: ребята у противника сбарантовали барана…» Далее пишет, что его товарищи — офицеры разной крови: осетины, ингуши, аварцы, что их душевным разговорам нет конца и что как странно было услышать ему в лесистой глуши зурну и увидеть танец дагестанцев — танец, которым нельзя было не залюбоваться, ибо он весь шёл от сердца и столь жарок, экспрессивен, что даже сосновый лес словно бы слушал и посмеивался над человеческим неугомоном. Интересные люди. Интересные обычаи. Живое чувство родного корня. Один осетин знает едва ли не всех единокровников, воюющих в Карпатах. Грустно было расставаться с кавказцами, с которыми надёжно было рассуждать, быстро приходя к согласию, о воинской чести, о храбрых и трусливых, о том, что ловкоудачливые и шумливо похваляющиеся «трын-чики мирного времени», в бою обычно трусливы и слабы, а храбры чаще всего люди скромные, спокойные, подчас простоватые; почти всегда храбры спортсмены…
«Командующий полком (аварец) подавал мне пальто, что вначале меня стесняло, но скоро я заметил, что это у них в старом обычае — почитать старших и начальников… Оригинально, что командующий полком (аварец, сын переводчика при пленном Шамиле, магометанин) любит иронизировать над крайним фанатизмом некоторых из магометан по поводу свинины, обрядности и т.п., точь-в-точь как у нас передовая молодёжь любит пошутить относительно некоторых обрядов и верований. Расстались мы очень трогательно и сердечно. Они кормили меня пять дней, и я просил адъютанта моего позондировать почву, не должны ли мы им. Получилась забавная сцена. Аварский офицер громко рассмеялся, находя шутку моего адъютанта очень забавной, но когда тот повторил, то аварец открыл глаза и заявил решительным тоном: “Довольно, а то я обижусь…” Да, у них это ясно».
Вот и Россия воюющая. Русские, осетины, аварцы, ингуши и десятки других больших и малых народов. Были инородческие области, освобождённые от воинской повинности, хотя и среди них объявлялись в немалом числе добровольцы; были, разумеется, и не желавшие воевать, убегавшие с фронта, а если и остававшиеся на войне, то подальше от передовой, богатевшие на войне, на крови, на страданиях других. И всё же не ими определялись дух и погода на войне, и если и уместно слово «россияне», то более всего здесь, на необозримом фронтовом поле.
Снесарев хорошо знал мусульманский мир, но более среднеазиатский, а Кавказ, воспетый его любимыми поэтами, сильно и мужественно открывался через нечаянно встреченных им фронтовиков-кавказцев, и он не прочь был заняться кавказскими языками и сожалел, что его пребывание в среде сынов Кавказа оказалось непродолжительным.
В последний день августа Снесарев, как это он любил делать и прежде, пустынной горной тропой, даже вовсе истаявшей, взобрался на самый пик высокой сопки, оттуда открывались зелёные, манящие дали дальние, зубчатые стены синеватых лесов, горные пропасти, речки, водопады. Взбираться в такую высь человеку за пятьдесят — не прогулочная пробежка по ровнолежащему приусадебному парку, но разве не он благодарно воскликнул: «Как часто я буду чувствовать благо того, что я никогда не пил и не курил… иду, как коза, никто за мной не угонится». Он долго стоял, потом сидел на поваленном буке, думая примирённо-грустно, благодарный Богу за отца и мать, за сестёр, за жену и детей, за все большие и малые радости, которыми одарила судьба.
Спускался той же тропинкой, кругом первозданный лес, и вдруг увидел брошенный закопчённый котёл, сундук и вразброс мадьярские газеты. Из тех газет, которые на любых языках непременно что-нибудь да врут и будут врать до скончания века.
Грустно-умиротворённому состоянию Снесарева вполне соответствовало меланхолическое двустрочие Шиллера, которое он, спускаясь вниз, повторял и повторял:
Юноша в море стремится на тысяче суден,
На утлой ладье возвращается в гавань старик.
В ту же ночь ему приснилось, что его взяли в плен, и он проснулся весь в ледяном поту. Он не мог себя представить пленником, хотя не раз бывал в шаге от этого. (Русский страх плена. Жажда бежать даже от почётного плена. Может, начиная с князя Игоря Новгород-Северского, может, и раньше. Сколько их в Первой и Второй мировых войнах? И фамилии не последние: Корнилов, Тухачевский, Карбышев… Иные, чтоб не попасть в плен, стрелялись — Самсонов… Иные — из плена в плен по нескольку раз.)
15
Фронтовая жизнь. И рассказ о ней в письмах жене. И взгляд на неё через запись дневника. Снесарев словно бы проходит три круга. В них — одно время, одна территория, но они отнюдь не одинаковые, не обручи одного диаметра, они — просто об одном, и прочитав письма жене в бытность его начальником штаба дивизии, и читая дневниковые записи тех же месяцев, видишь различие явственно. В письмах — душевное настроение, лирическое переживание. В дневнике — теоретическое видение, размышление, афористические штрихи военного поля, времени, события, оценка событийного военным мыслителем. Снесарев знал и штаб, знал и строй, и, конечно, если бы всё то, что он знал, о чём частично сказал в дневниках, письмах, статьях, военных трудах, выдано было некоей обобщающей книгой, такая книга могла стать настольной для военных. Малая толика из дневниковых записей за летние месяцы 1916 года словно бы страница той пока не осуществлённой книги:
«…Стратегия, не есть ли это политика, приправленная оружием. Может быть, на время войны стратегия над политикой, а последняя ей помогает… Есть перелом (момент), за которым начинается победа. Перелом этот вызывается угнетением духа (паникой, страхом, волнением) одной стороны…
…Начали мы маневрировать, и оно нам не даётся: разрываемся, упускаем противника, атакуем поодиночке, выдаём друг друга, не верим, врём и т.п. Что тут больше: тактической ли неготовности или отсутствия воспитания? Для сильной и дружной тактики нужно воспитание: 1) чувства товарищеского долга; 2) чувства гражданственности или общего дела; 3) чувства правдивости; 4) гражданского мужества…
…Штаб — одно, строй — другое, чаще взаимные, подстерегающие друг друга враги… Один — у бумаги, другой — у огня… И вновь — воспитание…
…Правильно: быть на объективном месте, но внушать людям, что не прочь посмотреть на них в окопах… когда это не повредит делу управления… “Посещение” должно исходить из нравственных соображений, чтобы солдат почувствовал, что в страшную минуту паники и огня начальник может явиться среди них… И опять всё сводится к недостатку в военном воспитании…
…Всякий начальник должен иметь в виду: что, всё подготовив (довольно шаблонно) и выпустив части, он может каждую минуту спуститься с трона своего наблюдательного пункта в борющуюся, нервную, может быть, изнемогающую массу его дивизии и помочь ей личным присутствием, словом, примером, может быть, готовностью вместе умереть…
…Наша армия представляет в большинстве своих членов того сына евангельской притчи, который сказал отцу, что идёт работать и… не пошёл. Наша система военного воспитания растит и ширит такой тип, растит, практикуя хамство, капризность, беспринципность. В результате затурканный человек, как в древности пытаемый, смотрит в глаза своему “палачу” и старается прочесть, что тому угодно, чтобы так и сделать… И есть какой-то дьявольский “закон”, что воспитанный в таких ежовых рукавицах начальник, сделавшись старшим, забывает тягость и гнёт системы (в своё время он её критиковал) и неизменно надевает сам ежовые рукавицы… И идёт система беличьим колесом, без изменений и улучшений…
…Между картой и природой много разницы, и надо сначала изучить природу, а потом смотреть карту.
…Подготовка боя состоит из рекогносцировки (блуждание начальника возле будущих боевых мест, близкое их обозрение, общение с бойцами, впитывание их духа и т.п.) и отдачи распоряжений, вытекающих из задачи, данной свыше, и обстановки, данной сниже… Начальнику надо всё это выполнить: без первой будет пропасть и теория (голая), без второй — будет толпа, безорганизованность.