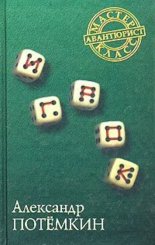Конец – молчание Гордеева Валерия

– Люблю эту кухню! – сказал Ашрафи. – Она и острая, и нежная, и оригинальная!
Кесслер в ответ лишь улыбнулся: он хорошо помнил, что хозяин весьма подвержен влияниям. Наверное, кто-то из сильных мира сего похвалил, допустим, луковый суп в горшочках, а Ашрафи – тут как тут.
Но как только гости уедут, Максим Фридрихович в этом не сомневался, и хозяин, и слуги перелезут в просторные персидские одеяния, а по всему дому разольется запах дешевого бараньего сала: Ашрафи был скуповат, особенно в мелочах…
Через неделю в шикарном экипаже помещика гости прибыли на ближайшую станцию: накануне была получена условная телеграмма, из которой стало ясно, что документы готовы и можно выезжать. А еще через день натужно вздыхающий паровоз подтащил состав к перрону Тегеранского вокзала.
Сразу же к Кесслерам подошел незнакомый молодой человек и вручил им запечатанный конверт: ошибиться он не мог – в этом поезде больше не было европейцев. Не дожидаясь, пока вскроют конверт, молодой человек безмолвно удалился. В памяти осталось лишь удлиненное лицо с сильно выдвинутой нижней челюстью, расплющенные уши да нос со сломанной переносицей… Парень, видно, увлекался боксом.
В конверте оказались все необходимые документы и записка, напечатанная на машинке, без обращения, без подписи. Максима Фридриховича приглашали в «известный ему особняк»: Шелбурну не терпелось увидеть своего подопечного, спасенного и облагодетельствованного.
И вот они встретились в английском посольстве. Кесслер был бледнее обычного: утомительный переход, ожидание документов, долгое хождение по улочкам засыпающего города, чтобы выявить, нет ли «хвоста», – все сказалось. Максим Фридрихович произвел на мало изменившегося полковника неважное впечатление.
– Да-а-а… Двадцать лет! – философствовал тот, открывая бутылку виски. – Сейчас немного выпьете, и жизнь покажется не такой уж скверной штукой! Как жаль Ольгу-ханум… В ней было столько шарма! А какие глаза?
Заметив, что от этих слов Кесслеру стало совсем худо, Шелбурн замельтешил:
– А моя Лилиан совсем старушкой стала, хоть и бодрится… Грустный возраст для женщины, привыкшей нравиться…
Максим Фридрихович лишь пригубил рюмку, но и этого было достаточно, чтобы усталое лицо его слегка порозовело.
– Ну, вот видите? – обрадовался полковник. – Минимум десять лет сразу сбросили! Виски – настоящее лекарство. А некоторые почему-то не понимают этого…
Шелбурн поинтересовался здоровьем Пауля – вдруг он так же, как и в детстве, будет болеть в этом климате, – спросил, где устроились.
– «Юлдуз»? – ужаснулся полковник. – Кто вам порекомендовал эту захудалую «звезду»? Ах, Ашрафи… Ну, тогда все понятно! Он стал настоящим Гобсеком. Разница лишь в том, что он даже чужие деньги экономит… Кстати, как у вас с ними? Может, ссудить?
– Спасибо, не надо. Для начала хватит: кое-что удалось сохранить из наследства. А там думаю открыть вместе с Паулем радиомастерскую: он, как и я, хорошо в этом разбирается.
– О-о-о… Тут у вас не будет конкурентов. Но, честно говоря, я думал, вы не собираетесь здесь задерживаться, захотите устроиться в более приличном месте… Это ведь – дыра, куда можно приехать лишь при особых обстоятельствах, и то не надолго!
– У нас с сыном, очевидно, именно такие обстоятельства… – горестно уронил Кесслер.
– Не огорчайтесь, Максим Фридрихович! То, что произошло с Паулем, явная случайность… Чего не сделаешь, когда тебя всю жизнь травят? Вполне можно его понять. Такая дикая страна, как Россия, да еще советская, конечно, не для Кесслеров – людей тонких и воспитанных в лучших традициях…
Максим Фридрихович молчал: он понимал, куда клонит Шелбурн.
– Мальчику ведь надо учиться дальше! Если большевики подвергли его остракизму, то приличные люди, скажем, в Лондоне или на вашей настоящей родине, могли бы оказать ему протекцию при поступлении в университет. Как вы на это смотрите?
– Положительно… Но хотелось бы стать на ноги – в материальном отношении, чтобы ни от кого не зависеть…
– Разве друзья считаются между собой? – Шелбурн улыбнулся. – ѕВсе будет в порядке, Максим Фридрихович! Завтра у меня окончательно прояснится один вопрос, и мы потолкуем о вашем дальнейшем житье-бытье. Мне даже неловко, что я вас сразу же с дороги зазвал. Но уж очень велико было желание повидаться… Столько лет! А все – будто вчера…
Чтобы прервать сетованья Шелбурна, Кесслер поднялся и стал прощаться. Хозяин его не задерживал. А на следующий день молодой человек с боксерской внешностью разыскал Кесслеров в «Юлдузе» и протянул Максиму Фридриховичу записку. На этот раз он дожидался, пока ее прочтут.
Шелбурн писал, что обстоятельства неожиданно изменились: его срочно отзывают в Лондон. Податель сего – Джо Бутлер, клерк транспортной конторы «Вильямс и К°», его человек. К нему можно, в случае чего, обратиться. Сам же он, без указаний полковника, ни о чем просить Кесслеров не станет.
Бутлер дождался, пока Максим Фридрихович прочел записку, хорошенько все запомнил и сжег на спичке листок… Лишь после этого, все так же не раскрыв рта, повернулся и вышел.
– Итак – Величко?
– Величко, Пауль. Благо, Шелбурн исчезает с горизонта.
Когда Максим Фридрихович впервые пошел к Григорию Степановичу, Дима был в некотором беспокойстве: как-то тот его встретит? Ведь уговаривал в свое время – не уезжай! Чего ж теперь, мол, слезы лить? Варгасов то стоял у окна, разглядывая пеструю шумную толпу, то нетерпеливо шагал по небольшой комнате, иногда останавливаясь перед изящными миниатюрами на стенах, призванными, очевидно, отвлекать внимание от убогой обстановки.
Выполнены они были действительно мастерски! И яркий мак, с мельчайшими прожилочками, и серо-зеленая ящерица, прикорнувшая на солнце, невиданная птичка, чьи перышки так сверкали и переливались…
А в это время Максим Фридрихович пил чай из армудов в кабинете Величко. Давний приятель превратился в сухого и сгорбленного старичка. Будто жаркое тегеранское солнце вытопило из Величко все соки и оставило наконец в покое. (Никаких полотенец и в помине не было!)
Да и без родины, наверное, жить тяжко… Иран, судя по всему, ею не стал. От России Григорий Степанович добровольно отказался. В Германию, чьи интересы он настойчиво защищал с приходом к власти фашистов, его последней надежды на уничтожение большевизма, не уехал. Да и куда двинешься-то, когда здоровья ни на копейку?
Они уже все обговорили, все обсудили и теперь молчали, радуясь встрече и хорошо заваренному чаю…
Величко с сочувствием слушал о переживаниях Кесслера в связи со смертью жены и поступком сына. Максим Фридрихович с немалым интересом расспрашивал о тегеранских новостях, о реакции эмигрантов на политику Гитлера.
В предчувствии нападения Германии на Советский Союз эмигранты разделились на два лагеря.
Одни – к ним относился и Григорий Степанович – считали эту войну единственным средством избавления от коммунистов. Фашисты-де наведут долгожданный порядок, установят справедливую власть, и белые парии вернутся в Россию…
Другие доказывали, что в случае войны эмиграция не должна выступать против советской власти, ибо эта власть будет защищать родину от оккупантов…
– Да, только с помощью национал-социалистов мы сможем умереть на земле своих отцов… – задумчиво произнес Величко, хотя они давно уже оставили эту тему.
Он сидел за старым расшатанным столом, зажав в морщинистой руке стаканчик чаю, а сзади, на стене, висело сине-бело-красное знамя с вышитыми золотом словами: «Русская национал-фашистская революционная партия» и портрет ее главаря графа Анастасия Вонсяцкого, здоровенного, совершенно лысого детины, одетого «а-ля Гитлер» в военный китель без орденов и знаков различия, лишь на рукаве – повязка со свастикой.
Максим Фридрихович старался особенно не рассматривать русского фюрера. Величко коротко объяснил, кто это да что, – и слава богу! Но Кесслер многое мог бы поведать своему приятелю: Горин и Кулиев отлично их подготовили.
Интересно, как бы отреагировал Григорий Степанович, узнав, что граф – вовсе не граф, а самозванец? Что после поражения Деникина, у которого он служил, возглавил в Крыму банду белых террористов, похищавшую людей и пытавшую их до смерти, если вовремя не поступал выкуп? Что, приехав в Америку, он женился на Мэрион Бэкингхем Рим Стивенс, сверхмиллионерше, которая была старше его на двадцать два года? Что, собираясь возглавить антисоветскую армию, созданную на деньги своей престарелой жены, шпионя в пользу Германии и Японии, организовывал диверсии в СССР, в результате которых гибли мирные жители?
Но Вонсяцкий опирался не только на германо-японский блок. «Граф» не раз подчеркивал, что у него и у Троцкого «параллельные интересы» в борьбе против советского режима.
Но зачем Величко об этом знать? Пусть сидит под портретом и под трехцветным флагом в своем кабинетике, который он важно именует «резиденцией», и ждет сигнала: когда можно будет отправляться в родные пенаты умирать.
– Ты, Максим, пока оглядись, – вспомнил Величко о госте, очнувшись от задумчивости. – Устройся… Пообщайся с нашими – ты многих знаешь! Их можно встретить не только здесь, но и в православной церкви, и в русской библиотеке на Каваме Салтане… Если будет нужна помощь с квартирой или мастерской – скажи: все сделаем…
Величко говорил отрывисто, слегка задыхаясь: видно, сердце сдавало.
– Потом вы, если захотите, окажете услугу нам, нашему движению… Два новых человека в местных условиях – это много…
– Конечно же, Гриша! О чем речь? Вот только разберемся немного с бытом и подключимся, – поспешил заверить Максим Фридрихович. А сам подумал: «К чему подключаться-то? К какому такому “движению”? Ничего ведь здесь конкретно не делается! Одна пустая болтовня да умиление тем, что происходит в Германии или в курируемых ею подлинных очагах “антикоминтерновской деятельности”!»
Максим Фридрихович уже прощался с Величко, когда в кабинет зашел какой-то человек. «Ну и внешность! – невольно подумал Кесслер. – Типичный приказчик, только без цветка в петлице…»
– Познакомьтесь, господа! – Величко поспешил представить их друг другу. – Мой ближайший помощник Кушаков… Мой сослуживец по корпусу Баратова…
«Ближайший помощник», небрежно кивнув головой и не расщедрившись на рукопожатие, что несколько изумило Кесслера, сразу же начал обсуждать с Величко какой-то вопрос. Максим Фридрихович откланялся. Уходя, он перехватил угрюмый взгляд темных, слегка раскосых глаз «приказчика».
«Иль взревновал? – недоумевал Кесслер, возвращаясь в гостиницу. – В друзьях, видно, ходит, вот и боится соперничества… Никто у тебя Величко не отнимет! Живи себе спокойненько, господин Кушаков».
Максим Фридрихович медленно шел по улицам, пытаясь проанализировать встречу, и не заметил, что улыбается: все прошло сверх ожидания гладко! Потом, глянув на часы, поторопился нанять извозчика: прошло много времени, и Пауль, наверное, места себе не находит…
Подкатив к гостинице, Кесслер увидел в окне второго этажа Пауля. Помахал ему рукой – все, мол, в порядке – и стал не спеша подыматься по обшарпанной, но все же покрытой истертым ковром лестнице.
Через несколько дней Кесслеры переехали в отремонтированное и переоборудованное помещение мастерской. Вскоре в центре Тегерана, неподалеку от самого бойкого места – пересечения улиц Стамбули и Лалезара – появилась новая вывеска:
РЕМОНТ РАДИОАППАРАТУРЫ
БЫСТРО И ДОБРОКАЧЕСТВЕННО
МАКС КЕССЛЕР И СЫН
Прошло совсем немного времени, появился первый клиент, а с ним и повод отметить все сразу: переход границы, устройство, заказ Величко на перевод «Майн кампф», дружеские отношения, неожиданно завязавшиеся с племянником Григория Степановича, Алешей, Диминым ровесником…
К тому же и связь с Москвой установили! Уже ушла туда варгасовская радиограмма за подписью «Джим», в которой они доложили о тегеранской обстановке. Уже была получена ответная от «Питера» – Горина.
Поэтому отец с сыном решили отпраздновать свои успехи. Максим Фридрихович купил бутылку местной водки, кишмишовки, а к ней раздобыл ветчину в единственном магазине, где имелась эта противопоказанная мусульманам пища: на Лалезаре, в «Украине». Хозяин магазина, белоэмигрант, нарезал своему собрату по несчастью отличные постные ломтики, один к одному…
Незадачливый извозчик все-таки довез Кесслеров до Тегерана. Пробок на дороге больше не было, основной поток грузов шел в город. Путников то и дело догоняли верблюды, ослы и мулы, везущие в столицу всевозможные вещи, которыми славится щедрая Герсира, юг страны.
Из Кума – стеклянные и гончарные изделия… Из Катана – бронзу и фаянс… Из Иезда – оружие, сахарные изделия, хну… Из Кирмана – знаменитые шали… Из Шираза – розовую воду, которой тот снабжает всю страну, и очень крепкое красное вино…
Наконец Кесслеры подъехали к Туп-Хане, к Пушечной площади, около которой начинался базарный лабиринт, и увидели, что народа вокруг – хоть отбавляй! Знаменитый «Эмир» работает на полную мощность…
– Пойдем, Пауль, перекусим чего-нибудь? Я основательно проголодался.
– Пожалуй, и я тоже… Ехали – что-то не замечал. А сейчас прямо сосет под ложечкой!
И они отправились в одну из базарных чайных, по-холостяцки облюбованную чуть ли не с самого начала: когда им готовить себе горячее?
По дороге то и дело слышалось: «Клянусь циновкой Али!», «Денежку на уголь подайте рабу вашему!», «Во имя Шахмардана, во имя Джама и Сулеймана!» Кесслеры довольно бодро продвигались по базарным улицам и улочкам. Не то что в тот день, когда Варгасов впервые попал сюда!
…Тогда он как-то оторопел от ударившего в нос терпкого запаха пряностей: корицы, кардамона, гвоздики, мускатного ореха… От гомона торгующихся… От надсадных криков погонщиков… От цокота копыт верховых лошадей, проносящих мимо живописных седоков… Все лавки-магазинчики были без дверей, и в них не только продавали товар, но и создавали его тут же, у потребителей на глазах…
Максим Фридрихович завел Диму к книготорговцу. Там было тихо и чинно: сюда приходили не только за книгами, но и почитать газеты, попить чайку, покурить кальян, обсудить философскую проблему…
Варгасова потряс базарный темп: все куда-то спешили, быстро чеканили и варили, скоро договаривались и мгновенно исчезали с покупками. А слуги в чайных вообще не имели ни минуты покоя! Особенно трудно было угодить курильщикам опиума – они ждать не любили. Поэтому официанты то и дело выбегали наружу и размахивали проволочными корзинками, чтобы добела раскалились угольки, которыми наркоманы раскуривают свои трубки. Так русские бабы в деревнях раздувают утюги: аж искры летят во все стороны!
Чайная, в которую захаживали Кесслеры, была не самая шикарная – с зеркалами и хрустальными люстрами, – но и не захудалая. Когда они появились, там кто-то играл на флейте. Беспрерывно кланяясь, слуга провел их в нишу восьмиугольного зала. Справа от Кесслеров, грея пальцы над жаровней, сидел, судя по белому тюрбану, купец. Возле его ног устроился нищий, раскуривавший ему трубку. Слева кто-то тихонько пел, не обращая внимания на флейту. В центре, около восьмиугольного, как и зал, бассейна, обосновался парикмахер, деловито подбривавший кому-то затылок.
Когда трапеза уже подходила к концу, в чайную вошел сказочник, и Максим Фридрихович решил остаться ради Димы, который раньше ничего подобного не видел.
– Бац авардера, бад мибарад… – негромко начал сказочник, устроившийся посреди зала. Тотчас перестала играть флейта, замолк сосед слева, перестал попрекать в чем-то нищего сосед справа. Воцарилась абсолютная тишина.
– Что с ветра пришло, то на ветер и пошло… – шепотом перевел Максим Фридрихович. – Смысл этой сказки, «Хлопок», таков: плоды труда должны доставаться тому, кто работает…
Это был не простой рассказ, а целое представление!
Сказочник то осторожно ходил, то подпрыгивал, то еле слышно шептал, то громко кричал, изображая разных действующих лиц. Он был то очаровательной девушкой; то злым духом, оборотнем; то могучим дивом, который добр к тем, кто не хочет ему зла; то капризным, привередливым джином; то юной пери – женщиной неземной красоты….
В сказках фигурировали традиционные герои: добрый принц и злая мачеха, трудолюбивый крестьянин и жадный мулла… Но самыми популярными действующими лицами все же оказались различные предметы, помогающие героям: котел, который всех насыщает; дубинка, отнимающая награбленное и наказывающая обидчика; дерево, дающее возможность перебраться через реку, где нет моста; листья, излечивающие от любой болезни; не знающий преград ковер-самолет…
Не хуже трудились ради справедливости и животные: корова, морской конек, голубки, волшебная птица Симорг…
Сказочник произнес заклинание и вдруг в самом драматическом месте сделал паузу: требовалось поддержать его небольшой мздой. Когда достаточное количество монет легло на медный поднос, рассказ был продолжен.
Одна сказка сменяла другую, и Дима, с помощью Максима Фридриховича, понял, что уже слышал подобное в детстве. И про храбреца, который «одним махом семерых побивахом», и про морского конька, напоминавшего русского «горбунка», и про Шахрбану – родную сестру Золушки…
– С тех пор как принц увидел Шахрбану, он влюбился в нее и, засыпая, постоянно держал ее туфельку у себя под головой, а пылью ее мазал глаза вместо сурьмы… – напевно звучал голос рассказчика.
И публика зачарованно слушала его, будто впервые, хотя почти все знала наизусть и время от времени хором предвосхищала слова сказочника про страдания бедной девушки изумительной красоты, у которой во лбу «светила луна, на подбородке горела звезда, а лицо было так прекрасно, что нельзя было найти равного». Но сколько благодаря коварной мачехе на ее пути было преград и препятствий! Даже див недоумевал:
– Как ты сюда попала? Ведь здесь такое место, где птица Симорг сбрасывает свои перья, богатырь роняет щит, а газель ломает свои копыта?
Но добро победило зло, как и должно быть на земле, как постоянно мечтают о том люди.
– Было это или не было, а только… – традиционно начал сказочник очередной сюжет. И Дима почему-то именно из-за этих слов вдруг отключился от окружавшей его действительности, будто та самая могучая Симорг перенесла его не спрашивая, хочет он или нет, на семь лет назад, в Москву.
…Весной тридцать первого года они кончили школу. Сколько же у всех было волнений, переживаний! И он и Марина до последнего дня, буквально до выпускного вечера, еще точно не знали, что же их привлекает.
А потом почти одновременно приняли довольно странные для обоих решения. Варгасов – так считали все, и он особенно не возражал, – должен был пойти в институт иностранных языков, Мятельская – в театральный… Ей внушили, что такая внешность и такой голос не должны пропадать. А решили они иначе: Дима будет юристом, Марина – врачом.
Подали документы в институты и стали готовиться. Целыми днями они сидели в библиотеке, обложенные такими горами книг, что их голов почти не было видно. Лишь в полдень позволяли себе что-то пожевать наспех – и снова за стол, к лампе с зеленым стеклянным абажуром. Вечером их шатало от переутомления и недоедания…
– Все! – сказала однажды Маринка. – Завтра устраиваем перерыв и едем в Серебряный бор. А то свихнемся! Наши сокольнические «лужи» – не выход из положения. Купаться – так купаться!
Дима не стал возражать.
Они с нетерпением ждали следующего дня и не знали, что он станет для Марины последним.
А потом он все видел словно сквозь какую-то дымку. «Скорую помощь», на которой их привезли (ее – мертвую, его – живого). Корпус больницы Склифосовского, куда Маринку, уже одну, внесли. Похоронную процессию и плывший над толпой гроб. А за ним, на стуле, что несли ребята, «бабуленька»: когда она все узнала, у нее отнялись ноги.
Они были почти на одном уровне – шестнадцатилетняя девушка в гробу и маленькая старушка на стуле, которая, не отрываясь, смотрела на белое, без капли румянца, застывшее лицо и, время от времени наклоняясь вперед, просила негромко: «Встань, Маринушка! Встань, доченька! Дай я лягу!»
Мерно, в такт шагам, покачивался гроб. Дурманно пахли разморенные июльским солнцем цветы, усыпавшие Марину. Шевелилась под порывами ветра ее непослушная каштановая челка.
С кладбища взрослые поехали к Мятельским домой, на поминки. А молодежь собралась у Лорелеи.
Сидели за столом тихие, некрасивые от слез и горя. А Маринка вроде была рядом, как в те разы, когда они врывались в небольшую комнатку Ани и устраивали в ней невозможный тарарам; просто вышла за чем-то на кухню. Пили ее любимый «Мускат», слушали ее любимые пластинки.
А потом Лорелея запела, как недавно, на выпускном вечере:
- Хотел бы в единое слово
- Я слить свою грусть и печаль…
Девчонки разревелись, парни начали сморкаться и откашливаться… А Дима сидел будто каменный: ни слезинки! На него косились, и лишь Ани все понимала: подходила без стеснения, гладила шершавой от мела ладонью по голове и смотрела с таким состраданием, что лишь ее лицо осталось в памяти от тех дней, не подвластное белой пелене, которая укутала все вокруг.
Как он сдавал экзамены, как потом сидел на лекциях – Дима почти не помнил. Все словно в полусне… Приходил немного в себя лишь на кладбище: сажая цветы, убирая могилу, просто устроившись на зыбкой скамеечке напротив улыбающейся с фарфорового овала Марины. Лишь бы никого вокруг не было: только она и он! Так вот и выбирал время, ожидая, когда удалятся пришедшие к ней или к тем, кто рядом.
И в день ее рождения, двадцать шестого октября – Маринке исполнилось бы семнадцать, – Дима издали следил, когда уйдут родственники, а потом сидел один до темноты, вспоминая все и вздрагивая от падавших на него с жестяным шелестом листьев. Так было из года в год… Так было прошлой, осенью, когда он уже знал, что прощается с Маринкой надолго…
– Сказка наша кончиться успела, а птичка в свое гнездо не прилетела…
Типичная для персидского фольклора концовка, такая же неожиданная для Димы, как и традиционное начало: «Было это или не было», вдруг вернула ему ощущение реальности и одновременно добавила грусти. Это точно! Птичка в свое гнездо не прилетела… Теперь вот он улетел из своего, оставив муттерчик одну. Все, о чем он попросил Горина перед выездом из Баку, – не забывать Варвару Ивановну…
Неподалеку от мастерской Кесслерам повстречался Алеша Величко. Немного поболтали втроем, потом Максим Фридрихович распрощался:
– Я пойду, что-то устал сегодня. А вы, наверное, еще поболтаете, молодые люди?
Приятели неторопливо прохаживались по пустеющей вечерней улице и говорили обо всем на свете: от грядущей войны до местных соблазнительниц…
– Да! – Алеша резко остановился. – Когда вы успели насолить этому хмырю?
– Какому?
– Кушакову, дядиному помощнику?
– Понятия не имею! – Дима пожал плечами. – Я с ним почти не знаком, отец тоже виделся всего пару раз…
– Странно… Ты знаешь, я сегодня был в резиденции и случайно услышал, как Матвей Матвеевич горячо доказывал, что вы – большевистские шпионы. Дядя сердился, возражал… Но тот твердил свое, требовал выяснений… И, знаешь, я припоминаю, что уже слышал подобные высказывания Кушакова, но очевидно, более завуалированные: поэтому-то я на них раньше не обращал внимания. А тут – и фамилия называлась и это идиотское слово «агенты»!
– Ну, почему же идиотское? Разведка существует тысячелетия…
– Возможно. Но вас с отцом она так же касается, как и меня, скажем, музыка! – У Алеши полностью отсутствовал музыкальный слух.
– Во всей этой глупой истории меня трогает только одно, – задумчиво сказал Дима. – Твой дядя резко изменился к отцу. Тот это почувствовал, и ему, конечно, неприятно. Давние друзья – и вдруг какой-то Кушаков… Откуда он, между прочим, взялся?
Поздним вечером тринадцатого марта тридцать восьмого года «Джим» отправил «Питеру» внеочередную радиограмму:
«Необходимо срочно навести справки о помощнике Величко Кушакове Матвее Матвеевиче, служившем, по его словам, два года назад в торговой сети Ростова и преследовавшемся якобы за несогласие с советской политикой. Заподозрил нас, всячески обрабатывает общественное мнение, мешает выполнению задания. В остальном все нормально. Привет близким».
ДОНЕСЕНИЕ ПОЛЬСКОГО ПОСЛА В ПАРИЖЕ
ЛУКАСЕВИЧАО БЕСЕДЕ С ФРАНЦУЗСКИМ МИНИСТРОМИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БОННЭ
Совершенно секретно. Париж 27 мая 1938 г.
Господину министру иностранных дел.
Варшава.
«Сегодня, в 11 часов 45 минут, я посетил министра Боннэ… Он сообщил мне, что имел беседу с генералом Гамеленом на тему о нашем стратегическом положении в случае, если Чехословакия будет занята немцами, и что французский штаб считает такое положение огромной и очень опасной угрозой для нас в военном отношении…
Затем министр Боннэ пространно, и явно делая упор на эту проблему, начал говорить об отношении к Советской России. Франко-Советский пакт является очень “условным”… Французское правительство хотело бы целиком опереться на Польшу и сотрудничать с ней… Министр Боннэ был бы очень доволен, если бы он мог в результате выяснения вопроса о сотрудничестве с Польшей, заявить Советам, что Франция не нуждается в их помощи».
– Как жизнь, Миша?
– Колесом, Сергей Васильевич! Крутится.
– А дела?
– Обещано к вечеру. – Денисенко прекрасно знал, что тревожит Горина.
– Тебе-то уже несколько дней обещают!
Миша виновато, развел руками:
– Сегодня сказали – наверняка.
– Не слезай с них, Мишаня. Лопатки должны коснуться ковра до сеанса связи. То есть – до двадцати одного ноль-ноль…
– Москвы.
– Ну, не Гринвича же! Мы тут еле-еле поворачиваемся, а над Кесслерами дамоклов меч висит. Одну опасность устранили – я имею в виду Кушакова, – другая тут как тут. Так что – вынь из кого надо душу, но вечером чтоб была ясность.
– Слушаюсь! – Денисенко, рубя шаг, пошел к двери.
Сергей Васильевич был не в своей тарелке. Он пытался работать, но ничего из этого не получалось. Мысли все время кружили вокруг Димы и Максима Фридриховича. Как трудно руководить на расстоянии! Давать советы, помогать… Пока найдешь какое-то решение, обстановка там может круто измениться. В тот раз, правда, успели вовремя.
Как только они получили от Кесслеров радиограмму о Кушакове, сразу же связались с Ростовом, особенно не рассчитывая на успех. Но фортуна на этот раз милостиво показала им свое лицо: Кушаков и впрямь работал в торговле, совершил крупную растрату и бежал в Иран.
Денисенко сначала обрадовался, а потом понял, что радоваться-то нечему. На этом проступке Кушакова им не выехать: Пауль Кесслер – тоже «растратчик», одного поля ягоды… Поэтому надо искать что-то, что по-настоящему развенчало бы в глазах Величко его фаворита… Но что искать и где?
– А если в Ленинграде пошуровать? – робко предложил Миша.
– Молодец! – Горин просиял. – Как это я упустил? Ведь ростовчане упомянули, что до них Кушаков работал в ленинградской милиции! Закажи, Мишенька, разговор с Питером. Вот тебе координаты… И с завтрашнего дня оформи мне туда командировку. Выеду сегодня же после разговора с Дорофеевым. Про билет не забудь! Думаю, Семен Ильич нам поможет… Он меня с детства за уши тянет. Если бы не Дорофеич – не иметь бы тебе, Денисенко, счастья служить под моим руководством.
А вечером Горин уже покуривал «Казбек» в мягком вагоне, куда заботливо водворил его Денисенко. Вечер и целая ночь – не малый отрезок времени, если не до сна, если в голове свербит одна и та же мысль, если предстоящая встреча настраивает на воспоминания.
Сереже Горину было десять лет, когда на русско-германском фронте погиб его отец – потомственный рабочий. А вскоре, сраженная этим известием и застарелой чахоткой, умерла мать. Мальчик остался под опекой старшего брата, шестнадцатилетнего Владимира. Тот с утра до ночи трудился на заводе, чтобы не отрывать братишку от учебы: пусть хоть один будет по-настоящему грамотным! Так и жили два пацана – сами себя обстирывали, сами себе готовили… Да добрые люди не забывали.
А осенью семнадцатого, когда началась революция, Владимир вступил в красногвардейский отряд, которым командовал рыжебородый крепыш Семен Дорофеев. Как ни настаивал старший брат, чтобы Сережа сидел дома, – тот ни в какую! Даже Дорофеев тут оказался бессилен: парнишка не отходил от Владимира ни на шаг.
Постепенно к нему настолько привыкли, что отдавали ему приказания, как солдату, и он, вскинув руку к буденовке и коротко бросив: «Есть!» – бежал исполнять. Так он «врос» в красногвардейские будни и в тринадцать лет стал бойцом.
Однажды отряду Дорофеева было поручено захватить здание в районе Никитских ворот, где забаррикадировались царские офицеры, вооруженные не только винтовками и пистолетами, но и пулеметом. Несколько раз дорофеевцы атаковали особняк – и неудачно: только людей теряли!
Мозговали, мозговали, что же предпринять, но ничего не могли придумать. И тут кто-то заметил, что заговорщики поддерживают связь с духовенством: только монахов они подпускают к дому и ведут с ними какие-то переговоры. Так родилась идея…
Семен Ильич вызвал Сережу, объяснил ситуацию и спросил, сможет ли тот сыграть роль юного послушника. Парнишка сразу согласился: наконец-то по-настоящему серьезное дело!
Увидев радость мальчонки, Дорофеев насупился:
– Это ведь не игрушки! Все может пулей кончиться, если они заподозрят что-то неладное. Поэтому зря радуешься, глупенький… Дело опасное и ответственное. Надо продумать каждую мелочь, чтобы все удалось!
Вечером маленький монашек пересек улицу, на которую выходил фасад дома, превращенного в крепость, и, несколько раз пугливо оглянувшись, постучал в парадную дверь. Тотчас наверху приоткрылось оконце, и кто-то выглянул. Убедившись, что у подъезда всего лишь служка, крикнул: «Круглов! Отвори…»
Но прежде чем дверь открылась, хриплый бас спросил: «Кто там?» – «Письмо от его преосвященства»… – негромко произнес Сережа и отпрянул от двери. Она чуть растворилась, в щель просунулась рука. Через секунду-другую, когда в нее ничего не вложили, массивная дверь распахнулась, и на пороге показался здоровенный детина, вооруженный с ног до головы. Он с удивлением глядел по сторонам в поисках пропавшего посланца.
Но продолжалось это недолго: не успел детина опомниться, как ему заломили руки и зажали рот люди Дорофеева, укрывшиеся у стен. А вскоре они уже были в особняке и мгновенно всех разоружили. Операция прошла без единого выстрела!
Сереже потом проходу не было: каждый норовил чем-нибудь его угостить, одарить, сказать ласковое слово… С чьей-то легкой руки мальчика стали величать не иначе как «наш Монашек».
Через полтора года брат уехал воевать в Сибирь. А Сережа под присмотром Дорофеева или его помощников, когда того не бывало, стал учиться в школе. Но едва он успел ее закончить, как вдруг потребовался Семену Ильичу, работавшему уже в ВЧК, для одного важного дела…
…Шел двадцать третий год. Интервенция и Гражданская война остались позади. Но Советская Россия была окружена так называемым «санитарным кордоном»: крупнейшие капиталистические государства уповали на то, что более мелкие, прилегающие к России, не только станут защищать Запад от проникновения туда «красной заразы», но и, соблазненные богатством, лежащим у них буквально под носом, не выдержат и кинутся вновь на Советы.
Этого хотели, конечно, не все. «Человек с улицы», как выражались англичане, едва оправившийся от тяжелейшей мировой войны, в результате которой десять миллионов пало в бою, двадцать – стало инвалидами, тринадцать – умерло от голода и эпидемий, несчетное количество людей осталось без крова над головой, жаждал, наконец, мира и тишины. Но не тут-то было… Ведь не этот самый «человек с улицы» делает политику!
Еще вырабатывая условия Версальского договора, когда поля сражений буквально дымились от крови и пороха, французский премьер-министр Клемансо, прозванный за свой необузданный нрав «Тигром», и английский премьер-министр, хитрый, изворотливый Ллойд-Джордж, заслуживший кличку «Уэльский лис», переругались из-за Германии, военный потенциал которой Англия всячески пыталась сберечь, надеясь, что именно немцы со временем уничтожат Советскую Россию, а Франция, исконно ненавидевшая Германию, требовала, устами «Тигра», ее расчленения.
В секретном меморандуме английского Министерства иностранных дел в первые послевоенные годы указывалось:
«…Хотя в настоящий момент Германия абсолютно не способна на агрессивные действия, однако нет сомнений, что при наличии большого военного и химического потенциала она рано или поздно станет снова мощным военным фактором. Очень немногие немцы серьезно помышляют о том, чтобы направить эту мощь, когда она будет обретена, против Британской империй».
Сказано все без обиняков, за исключением того, против кого же немцы, нарастив свою милитаристскую мощь, хотели бы направить свое оружие. И хотя Россия в качестве объекта нового нападения в этой секретной записке не упоминалась, она незримо присутствовала там.
Россия в результате Гражданской войны и интервенции потеряла семь миллионов человек, погибших в боях, от голода и болезней. Материальный ущерб исчислялся в шестьдесят миллиардов долларов! Однако это никого не волновало.
Пока поверженная Германия подымалась с колен, пока главы крупнейших капиталистических государств раскладывали свой антикоммунистический пасьянс, в двадцати трех пунктах земного шара по-прежнему шла неправедная война.
Япония захватила китайские территории и расправилась с освободительным движением в Корее…
Британские войска жестоко подавляли народные волнения в Ирландии, Афганистане, Египте, Индии…
Французы сражались в Сирии с друзскими племенами, которые были вооружены пулеметами английской марки «Метро-Виккерс»…
Во многих местах, далеких и близких, велись большие и малые сражения, в результате которых гибли ни в чем не повинные люди.
В то же время большинство русских белоэмигрантов, расползшихся по всему свету, подливали масло в незатухающий огонь, ратуя за новый крестовый поход против Советов, не гнушаясь никакими методами, не брезгуя самыми унизительными подачками.
К двадцать третьему году в Германии проживало полмиллиона русских, во Франции – больше четырехсот тысяч, в Польше – около ста тысяч. Десятки тысяч нашли приют в Прибалтике и на Балканах, в Китае и Японии, Канаде и Южной Америке. Лишь в Нью-Йорке обосновалось более трех тысяч эмигрантов со своими семьями!
Часть из них была просто напугана революцией и тихонько ждала, во что же это все выльется. Но многие являлись ярыми врагами советской власти и упрямо собирались с силами, чтобы нанести ей смертельный удар.
В один из январских вечеров двадцать третьего года в кабинет Дорофеева ввели женщину, которая ничего не захотела рассказывать дежурному, а требовала свидания с «самым главным начальником». Она долго разматывала свой платок, расстегивала залатанный полушубок и, наконец, когда у Семена Ильича иссякло всякое терпение, объявила:
– Козина я, Аграфена… – и замолчала.
– Что же дальше, товарищ Козина?
Женщина растерялась, заерзала на стуле, начала зачем-то поправлять неопрятные волосы.
– Так я слушаю вас! Что случилось-то?
– Даже не знаю, господин… товарищ начальник, с чего и начать…
– А с начала…
Женщина задумалась. Потом выдавила из себя:
– Живем мы с мужем, значит, на Софийской набережной, в доме старых наших господ… Я у них была в куфарках, а муж мой, Прохор, в дворниках…
– Что это за господа? Где они сейчас?
– Норкины это. Норкины! Барин, Михал Аркадич, служил в директорах банка. Когда стряслась революция, он был в загранице, в Парижу, кажись… Так он и не вернулся! А барыня, Елена Кинстинтинна, вскорости померла с горя. Остался только ихний сынок, Петруша. Жил в одной комнате: весь-то дом сиротам отдали!
– Ну а дальше что? – Дорофеев был занят по горло, а тут всякие Норкины с их переживаниями…
. – А дальше Петруша тоже помер – барчук с детства хлипкий был.
Семен Ильич встал из-за стола, намереваясь прекратить беседу, как вдруг Козина запустила руку за пазуху и вытащила сильно помятый конверт с латинскими буквами и яркой крупной маркой.
– Мы уж схоронили Петрушу, а потом вот принесли… Прохор и говорит – беги в полицию, ой, в милицию, раз по-заграничному написано. Я и побегла! А оттуда к вам послали…
Дорофеев распечатал конверт и, мобилизовав свои скудные знания французского, прочел:
«Милый Пьер!
Простите, что называю вас так. Но вы для меня тот самый малыш, о котором так много рассказывал Ваш отец, незабвенный Михаил Аркадьевич. Мы с огорчением узнали с ним о неожиданной смерти Вашей матушки. А вскоре заболел и сам Михаил Аркадьевич. Перед кончиной он просил меня, самого близкого его друга, позаботиться о Вашей судьбе.
Уже год, как я похоронила дорогого Мишеля, но лишь сейчас нашла в себе силы написать Вам и выполнить последнюю волю покойного. Он очень хотел, чтобы Вы приехали в Париж жить и учиться. Средств Ваш батюшка оставил вполне достаточно.
Сообщите мне, возможно ли это. Если да, то я начну хлопотать.
Уважающая Вас Жозефина Ланти.
10 января 1923 года.
P. S. Мой адрес – на конверте».
Дорофеев призадумался. Аграфена Козина следила за ним настороженным взглядом: чем все это обернется для нее и мужа?
– А где вещи Петра?
– Какие там вещи! Он ведь, болезный, не работал, вот и продавал все помаленечку. А комнату Петруши милиция сразу же закрыла и сургучом припечатала! Да, остался, кажись, у него только сундучок со всякими бумажками, а барахлишка нет никакого…
На следующий день Дорофеев перебирал дневники Елены Константиновны, ветхие письма, документы, фотографии. Особенно долго он рассматривал ту, где Петр был снят уже взрослым. Слегка вьющиеся, откинутые назад волосы, небольшие светлые глаза, безупречной форма нос, красивый рот. Кого же он напоминает? Кого?
Дорофеев занимался своими делами, в перерывах читал содержимое сундучка госпожи Норкиной и все мучился: ну, кого все-таки ему напоминает покойный Петр? И вдруг его осенило: Сережу Горина! Сходство – удивительное…
И вот тут-то Дорофеев придумал одну штуку.
– Поедешь в Париж, к мадам Ланти, – ошарашил он срочно вызванного Сергея. А увидев, что тот буквально онемел от удивления, протянул снимок.
– Я и не знал, что ты посещаешь таких дорогих фотографов: картон, золотое тиснение… А костюмчик-то какой! На прокат, что ли, брал?
Сергей внимательно рассматривал портрет и ничего не понимал.
– Только не отрицай! – наслаждался Дорофеев. – Жду чистосердечного признания…
– У меня, Семен Ильич, вообще нет ни одной фотографии!