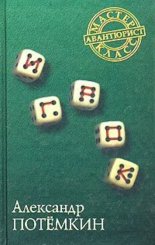Конец – молчание Гордеева Валерия

– Так это ты или не ты?
– Не знаю! Не я вроде, и в то же время – похож.
– Ладно уж, не буду тебя больше мучить! Не ты это, конечно… Дворянин один – Петр Норкин, сын уехавшего в Париж еще до революции директора банка. Тот недавно умер. Умерла здесь и его жена. Умер и этот самый Петр. Я навел справки – никого из родственников в живых не осталось. Так что через некоторое время ты превратишься в юного Норкина и отбудешь во Францию по приглашению этой самой Ланти, очевидно, любовницы папаши.
– А как же учеба?
– Это для тебя будет такой университет, что потом век станешь благодарить Дорофеева! – И Семен Ильич запустил пятерню в свою кудлатую бороду; таким образом он ее расчесывал, когда пребывал в хорошем настроении.
И вот Сергей Горин с небольшим чемоданчиком, в котором сложен семейный архив – все, что осталось от богатства Норкиных, – приближается к Парижу, где его с нетерпением ждет мачеха. Роль монашка, как показала многомесячная подготовка, была пустяком по сравнению с тем, на что в этот раз пошел Сергей.
Да, он тогда тоже рисковал. Но все это длилось несколько минут! А тут ехал в чужую страну, к чужим людям, в чужом обличье. И не дай бог где-нибудь ошибиться, сорваться!
Жозефина Ланти, по-матерински тепло встретившая Сергея на вокзале, оказалась миловидной женщиной лет тридцати. Вспомнив покойных отца и мать «бедняжки Пьера», столько натерпевшегося в «этой дикой стране», она даже прослезилась.
Но уже в такси, по дороге в тихий буржуазный квартал Отей, к норкинскому особняку, забыла и о страданиях милого мальчика и об ужасах большевизма. Самочувствие попугая, ошарашившего Сергея словами: «Пошел вон, идиот!», гораздо больше волновало Жозефину, чем все революции, вместе взятые. Слегка пожурив беспардонную птицу, жизнерадостная мадам Ланти показала Сергею его апартаменты, объяснила, в какое время они будут встречаться за столом, и куда-то упорхнула.
Немного осмотревшись и пообвыкнув, Сергей начал усиленно готовиться к поступлению в университет. А в свободное от зубрежки, чинных трапез и выходов в свет, куда Сергей покорно сопровождал мачеху, время он бродил один по Парижу. «Но не столько, чтобы отдохнуть от своей опекунши или познакомиться с историческими местами знаменитого города, сколько для того, чтобы выполнить порученное ему Дорофеевым дело: Сергей должен был связаться с «младороссами».
Больше всего ВЧК интересовал бывший офицер Преображенского полка Виктор Ростиславович Муромцев, один из активнейших членов этой организации, непосредственно занимавшийся налаживанием связей с Советской Россией. (А если говорить точнее – засылкой туда своих агентов.)
Однажды в воскресенье Сергей забрел на улицу Дарю. Там, около православного собора, всегда толпилось много эмигрантов, пришедших сюда не только ради службы, но и чтобы пообщаться, поделиться последней новостью, последним слухом. Новостей, правда, было немного – больше сплетен, как в эмигрантских газетенках «Возрождение» и «Последние новости». Да и о каких «новостях» могла идти речь, если уже почти никому не удается вырваться из «большевистского ада»?
Сергей рассеянно ходил по двору, любовался архитектурой собора, потом спросил у пожилого, одиноко фланирующего господина с тросточкой, есть ли поблизости еще русские церкви. Тот внимательно посмотрел на Горина сквозь старинный монокль и, не отвечая, поинтересовался:
– Вы недавно в Париже?
– Меньше месяца.
– А откуда, разрешите полюбопытствовать, прибыли-с?
– Из Москвы.
Через несколько минут Горин был в тесном кольце сгоравших от нетерпения людей. А еще через некоторое время все сгрудились вокруг Сергея уже в небольшом погребке, напротив собора, мешая половым обслуживать нежданно-негаданно подваливших гостей. Вскоре благодаря таявшим во рту блинам с икрой и немалому количеству прозрачной, как слеза, «смирновской», щедро заказанным богатым наследником старого Норкина, Сергей стал своим человеком в этой разношерстной компании.
В ближайшую неделю он познакомился с различными русскими «знаменитостями», а потом Сергею повезло: нелюдимый Виктор Ростиславович Муромцев пригласил Петра Норкина к себе – так велико было желание поговорить с человеком «оттуда».
Жили Муромцевы в скромной двухкомнатной «меблирашке», неподалеку от моста Сен-Мишель. По всему чувствовалось, что это – временное жилье: ни уюта, ни тепла… Виктор Ростиславович был переполнен планами переустройства политической системы России. А жена его, работавшая корректором в эсеровской газетке «Дик», вообще витала в облаках, считая себя талантливой поэтессой, и с утра до ночи страдала, ибо «жизнь сломалась».
– Да-а-а, знавал я вашего батюшку… – задумчиво произнес Муромцев, помешивая ложечкой плохо заваренный чай. – Добрейший был человек, ничего не могу сказать! Безотказно помогал нашей организации. Но вот повстречалась ему эта шансонетка…
– Мадам Ланти? По-моему, она вполне приличная женщина, – горячо запротестовал Сергей. – Ухаживала за больным отцом, выполнила его последнюю волю…
Муромцев от души расхохотался.
Сергей поспешил обидеться:
– Что же тут смешного, Виктор Ростиславович? Разве это не так?
– Так, мой мальчик, так… – Муромцев вновь стал серьезным. – Но вы настолько молоды, что не в состоянии проанализировать истинные причины, которые руководили этой «приличной» женщиной. Попробую помочь вам, ибо с такими делами вы, друг мой, столкнулись впервые…
Муромцев отхлебнул остывший чай и продолжал:
– Все финансовые дела Михаила Аркадьевича вел известный русский адвокат Нил Кузьмич Набоков. Ему же ваш отец оставил и завещание, в котором говорилось, что особняк и деньги принадлежат только вам. С единственной оговоркой: одну треть вы должны выделить мадам Ланти. После смерти Михаила Аркадьевича эта дама сразу же бросилась оспаривать завещание. А когда ей не удалось, когда она поняла, что без вас не сможет получить даже оговоренную третью часть, тогда она послала вам трогательное письмо, вспомнив наконец о последней просьбе покойного…
Видя, что Сергей повесил голову, Виктор Ростиславович усмехнулся:
– Хотелось бы, чтобы в вашей жизни крупнее разочарований не было! Но судьба – коварна и страшно любит потешаться над смертными. Да не расстраивайтесь вы так! То ли еще будет! Быстрее оформляйте свои дела и гоните в шею этот позор вашего батюшки, который и свел его преждевременно в могилу. А пока – расскажите-ка мне поподробнее о России, о своих политических взглядах…
Сергей говорил не очень вразумительно, стараясь внушить Муромцеву, что он слабо разбирается в политике, что никакой собственной «платформы» у него нет. Он очень хотел учиться, но в Москве пути ему были закрыты… Как бы случайно обмолвился, что никогда не простит новой власти отношения к семейству Норкиных. Будь у него хоть какие-то возможности, он бы отомстил за все…
Муромцев встрепенулся и стал более внимательно вслушиваться в бормотанье своего собеседника. Глаза его под темными веками горели каким-то безумным огнем.
– У вас есть в Москве знакомые?
– Немного. После смерти мамы я старался поменьше встречаться с людьми.
– А все-таки?
Сергей, подумав, назвал несколько фамилий, подсказанных Дорофеевым. Не требовалось быть чересчур внимательным, чтобы заметить, какая из них произвела на Муромцева наибольшее впечатление. Из всех «бывших», устроившихся на службу к Советам, Виктора Ростиславовича привлек в первую очередь Логинов, работавший в Главном штабе Красной армии, – дальний родственник Петра Норкина по материнской линии, в прошлом царский офицер.
– Как жаль, что мы не были знакомы до вашего отъезда из России… – думая о чем-то своем, медленно произнес Муромцев. – Но ничего… Все еще поправимо!
Прошло несколько месяцев. За это время многое изменилось. Горин стал своим человеком среди эмигрантской элиты: очень помогал этому его тугой кошелек… Получив причитавшуюся ей долю, исчезла из обветшалого особняка мадам Ланти.
Когда она уехала, добродушно похлопав Сергея по щеке, на Горина навалилась непривычная тишина огромного мрачного дома. А потом он оценил этот неожиданный подарок – тишину. Стало очень удобно заниматься – экзамены-то были на носу!
Нo тут Муромцев, с которым у Сергея наладились весьма тесные отношения, сидя однажды за безвкусным чаем в неприбранной квартире, ошарашил своего молодого друга:
– С Сорбонной, Петр, придется подождать.
– Как так? Я вас не понимаю, Виктор Ростиславович!
– Помните, вы говорили, что, будь у вac сила и так далее, вы отомстили бы большевикам за свою семью? Помните?
– Конечно, помню!
– Пришло, Петенька, время, когда в этом плане можно что-то сделать… Ведь, став «младороссом», вы, очевидно, начали разделять и наши убеждения?
В тот вечер Муромцев посвятил Горина в свои планы. Им предстояла секретная поездка в Россию с нелегальным переходом границы: для проверки работы организации, для интенсивной вербовки новых кадров… Помочь на первых порах должны люди, которых называл Норкин. В частности, тот человек из Главного штаба…
Логинов, к которому они, дождавшись, пока августовские сумерки тщательно укутают город, явились, был не рад визиту. Это не укрылось от Муромцева.
– Всего две-три ночи, Александр Леонидович, – успокоил он хозяина. – Потом нам что-нибудь подыщут…
– Вы и меня поймите, господа! – Логинов не находил себе места. – Хоть ко мне в штабе и сносно относятся, но помнят, что я – офицер царской армии…
– Но…
За спиной дяди Саши Сергей сделал Муромцеву знак, чтоб тот особенно не дискутировал: Логинов поворчит-поворчит, и все обойдется. Не выгонит же он на улицу усталых и голодных людей! Так и произошло.
А утром, когда, наспех побрившись и поев, дядя Саша пошел на цыпочках к двери, стараясь не разбудить гостей, Сергей увидел, что Муромцев не спит. Не успела за хозяином закрыться дверь, как он вскочил и бросился вслед: стало ясно, что всю ночь пролежал под одеялом одетым!
Через час Виктор Ростиславович вернулся с какими-то свертками и весело выговорил Сергею:
– Что же вы чаек не поставили? Мы могли бы уже и завтракать…
– Да я как-то… Честно говоря, не очень все понял…
Муромцев наморщил лоб, стараясь сообразить, в чем же дело.
– Ах, вы, Петенька, об этом? – Он с усмешкой провел рукой по синей сатиновой косоворотке. – Некогда раздеваться-одеваться – надо было проводить вашего дядю до штаба посмотреть, там ли он работает, не изменилось ли что… Так где же чайник? Я на обратной дороге раздобыл кое-что съестное.
Примерно через месяц горинская миссия подходила к концу: хотя осторожный Муромцев на свои встречи обычно не брал Сергея, все они были зафиксированы, так как главный «младоросс» находился под контролем чекистов.
Сергей с минуты на минуту ждал сигнала Дорофеева, чтобы исчезнуть с «конспиративной» квартиры (от Логинова они почти сразу же ушли), когда Муромцев неожиданно позвал Горина с собой. Сергей крайне удивился: во-первых, день был в разгаре, а Виктор Ростиславович старался обделывать дела в темноте, во-вторых, зачем он ему понадобился?
По дороге к месту встречи кое-что прояснилось: Виктор Ростиславович, долго наблюдая за Сергеем, видно, все же пришел к выводу, что ему можно доверять, и решил познакомить с одним из своих людей, чтобы они после возвращения Муромцева в Париж работали вместе. Ну а день – он тоже не всегда страшен… В толпе народа перемолвиться с кем-то словечком-другим и потом разойтись в разные стороны – что может быть безопаснее?
Встреча – как бы совсем случайная – состоялась на углу Садовой и Плющихи, в многолюдном, суматошном месте: все как раз возвращались с работы. Не спеша завернули в ближайший переулок, потом вошли в какой-то сумрачный подъезд…
Ксенофонтов, в прошлом белый офицер, оказался человеком огромного роста, с ручищами молотобойца. Он скользнул равнодушным взглядом по изящной фигуре юного Норкина, которого Муромцев ему представил, и отвел глаза, вероятно, разговор о нем состоялся раньше.
«Какой-то замороженный мамонт! – с неприязнью подумал Сергей. – И туда же, в политику, в заговоры!» А между старыми «младороссами» уже текла неспешная беседа, начало которой Горин как-то пропустил:
–ѕ…Вот до сего дня и кручусь. Но ничего пока не выходит!
–ѕ Да, это было бы весьма кстати… Там у нас, правда, есть один человек! Но ведь чем больше, тем лучше? Вам кто-нибудь помогает?
– Конечно! В Главном штабе работает брат жены, бывший царский полковник. Именно он оказывает протекцию. Но все дело упирается… – Ксенофонтов, пряча в громадных ладонях огонек спички, замолчал. Сделав несколько глубоких затяжек, он снова заговорил: – Все упирается в одну штабную сволочь. Этот тип, тоже в прошлом офицер, продал красным многих наших. В том числе и моего двоюродного брата…
– Как так? – нахмурился Муромцев.
– А так! Несколько лет назад группа офицеров хотела уйти за границу. Если не вышло тихо, пробивались бы с оружием в руках. Так тот самый тип сначала их отговаривал, а потом сообщил в Чека. Только брату удалось скрыться… Мы с ним сейчас частенько коротаем время за рюмкой коньяку: еще сохранились кое-какие запасы. Когда я рассказал брату, кто стал на моем пути, его чуть удар не хватил!
– Фамилия этого штабиста?
– Логинов.
Сергей почувствовал, как что-то внутри оборвалось и ухнуло вниз.
– Имя? – Муромцев не смотрел на Горина, так же как и тот на него. Но по заострившейся вдруг скуле худого лица Виктора Ростиславовича, которую краем глаза видел Сергей, он понял, что сейчас произойдет нечто страшное…
– Имя? Чтоб мне век его не слышать! Александр Леонидович.
– Та-ак… – Муромцев на секунду прикрыл глаза и тут же торопливо стал прощаться с Ксенофонтовым. – Ну, ты иди, иди… А мы тут немного побеседуем…
«Может, еще есть выход? – промелькнуло в голове Горина. – Мало ли что наговорит какой-то там двоюродный брат, накачавшись коньяком! Или все-таки бежать? Нет, надо повременить… Один он со мной все равно не справится. Вдруг я все-таки сумею его переубедить?»
Но Горин ничего не успел сказать Муромцеву: страшная боль ослепила его. Схватившись руками за грудь, Сергей сделал несколько шагов. Последнее, что он услышал, прежде чем рухнуть на каменный пол, было имя, с которым он сросся за полгода:
– Прощай, Петр Норкин!
И снова Горина что-то ослепило: в дверь, через которую выскользнул на улицу Муромцев, на миг ворвалось солнце…
Очнувшись после операции, Сергей увидел над собой рыжебородое лицо. Горин хотел спросить Дорофеева, как дела, и не сумел разлепить спекшиеся губы.
Но Семен Ильич, словно угадав мучивший раненого вопрос, быстро-быстро закивал:
– Порядок. Все гаврики у нас.
«А Муромцев?» – Горин опять не сумел заговорить.
И снова Дорофеев его понял. Но по тому, как он жалостливо глянул на Сергея, как осторожно погладил его восковую руку своей широкой ладонью, Горин безошибочна угадал: плохо.
«Ушел?» – глазами спросил он Дорофеева.
– Ушел… – качнул тот головой и снова погладил руку Сергея – такую прозрачную и бескровную на фоне грубого коричневого одеяла.
Сергей опустил тяжелые веки. Испуганный Дорофеев кинулся за врачом. И вовремя! Прямо как тогда, в подъезде, когда о Горина споткнулась какая-то старушка с ведром. Медики подшучивали после: «Хорошо, что нож прошел мимо сердца, а бабка мимо не прошла».
Только через год Сергей окончательно оправился и, с благословения Семена Ильича, поступил на рабфак, потом, в институт. Все пять лет Дорофеев с него глаз не спускал и, как только Сергей собрался получить диплом, вызвал его.
Сначала Горин расстроился. Ну что ж это такое? Учился, учился – и на тебе!
Семен Ильич в ответ рассердился:
– А в ОГПУ, по-твоему, неучи должны работать? Ты же ѕ прирожденный чекист, можно сказать, с детства этим занимаешься… Тебе и карты в руки! Даже времени на раздумье не дам! Объясни ситуацию своей Соне, в мировом, конечно, масштабе. Она – женщина не глупая, сама историк, должна все понять правильно… И изволь приступать. Если уж не ты, Горин, то кто же тогда? Работы у нас – невпроворот!
Семен Ильич встал из-за стола, обнял растерянного Сергея.
– И переваливать ее не на кого. Тут, понимаешь, есть данные, что уже года два-три, как у немцев началось серийное производство танков, что вовсю идет работа – теоретическая и экспериментальная – над усовершенствованием орудий и брони для военных кораблей. А ты пирамидами хочешь заниматься да мумиями разными? Подождут они… Тысячи лет ждали и еще немного потерпят!
– Вы думаете, будет война?
– А сам как считаешь? – прищурился Дорофеев, и его светло-рыжие ресницы почти сомкнулись, не давая разглядеть глаза, всегда напоминавшие Гарину спелые ягоды крыжовника.
– Мд-а-а… «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои…»
– Это что? – Рыжие ресницы распахнулись, а два зеленых глаза с интересом уставились на Горина. – Отлично сказано!
– Библия эта. Если в ней правильно расставить акценты – прекрасное моральное руководство для людей… Но сказано, видно, не для немцев, хотя писано вроде для всех!
– Не для тевтонцев! – поправил не историк Дорофеев историка Горина.
И оба засмеялись: главный вопрос был решен.
Так Сергей Горин снова – и уже окончательно – пришел в ЧК, вернее, в ОГПУ, как с двадцать третьего года стала называться Чрезвычайная комиссия.
Пассажиры давно угомонились, а Сергей Васильевич еще стоял в коридоре поезда, у окошка. Сколько же они не виделись с Дорофеевым? Пожалуй, года четыре… Да, никак не меньше! То Горина нет в Москве, когда тот приезжает из Питера, то – наоборот. Жаль, что они не вместе… Как им отлично когда-то работалось!
И вот через несколько часов они наконец-то свидятся: Горин и Дорофеев, его первый красный командир, его первый чекист-наставник, от которого он перенял многое, даже нелегкий, неуживчивый, как считали некоторые сослуживцы, характер…
«Сумеет ли Дорофеев помочь? – думал Горин. – Найдет ли какие-нибудь компрометирующие материалы на Кушакова? Неужели Кесслеры погорят на такой же случайности, как он тогда с Муромцевым?»
Входя в кабинет Семена Ильича, Горин здорово волновался: каким стал Дорофеич? Наверное, состарился? Но навстречу ему шагнул все тот же рыжий коренастый крепыш, какого он знал много лет. И его «крыжовины», все такие же ясные и прозрачные, сразу впились в лицо Сергея Васильевича, тоже, видно, ища в нем перемены. Но оба, кажется, остались довольны друг другом.
– Я тебе тут, Сергей, кое-что приготовил… – Дорофеев запустил пальцы в густую, как и прежде, лишь чуть тронутую серебром бороду: значит, был в хорошем расположении духа. – Уж не знаю, сгодится, нет ли, но по тому, что ты успел сказать мне по телефону, думаю, что поможет вам…
И он протянул Горину цветную журнальную вкладку.
Сергей Васильевич смотрел на снимок и ничего не понимал. Дорофеев не стал его слишком томить.
– Это Кушаков Матвей Матвеевич, – ткнул он коротким веснушчатым пальцем в какого-то человека в милицейской форме. – Случайно попал, в кадр во время приезда группы иностранцев. Очень берег этот снимок и гордился им…
– Вы можете дать мне его, Семен Ильич?
– Конечно! Только в тамошней эмигрантской библиотеке, уж поверь мне, имеются все подшивки. Сообщи своим год, номер журнала – вот тут он записан – и лады! Вряд ли новым хозяевам этого уголовника, выдающего себя за политического борца, понравится, что он служил в советской милиции! – Дорофеев расчесывал пятерней кудлатую бороду, и Горин сразу же успокоился: понял, что на этот раз все обойдется…
И правда – обошлось! Сергей Васильевич не преминул сообщить об этом, уже из Москвы, Дорофееву.
Но до чего же Сергей Васильевич с Денисенкой измаялись, пока не получили от «Джима» успокоительную радиограмму! А каково в то время было самим Кесслерам? От них отвернулся даже старый приятель!
Зато они полностью вознаградили себя, когда Максим Фридрихович, как всегда сдержанный, лишь чуть бледнее обычного, положил на стол Величко раскрытый на нужной странице журнал:
– Не думал, Гриша, что ты выберешь себе в помощники большевистского полицейского…
Надо было видеть в тот момент лицо руководителя русских фашистов!
В ту же ночь Кушаков, у которого Величко потребовал объяснений, исчез из Тегерана. А Кесслеры вскоре были торжественно приняты «в русскую национал-фашистскую революционную партию», с чем их незамедлительно поздравил Горин. А вскоре с ними захотел познакомиться сам герр Редер, крупный нацист, живущий в Иране под видом коммерсанта, но выполняющий, конечно, совсем другие функции, а заодно присматривающий за русскими фашистами.
Это уже было что-то! С его помощью, особенно пока Кесслеров не тревожит Шелбурн, можно легально попасть в Берлин…
И вдруг – снова тревожная радиограмма, в которой Дима спрашивал, как им поступить. А что ему сразу мог ответить Горин? Надо было наводить справки, советоваться… Денисенко, правда, с ходу поднял на ноги всех и вся! Но результата пока никакого. Надеется выяснить сегодня… Но удастся ли?
Сергей Васильевич поймал себя на том, что стал по-стариковски ворчать и брюзжать. Скоро еще сам с собой разговаривать начнет! Одного такого он видел как раз сегодня на улице: идет, руками размахивает, губами шевелит… И выражение лица все время меняется, видно с кем-то спорит: то за себя что-то говорит, то за своего противника… Смотреть со стороны страшно.
Зашла Вероника Юрьевна и поставила перед Сергеем Васильевичем стакан чаю с кружком лимона на блюдечке. Не сказав ни слова, неслышно вышла из кабинета и плотно прикрыла за собой двойные двери.
Впрочем, новая секретарша, сменившая их Прасковьюшку, всё делала прекрасно. Прасковья Егоровна, беднячка, прошедшая всю Гражданскую войну, была добрая, справедливая, но секретарь, конечно, никакой. А эта – будто родилась для такой работы, хотя по специальности – инженер-экономист… Ничего ей не надо повторять, ни о чем не надо дважды просить. Сама зайдет, напомнит – как только догадывается, что забыл? – и тихонько уйдет.
Вчера Горин забыл купить Надюшке обещанные конфеты. Спохватился уже дома: «Ой, доченька, совсем из головы выпало…» Она посмотрела на него с укором, исподлобья: «Так ты бы поднял!»
А тут, на работе, Вероника Юрьевна за него частенько «поднимает»: то что-то важное напомнит, то именно тогда, когда ему надо переключиться или рассеяться, впустит самого подходящего в такой момент человека, несмотря на запрет, то, зная, что Горину требуется побыть одному и сосредоточиться, не позволит войти даже тому, кто обычно входит без доклада. И все – спокойно, без лишних слов, почти неприметно…
Сама же она была очень приметная: высокая, худощавая, с несколько смугловатым лицом, на котором какими-то чужими казались миндалевидные глаза цвета морской волны, с гладкозачесанными, собранными в пышный узел черными волосами. Она напоминала ему египтянку, какими видел их на древних плоскостных рисунках.
Месяц назад он водил дочек в Планетарий. И вдруг на глобусе звездного неба, среди сотен названий он выловил одно: «Волосы Вероники…» А Горин и не знал, что есть такое созвездие!
Все это было дико. Все это было не нужно. Но он ничего не мог с собой поделать. Будто сам призвал несчастье на свою голову, горюя когда-то о том, что истинная страсть, истинные страдания и радости обошли его стороной. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; и жестока, как ад, ревность, стрелы ее – стрелы огненные…»
Горин вдруг затосковал, да так, что даже сердце заныло: а разве только на него все это свалилось? А Верочка с Надюшкой? А Соня, на которой уже лица нет? Даже он, толстокожий по отношению к ней, и то заметил!
А ведь были между ними и ласка, и нежность, и понимание? Куда же все делось? Разве может бесследно исчезнуть то, что было? Или всего этого не было? Или было, но не настоящее? Логика – жестокая штука. Можно до такого договориться, что жить не захочется!
Возможно, это – лишь временное помутнение рассудка? И, если не распустить себя, не дать этому разрастись, все станет прежним? Опять будет улыбаться Соня, опять будут куролесить девчонки – они тоже что-то притихли.
Сергей Васильевич тоскливо смотрел на усеянное чаинками колесико лимона на дне пустого стакана. Как же это было в тех стихах; что вспоминал по какому-то поводу Дима, когда они втроем коротали вечер, дожидаясь важных вестей? Варгасов знал много стихов, вроде даже сам писал, но читал всегда только чужие. Особенно хорошо и много, если под настроение… Что же в тот вечер больше всего потрясло Горина? Да и Денисенку, кажется, тоже? Ах, да – Тютчев!
Что-то царапнуло тогда, словно предостерегая:
- О, как убийственно мы любим,
- Как в буйной слепоте страстей
- Мы то всего вернее губим,
- Что сердцу нашему милей!
Горин встал и зашагал по кабинету: благо не было свидетелей… А в голове звучали, будто именно в его сердце рожденные, строки:
- И что ж теперь? И где ж все это?
- И долговечен ли был сон?
- Увы, как северное лето,
- Был мимолетным гостем он…
Как всегда, неслышно вошла Вероника Юрьевна забрать стакан. И Горин, растерявшийся оттого, что она застигла его врасплох, а главное, не за столом, не за работой, замер посреди комнаты, как мальчишка-курильщик, схваченный родителями за руку. В этот раз, перед тем как уйти, Вероника Юрьевна внимательно посмотрела нa Горина и неожиданно спросила?
– Простите, Сергей Васильевич, сколько вам лет?
Горин опешил.
– Тридцать четыре как будто… Да, тридцать четыре.
– А мне недавно стукнуло тридцать восемь. Уже тридцать восемь! Хотя если учесть, что сыну моему – восемнадцать, то не так уж и много, да? Вашей старшей – семь?
– Девятый пошел…
– Вот и невеста для моего жениха подрастает? Может, обручим? Разница – неплохая, как в добрые старые времена…
Вероника Юрьевна старалась говорить шутливо, но Горин чувствовал, что она прекрасно видит его состояние и это тоже выводит ее из равновесия.
Она вдруг подошла к нему, замершему посреди кабинета, и сказала:
– Одна моя давняя приятельница, занимающаяся той же работой, что и я, завела роман со своим шефом. После этого она совершенно перестала для меня существовать. Хотя для многих все это – вполне естественная вещь! А вы, как считаете, Сергей Васильевич?
Держа в левой руке блюдце с пустым стаканом, она вдруг дотронулась пальцами до своего виска, поправляя волосы, и смущенно сказала:
– У меня уже много седых… Я только их прячу! Поэтому будем лучше думать о ваших девочках и моем Артеме. Ладно?
Уже у двери Вероника Юрьевна медленно, как-то через силу, обернулась – Горин все так же стоял посреди огромной комнаты, одинокий и несчастный.
– Может, мне перейти куда-нибудь, Сергей Васильевич? – В ее голосе уже не было ни прежней силы, ни уверенности…
Он хотел крикнуть: «Нет! Ни в коем случае! Почему отдел должен терять отличного работника?», но лишь отрицательно покачал головой. А когда за Вероникой Юрьевной тихонько закрылась дверь, доплелся до своего кресла и, уронив кулаки на стол, уткнулся в них тяжелым, будто свинцом налитым, лбом. В таком виде и застал его Денисенко.
– Вы не заболели, Сергей Васильевич?
– Нет, все в порядке, Миша…
– Чтоб я так был здоров! – пробормотал Денисенко, увидев серое лицо Горина и темные круги под глазами. Еще утром тот выглядел совсем иначе.
– Все нормально! Я чувствую себя как молодой бог! – с трудом улыбнулся Сергей Васильевич. – Помнишь это варгасовское выражение?
– Еще бы!
– Как они там, бедняги?
Денисенко глянул на часы:
– Сейчас – семь. К восьми мне обещали уточнить одну деталь. Если все так, то… А чего это Вероника Юрьевна домой не идет? Или она вам нужна?
– Не нужна… – выдавил Горин. – Действительно, пусть собирается, а то все время пересиживает из-за нас.
Миша энергично потер ладони и пошел к двери: чувствовалось, что он тоже был на пределе, но не подавал вида.
– Вероника Юрьевна, мы тут еще поработаем, а вы шли бы домой, а? Единственная просьба – пару стаканов чаю…
Когда Миша вернулся, зазвонил городской телефон.
– Да… Нет… Еще не знаю… Ложитесь, не ждите меня… Просто голова немного болит…
Денисенко чувствовал, что Сергей Васильевич едва превозмогает себя: раньше он никогда не разговаривал так с женой.
Потом, пытаясь чем-то заняться, они просматривали новые сообщения, старую документацию, разглядывали снимки. И на Горина напало «библейское», как называли друзья, настроение.
– Есть род, у которого зубы – мечи, челюсти – ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми…
– Точно – про немцев!
– Не про немцев, а про тевтонцев, псов-рыцарей, по словам Александра Невского, прежних и нынешних, – поправил Денисенку Сергей Васильевич, как когда-то поправил его самого Дорофеич. – Сколько светлых, талантливых голов уже полетело! Сколько лучших из лучших вынуждено было бежать! В Эстервегене недавно умер замученный охранниками Карл Осецкий…
– Нобелевский лауреат?
– Да. А еще в тридцать четвертом, в Ораниенбурге, повесили известного на весь мир поэта – Эриха Мюзама. Ну а сие откровение ты видел? Нет? Погляди-ка… – И Горин протянул Мише несколько листков.
Тот, устроившись у стола поудобнее, прочел:
«Из выступления Чемберлена на совещании британских и французских министров
…Г-н Чемберлен задает себе… вопрос, является ли европейское положение столь мрачным, как это находит г-н Даладье. Он со своей стороны весьма сомневается в том, что г-н Гитлер желает уничтожения Чехословацкого государства или переустроенного Чехословацкого государства; он не думает, чтобы фюрер хотел аншлюсса».
– Значит, господин Даладье, с присущей французам экспансивностью, сгущает краски? Вот уж на него не похоже… И когда же так несправедливо упрекнул его английский премьер, не наученный предыдущим аншлюссом Австрии?
– Двадцать восьмого апреля сего года, если верить протокольной записи… А вот это создавалось несколько позже, совсем недавно…
Денисенко взял машинописный текст и пробежал глазами начало:
«”Дейли мейл”,
Лондон
Нортклиф-хауз, Е.С. 4.
5 мая 1938 г.
Ваше превосходительство, я препровождаю при сем гранки статьи, которая будет опубликована в “Дейли мейл” завтра, в пятницу.
Искренне Ваш
А.Л. Кренфильд,
редактор».
Ниже давались выдержки из статьи «Еще несколько постскриптумов виконта Ротермира», о которой шла речь в сопроводительном письме Кренфильда, направленном им германскому послу в Лондоне Дирксену:
«…До Чехословакии нам нет никакого дела. Если Франции угодно обжечь себе там пальцы, то это ее дело; эта политика наталкивается, однако, во Франции на все возрастающее сопротивление со стороны газет и политических деятелей.
В самом деле, “Eelaireur de Nice”, одна из трех самых известных французских провинциальных газет, всего лишь несколько дней тому назад заявила, что “кости одного французского солдатика стоят больше, чем все чехословаки, вместе взятые…”»
– Это какой же Ротермир? Не тот ли, что открыто восторгался «молодым и крепким германским нацизмом»?
– Тот самый. И газета та же самая, «свободная и независимая». Немецкому послу, раболепствуя, свои материалы на визу посылает!
Тренькнул, не успев как следует зазвонить, внутренний телефон, а трубка уже была около уха Денисенки:
– Да! Я слушаю… Ах, вот как? Что ж… Это замечательно… Спасибо!
По радостному лицу его Сергей Васильевич понял: удалось узнать что-то важное!
– Сергей Васильевич… – Миша наклонился к Горину и начал излагать то, что ему только что сообщили.
– Точные сведения? Или похоже на правду, как две капли воды на молоко? Так, кажется, говорят в твоей солнечной Одессе? – Горин, массировал виски; голова болела все сильнее.
Миша, ничуть не смущаясь тем, что Горин ехидно оперирует его же оборотами, твердо стоял на своем:
– Все проверено и перепроверено – не зря ж тянули! Проконсультировались с самыми крупными специалистами!
– Короче, ты считаешь, что можно сообщать Кесслерам?
– Можно.
– Ну, смотри…
И они начали составлять текст радиограммы.
Через полчаса, ровно в двадцать один ноль-ноль, двадцать седьмого мая тысяча девятьсот тридцать восьмого года их слова, превращенные сначала в колонки цифр, а затем в точки и тире, должны были запищать в наушниках Димы Варгасова, сидящего в крошечном чуланчике радиомастерской «Кесслер и сын» в самом центре Тегерана, неподалеку от фешенебельного Лалезара.
Часть вторая
ВРУЧЕНИЕ МЮНХЕНСКИХ ТРЕБОВАНИЙ