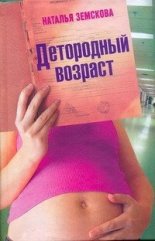Тишайший Бахревский Владислав

– Го-о-рит! – прокатился над Красной площадью вопль. – Белый город горит! И Китай-город горит! И Скород горит! Вся Москва горит!
Князь Пожарский сказал правду: Морозов бежал из Кремля.
По Белому городу крутил огненный смерч. До тайного дома, где когда-то он пытал неугодных людей, Морозову добраться не удалось. Стал пробираться к Неглинному мосту, но тут на улице появилась ватага решительных людей, которая тоже бежала к Неглинному мосту, где стоял самый большой царев кабак.
Борис Иванович отступил в лабиринт узких улочек. Он опять спешил и знал, куда спешит.
Одет он был в платье сокольника: тоже опасно – царев человек, – но все ж не кафтан боярина.
На постоялом дворе было пусто. Морозов юркнул в конюшню, вывел лошадь и стал запрягать в легкий возок. Руки слушались плохо. Ведь не упомнить, когда запрягал лошадь в телегу сам.
– Господи, пронеси! – Руки у Бориса Ивановича дрожали от нетерпения и радости, когда он пристроил вожжи и взнуздал лошадь.
– Эй! – выскочили во двор ямщики. – Эй, мужик!
Борис Иванович вскочил на козлы, шлепнул вожжой по крупу лошади, рванул удила.
– Морозов! Это Морозов! – узнали ямщики и кинулись к своим лошадям.
Пылающей Москвой летел Борис Иванович назад к Кремлю, к потайному ходу.
– Господи, пронеси!
Крутанул вокруг дома Романова, сбивая преследователей, погнал над Москвой-рекой, попридержал у потайного места лошадь, спрыгнул на ходу, скрылся.
Тотчас возок настигли ямщики.
– Пропал! Истинный дьявол! – кричали ямщики, обыскав возок и каждый кустик над Москвой-рекой.
Татары так не жгли, как сами постарались. Три огненных кольца стояли вокруг Кремля, словно сама земля горела. Неба не было – гарь и дым закрыли его на многие версты вокруг.
Все, что было за белой стеной, сгорело: Петровка до реки Неглинной, от Неглинной до Чертольских ворот, за Никитинскими сгорели все слободы, сгорел весь Арбат с известной церковью Николы Явленного, сгорела Остоженка, Стрелецкие слободы за Арбатскими воротами до Земляного города. Сгорели Дмитровка и Тверская.
Загорелся царев кабак возле Неглинного моста. Тушить пожар было некому. Вокруг кабака улица давно уже почернела от напившихся на даровщину до бесчувствия. Из бочек выбивали донья, черпали вино шляпами, сапогами, рукавицами, лакали.
Вдруг появился черный монах; сопя и ругаясь, он тащил на веревке труп Плещеева:
– Эй, помогите! Пожар не кончится, покуда не сгорит в огне проклятое тело безбожника Плещеева.
На помощь подошли несколько человек. Труп подняли, макнули в бочку, с водкой, кинули в пламя. И огонь вдруг сник.
За час до ночи в Лужники из Посольского приказа от дьяка Алмаза Иванова пришла полковнику Андрею Лазореву память «Для бережения денежной и пороховой казны, мушкетов и прочего оружия драгунам отойти в монастырь к Николе на Угрешу. Казну устроить, самому Андрею Лазореву быть у казны с великим бережением до государева указа».
Драгуны на Дон так и не успели уйти. Второго июня Посольскому приказу было не до Лазорева, подтверждения отправляться не пришло. Да и третьего июня о драгунах, наверное, вспомнили потому только, что среди осаждавших Кремль видели солдат в форме иноземного строя.
В Лужниках от четырехсот человек осталось пятьдесят, остальные ушли в Москву.
С полусотней Лазорев переправился через полноводную Москву-реку, дошел до Коломенского и расположился на паперти Вознесенской церкви.
Раздал своим людям мушкеты.
Над Москвой всю ночь небо было таким красным, словно на облаках жгли угли.
«Где теперь Любаша?» – думал Лазорев, с ненавистью поглядывая на кованую дверь церкви. Покинуть сундучок с деньгами, да пороховую казну, да свинец, да мушкеты он не мог.
Утром явились его солдаты. Человек триста. Пришли взять мушкеты. Но Лазорев к паперти их не подпустил.
– Я не знаю, солдаты вы или разбойники! – сказал им полковник. – А потому Богом вас молю, отойдите от церкви. До государева указа.
Весь день было спокойно, когда б не запах гари да не черный дым над Москвой.
К ночи пришли в Коломенское еще несколько ватаг – бывшие драгуны, а с ними много веселых, по-боярски одетых людей. Набралось человек с тысячу.
Сразу же подступили к Вознесенской церкви. Потребовали:
– Полковник, дай нам пик, дай мушкетов и пopoxy! Пойдем Москву от грабежа защищать!
– Некому этим делом заниматься, – ответил Лазорев, – ни капитанов, ни поручиков нет; ушли в Кремль.
– Не дашь, значит?
– Не дам.
Отошли, но тотчас прислали двух людей.
– Смотри, полковник! Лучше миром дай мушкеты. В лесу три сотни холопов стоят. Они знают, что ты казну стережешь. Придут отнимать – не отобьешься, а мы тебе не поможем.
– Господь не выдаст, свинья не съест, – ответил Лазорев и приказал перенести денежную казну на колокольню, а солдат своих посадил с мушкетами на трех лестницах.
Как стемнело, бунтовщики бросились к церкви, крича, что в лесу на них напали холопы. Вломились на широкие паперти, но казны не нашли.
Лазорев сам бил в колокол и сам же палил сверху из мушкетов. Попал не попал, но отступили.
Утром, оставив дюжину солдат на лестницах, Лазорев сам пошел в наступление на своих бывших драгунов.
– Если вы солдаты, а не разбойники, получите продовольствие, а в Москву вам идти не велено. Велено ждать приказа.
Скоро и приказ привезли: всем тотчас идти на Дон. Драгунам выдать по два рубля, а кто рубль получил, тем додать. Подводы пригнали: на десять человек одна.
Еще велено было высмотреть и забрать у драгунов награбленное на пожаре, но никого ни за какие дела не наказывать.
Коли не наказывать, так и награбленного не нашли – глаза заволокло.
Всего из тысячи набралось 913 человек. Восемь человек были под стражей, их поймали во время грабежа, но прислали в Коломенское без всякого наказания.
– Остальные в пожаре сгорели! – говорили драгуны.
Погрузились, поехали…
Так и не пришлось Лазореву Любашу перед дальней дорогой повидать.
«Господи, лишь бы жива была!» – думал Андрей, оглядываясь на черные облака дыма над Москвой.
5 июня Семен Пожарский привез Петра Тихоновича Траханиотова. Нашли его в Троице-Сергиевой лавре, от раки святого отняли и повезли.
Поместили в Земском приказе, царю доложили. Государь приказал: тотчас казнить.
Сердобольный подьячий Втор-большой послал сказать жене Петра Тихоновича, чтоб пришла проститься, но та даже видеть несчастного не пожелала.
– Ради нее добро чужое в дом тащил! – сокрушался Петр Тихонович. – Все напасти – от них! И Леонтий Стефанович, знаю, тоже все жене угодить хотел.
На Лобное место палач вкатил березовую чурку. Положил Петра Тихоновича на чурку головой и отсек голову. Для устрашения – бояр уж, что ли? – голову положили Петру Тихоновичу на грудь и не убирали тела до глубокой ночи.
В тот же день новое правительство заплатило стрельцам то, что сэкономил на них Морозов. Было дадено каждому по восьми рублей.
Начальником Большой казны, Стрелецкого приказа, приказа Иноземного строя стал Яков Куденетович Черкасский.
Борис Петрович Шереметев поставлен был у раздачи денег.
Казанский и Сибирский приказы отдали в управление князю Алексею Мышецкому.
Во Владимирский судный приказ сел Василий Борисович Шереметев, в Московский судный – князь Иван Хилков…
Все земли у Бориса Ивановича Морозова были взяты в казну, а поместье Траханиотова, подмосковное село Пахово передали во владение Илье Даниловичу Милославскому.
Жене убиенного Назария Чистого на поминки дали пятьдесят рублей.
Плещеев и Траханиотов казнены, стрельцам заплачено – можно и народу показаться. Царь с патриархом и боярами вышел на Красную площадь. Поцеловав образ Спаса, Алексей Михайлович сказал:
– Скорблю и плачу о том, что безбожники Плещеев и Траханиотов совершали такие неслыханные злодеяния. Смерть свою они заслужили черными делами. Ныне на все начальные места назначены благочестивые люди, которые будут управлять народом кротко и справедливо. И будут они править под моим царским бдительным оком. Во всем буду как отец отечества!
– Бог да сохранит на многие лета во здравии твое царское величество! – закричали люди, кланяясь, царю.
Но раздались и другие возгласы:
– Морозова выдай! Главного виновника не прячь от нас!
Алексей Михайлович всплеснул руками:
– Да лучше уж меня убейте! – И заплакал. – Не могу я вам Бориса Ивановича на лютую смерть отдать. Много за ним вины! Только не во всем же он виноват. Мой дорогой народ! Люди! Я еще ни разу ни о чем вас не просил, а теперь нижайше прошу исполнить мою единственную просьбу: простите Морозову его проступки. Морозов отныне выкажет вам все доброе, что есть в его душе. Мой батюшка, умирая, завещал Борису Ивановичу быть мне за отца. С малых лет он учил меня доброму и разумному.
– Бог да сохранит на многие лета во здравии твое царское величество! – второй раз воскликнули одни, а другие выказали сомнение: – Да ведь как Морозову простить, когда он всю Москву сжег?
Плача, государь подошел к золотому кресту, который держал патриарх Иосиф, поцеловал крест и поклялся:
– Сошлю Бориса Ивановича на край государства! Никаких должностей отныне и никогда впредь занимать ему будет не дозволено. Богом вас заклинаю, люди, подарите мне жизнь воспитателя моего.
– Да будет то, что требует Бог да его царское величество! – согласились москвичи.
Жизнь Бориса Ивановича Морозова была спасена, и уже на следующий день он послал из своих дворовых людей кого за лесом, кого за кирпичом и уже успел переманить к себе на пожарище лучших строителей.
Ладно бы хозяйством занимался – так нет! В тот же день явился в Думу. Разгневанный Яков Куденетович Черкасский послал к нему выборных людей от детей боярских, которые собрались на Красной площади, требуя, чтоб им тоже заплатили, как заплатили стрельцам.
– Вы думаете, что коли взбесившиеся людишки гоняли старика Морозова, как зайца, по Москве, так он теперь и вывернет перед каждым карманы государевой казны? – закричал на выборных Морозов. Виски седые, лицо кровью налилось, в глазах блеск. – Нет, голубчики! Ничего вам не дам. Я денежки на строительство порубежных городов копил, а теперь Москву надо строить.
Такое пережил, а духом не ослабел Борис Иванович – государственный человек! У него и власти теперь никакой не было, но все уже пританцовывали под его дуду. Илья Данилович Милославский на своем уцелевшем от пожара дворе поил и кормил стрельцов, кафтанами жаловал, деньгами. Царица Мария Ильинична допустила к руке выборных от посадских людей, от стрельцов, купцов, холопов. И тоже угостила и соболями всех одарила. И, выйдя на Красную площадь, эти выборные люди закричали, что хотят в правители Бориса Ивановича свет Морозова.
Может, и сошло бы, но рассерженные дети боярские закидали крикунов камнями и пошли поднимать народ на новый гиль. И всем было ясно: за дворянским войском стоят князь Яков Куденетович Черкасский и Шереметевы. Никита Иванович Романов, осердясь на царя, что не убрал Морозова, перестал в Кремль ходить, сказался больным, а впору опять было перед народом шапку ломать.
10 июня дворяне-жильцы, дети боярские, дворяне московские, гости, торговые люди, стрельцы ударили царю челом о созыве Земского собора, и государь, царь и великий князь Алексей Михайлович согласился созвать Собор и дать народу своему Закон, статьи которого повелел списать с «Правил святых апостол и святых отец» и с градских законов греческих царей, и выписать пристойные статьи из законов прежних великих государей, царей и великих князей Российских, и отца его, государева, блаженные памяти Михаила Федоровича, великого государя, царя и великого князя всея Руси. Повелел собрать воедино указы и боярские приговоры на всякие государственные и земские дела и те государские указы и боярские приговоры со старыми судебниками сличить. А каких статей не было, и те бы статьи написать и изложить по его, государеву, указу общим советом, чтобы Московского государства всяких чинов люди, от большего и до меньшего чина, суд и расправу имели во всяких делах всем равную.
И указал государь составить Уложение боярам князю Никите Ивановичу Одоевскому да князю Семену Васильевичу Прозоровскому, да окольничему князю Федору Федоровичу Волынскому, да дьякам Гаврилу Левонтьеву да Федору Грибоедову.
11 июня решилась судьба Бориса Ивановича Морозова. В первом часу дня сто пятьдесят детей боярских, да сто пятьдесят стрельцов, да сто старост статских – все с ружьями – окружили возок бывшего правителя и отправились все на Белое озеро в Кирилло-Белозерский монастырь.
Не успела пыль улечься за колесами возка, в котором повезли Бориса Ивановича, а государь уже посылал гонца к игумену Кирилло-Белозерского монастыря Афанасию, строителю Феоктисту и келарю Савватею. Писал государь о том, чтоб Борису Ивановичу почет был оказан, чтоб берегли его крепко и надежно от всяких козней и злоумышленников.
«Да отнюдь бы нихто не ведал, хотя и выедет куды, – писал Алексей Михайлович, сам писал, своей, рукой: дело невиданное! Московские цари даже грамот государственных не подписывали, не роняли достоинства. – А если сведают, и я сведаю, и вам быть казненным. А если убережете его, так, как и мне, добро ему сделаете, и я вас пожалую так, чего от зачала света такой милости не видали».
Москвой правили чуждые Алексею Михайловичу люди, но хоть и молод он был, а терпелив знатно. В свои двадцать лет Алексей Михайлович научился уступать силе и обстоятельствам, как никто, среди всего московского синклита, светского и духовного. Со стороны казалось, что царской уступчивости нет предела. И те, кто так думал, ошибались себе же на беду. Алексей Михайлович всегда знал, чем он может поступиться.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
К Аввакуму в Лопатищи приехали братья. Все они жили на старом отцовском гнездовье в Григорове. Евфимий был попом, Герасим и Кузьма тоже при церкви кормились – один служил псаломщиком, другой сторожем.
Братья приехали по делу: продать мед и воск, купить сушеной и соленой рыбы. Григорово от Волги далеко.
Ночевали братья на сеновале.
Аввакум собирался за дровами, поднялся до солнца. Он вывел из сарая лошадь, покормил на улице. Пришел дьякон, с которым сговорились рубить лес.
Аввакум снова заглянул в сарай: братья сладко спали. Евфимий лицом пригож, в мать. Спит как во младенчестве, причмокивая. Кузьма в отца, кряжист, насуплен. И во сне молчун. Герасим вдруг отчетливо засмеялся. С детства хохотун. Видно, и сны ему смешные снятся.
Хотелось попрощаться с братьями, но будить было жалко. Аввакум перекрестил их, взял пилу, топор, веревку и пошел к дьякону. Тот уже успел запрячь лошадь.
Поехали.
Солнце с самого утра распалилось. Аввакум, поскребывая разомлевшие на жаре телеса, поглядывал на луга, на лес, на реку.
– Головой бы в траву и заснуть! Духмяные теперь травы, – сказал он.
– А чего? Лошадку стреножим, пущай попасется, – откликнулся дьякон, натягивая вожжи. – Дровишки из лесу не убегут. До зимы еще – ого!
Аввакум взял у дьякона хворостину и махнул на лошадку.
– Но-о! Ты шевели ее, отец дьякон, шевели!
– Мужики без дров пастырей своих не оставили бы, – забормотал дьякон, с неприязнью озирая вставший стеной лес.
– А погляди-ка ты, отец дьякон, вон на ту сухостоину! – указал Аввакум на огромную голую сосну. – Одного дерева хватило бы и на твою избенку, и на мою.
– А пилить-то! Пилить-то сколько! В два обхвата небось! – у дьякона перекосило лицо, словно зуб мудрости дергало.
– Зато колоть будет хорошо, – не сдавался Аввакум. – Раскатаем дерево на чурбаки прямо здесь и перевозим.
Дьякон знал: коли поп загорелся, не переупрямить его и не пронять.
– Ладно, – сказал он и словно голову на плаху положил. – Все ж место открытое, по лесу дровишки не волочить.
На солнце и ветру дерево высохло и закаменело. Пила отскакивала от гладкой, с железным отливом древесины.
– Как мощи! – сказал дьячок простодушно.
Он был постарше Аввакума годов на десять, но головой был дюже молод. Никакой науки дьяконова голова не принимала, а вогнать премудрость розгами и кулаками никому не удалось: непробиваемая лень надежно защищала незлобивое чудо природы.
– Про какие мощи ты говоришь? – удивился Аввакум.
– Да вот про ейные, про сосновые, – указал дьячок. – А ведь оно, может, и вправду мощи. Коли люди бывают нетленны, отчего ж деревам нетленными не быть? Мой кум рыл колодец, дак ведь такое дерево вытащил из глубины, хоть в сруб клади. Потемнеть потемнело, а гнили на ноготь не нашлось. Оно ведь, может, у людей свои святые, а у них, у дерев, свои… Ты чего, батько?
А батько, засучив рукава, ясными очами взирал на доморощенного умника.
– Сам сие придумал али вычитал где?
– Сам! – сказал дьякон, еще не понимая загадочного вида попа.
– Ну, коли сам, так беда невелика. Вразумлю.
И огромный Аввакум сграбастал толстяка дьякона одной рукой и принялся дубасить его кулаком, норовя угодить, по башке.
– За что? – возопил дьякон.
– За глупость! – отвечал ему Аввакум. – За глупость и блудомыслие.
Дьякон был хитер и не противился: поп тотчас и остыл.
– Благослови меня, отец дьякон, из-за тебя грех совершил.
Облобызались. Посидели в тенечке утомленные, и опять принялись пилить тысячелетнее, умершее на корню, но не сдавшееся ни ветрам, ни половодьям дерево.
Не только подрясники, но и порты были на них мокры от пота, когда великан-сосна, оглушительно стрельнув, надломилась и пала меднолитым стволом на сухую звонкую землю. В ушах и пятках больно заныло от удара.
Распиливать дерево на чурбаки не было сил.
Пошли в тень березовой рощицы. Здесь было влажно, и силы возвращались скорее.
Комель распилили до половины и бросили. Пилу зажимало.
– Ох, батько! Ну чего мы животы рвем? Мужики бы, чай, уж наготовили на церковь дровишек. От церкви и мы попользовались бы.
– На мужика надейся, а сам не плошай, – сказал Аввакум. – Мужик гору для тебя свернет, когда знает, что ты ему нужен, а коли не нужен – палкой не заставишь работать.
– А ты помягче к мужикам, батько, помягче, – настаивал дьякон. – Ты все законы-то не спрашивай с него, с темного. Всех законов-то и монахи не соблюдают.
– Цыц! – грянул Аввакум. – Учитель выискался на погибель души моей! Цыц! Мало, видно, я тебя давеча оттузил.
– Ох, батько! Ох! – возвел горестные глаза к небесам дьякон. – Не в добрый час пристроился я к твоей церкви. Ни вару, ни товару. Люди ласку любят. К ним кругами, кругами.
– Дьявольская твоя наука! – вскипел Аввакум. – Слово Божье как молния. Оно прожигать должно, и его нужно страшиться, как грома небесного. Ужахаться!
– Ох, батько! Ох! – стенал дьякон.
– Пошли пилить! – встал Аввакум.
– С вершинки теперь попробуем.
– Ну нет! – замотал головой Аввакум. – Ныне дюже нам тяжко, а завтра легче уж будет.
Комель не поддавался. Аввакум стал загонять клинья.
– Да плюнем на комель. Его и колоть – пуп надорвешь!
– Пили! – прохрипел Аввакум.
– А ну тебя к бесу, бешеного! Я лучше замерзать стану, чем жилы из себя тянуть! – Дьякон бросил пилу и, не оглядываясь, пошел через травы напрямки прочь.
– Кишка тонка! – закричал ему вослед Аввакум. – Синепупый козел ты!
Дьякон обернулся, постучал себя по лбу костяшками пальцев.
– Тьфу! Тьфу и тьфу! – трижды плюнул Аввакум в его сторону.
Марковна доила в соломенной прохладе темного катуха корову Зорьку. Пастух пригонял коров наполдни в село: овода с палец величиной доводили бедных до безумия. За лето две коровы, умчавшиеся в дебри, были задраны медведями.
– По такой пастьбе молока корова давала не через край, но и попить хватало, и на маслице оставалось.
Марковна уже выдаивала тугие маленькие соски, когда ей показалось, что в дверях катуха сверкнул голой попкой меньшой сынишка.
– Ангелочек! – позвала она.
Мальчик не отозвался, и Марковна успокоилась. Она подоила корову, дала ей кусок хлеба в награду за молочко и вышла на солнце.
Огород, опоясанный золотистыми сосновыми жердями, зеленел, обещая обилье осеннего стола. И вдруг в огурцах опять сверкнуло белое.
– Ангелочек! – Марковна поставила молоко и пошла поглядеть на тихие проказы любимчика.
«Ангелочек» спрятал голову в огуречные плети и сопел.
– Батюшки, да что же ты обрываешь пупсики-то?! Этак без огурцов останемся.
Марковна подхватила на руки «ангелочка», звонко нашлепала его по голому заду.
«Ангелочек» стал тереть глаза, но не заревел: знал, что за дело нашлепали.
– Ты что за братом не глядишь! – закричала Марковна на старшего сына. – Все пупыри у огурцов ободрал. А ну оба носами в угол! А еще так будет, отцу скажу.
Дети смиренно затаились в своих углах.
Аввакум привез из леса огромный комель. Телега вздыбилась, задрав, передние колеса, застонала, как живая, когда с помощью Марковны Аввакум спихнул комель с телеги.
– Во, – сказал он, – дрова.
И засмеялся. И Марковна засмеялась. Это было, право, чудно – ухлопать весь день на комель. И Аввакум знал, что глупо затеялся он с этим глупым пилением, но ведь одолел! Один одолел! Ему и вправду было смешно. И не обидно, что Марковна смеялась.
На службу к вечерне дьякон явился, и служили они усердно и строго. Дьякон, однако, скоро сообразил, что поп на него зла не держит, и зарокотал басом со всем благолепием и Аввакум возрадовался сердцем, воодушевился.
Прихожанам передалось настроение служителей, и служба удалась.
Разоблачаясь, дьякон первым сказал Аввакуму:
– За дровишками-то поедем завтра?
– Поедем, отец дьякон! – Аввакум хохотнул, и дьякон тоже не удержался от смеха.
Поехали по дрова, отслужив утреню.
Роса успела просохнуть, но след телеги был изумрудно-зелен, ехали через луг.
– Ты куда правишь-то? – слегка обеспокоился дьякон.
– К лесу.
– А-а! – Дьякон согласно кивнул головой и притих, как воробышек перед дождем. Думал, чем тише, тем лучше.
Но Аввакум приехал к вчерашней сосне.
– Да ведь вершинка-то и впрямь хороша! – затараторил дьякон. – Дерево сухое. Сухая сосна так пыхает. Баню истопить, если поскорей чтоб. Или для хлебов.
Аввакум, не вслушиваясь в трескотню дьякона, снял пилу, топоры, клинья.
– О Господи, благослови! Давай, отче, за дело. Как начали, так и продолжим. С каждой коляской легче станет.
Дьякон вспотел, жалостливо заулыбался и послушно принял рукоять пилы.
Опять били клинья, пилу зажимало. Потели, теряли терпение и силы, но наконец отпилили чурбак.
– Теперь легче будет, – пообещал Аввакум, садясь на чурбак. – Расколоть один такой – на два дня хватит.
Отпыхиваясь, отирая лицо рукавами длинной рубахи, дьякон показал на лес и пошел.
– По нужде, что ли? – не понял Аввакум.
– По нужде, по нужде, – закивал подобострастно дьякон и перешел на мелкую рысь.
Не выходил он из лесу долго.
– Эгей! – крикнул Аввакум. – Не медведь ли там тебя задрал?
Из лесу не отозвались.
– Бежал! Бежал, сукин сын! Тварь малодушная. Тьфу!
Аввакум скинул рясу и взялся за пилу.
– Один одолею. Одолею! О Господи! Благослови!
Волга несла его, как листок с дерева.
– Гораздо сильна ты, матушка! – похвалил Аввакум Петрович реку и, подняв голову над водой, поглядел, далеко ли снесло. – А ну-ка, матушка, поборемся!
Сиганул в воде, как белорыбица, и пошел-пошел течению наперекор саженками махать.
Река пересилила Аввакума, но выплыл он всего-то сажени на три-четыре ниже того места, где Сенька Заморыш, сосед, стерег поповские порты, подрясник да медный крест.
– Ну и силен ты, батюшка! – удивился Сенька.
– Хорошо! – говорил Аввакум, оглаживая мокрые волосы. – Это я еще пост держу, который патриарх Иосиф на государство наложил, а так бы не покорился матушке. Хоть ей и не зазорно покориться, ладьи сносит.
– Вон легки на помине! Четыре струга! – показал вверх по течению Сенька Заморыш.
– А ведь это новый воевода в Казань идет! – ахнул Аввакум, вприскочку натягивая порты и на быстром ходу уже – подрясник и крест.
Хоть и припоздали, а вышли встречать воеводу с крестами, с иконами. Воевода Лопатищ Евфимий Стефанович косился на своего попа: после купания голова у Аввакума как телком облизанная, не осердился бы воевода. Ныне послан в Казань Василий Петрович Шереметев, большой боярин!
Шереметев отведал хлеба и соли, насмешливыми глазами окинул мокрого попа, но подошел под благословение и милостиво разрешил:
– Благослови и сына моего Матфея!
Матфей стоял за спиной, отца, высокий, с бритым лицом, красивый, как девушка.
Аввакум перекрестился.
– Избави меня Бог! Не оскверню креста благословением блудолюбивого образа!
– Ах ты, поп-сатана! – закричал Василий Петрович. – А ну-ка взять его на корабль!
И, не слушая лопатищинского воеводу, который просил пожаловать в город, за столы дубовые, Шереметев велел отчаливать.
Аввакума приволокли на струг, связали, поставили перед боярином.