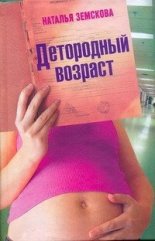Тишайший Бахревский Владислав

– Батюшка государь Евфимий Стефанович кончается. Кричит: «Дайте мне батьку Аввакума! За него меня бог наказует!» Не держи сердца на воеводу, батько Аввакум, приди к нему в дом с миром.
– Оденусь и выйду! – крикнул Аввакум, а сам, затаясь, припал к щели, выглядывая, много ли за ним людей пришло.
– Кто там? – спросила Марковна, уже на ногах и одета и детей готовая в охапку сгрести и бежать.
– К воеводе домой зовут. Говорят, при смерти.
– Так ступай! Может, и отпустит болезнь.
Аввакум поставил в угол пищаль, оделся, поцеловал Марковну и детишек, пошел двери отворять. Отворял, возглашая:
– Ты, Господи, изведый мя из чрева матере моея и от небытия в бытие мя устроил! Аще меня задушат, a Ты причти мя с Филиппом, митрополитом Московским, аще зарежут, и Ты причти мя с Захариею пророком, а буде в воду посадят, и Ты, яко Стефана пермского, паки свободишь мя!
Высокого святого подвига жаждал молодой поп, но ничего дурного с ним не произошло. Стрельцы посадили его в телегу, домчали до воеводских хором. У ворот Аввакума ждала Неонила, жена Евфимия Стефановича. Ухватилась за руку, запричитала:
– Поди-тко, государь наш батюшко, поди-тко, свет наш кормилец!
Аввакум руку выдернул. Не стерпело сердце, выговорил воеводской бабе:
– Чудно мне что-то! Давеча был блядин сын, а топерева – батюшка! Праща Христова до любого достанет: скоро твой муж повинился.
Аввакума ввели в горницу. Воевода увидал его, соскочил с перины, в ноги повалился:
– Прости, государь, согрешил перед Богом и перед тобой! – А самого колотун бьет.
– Восстань, Бог простит тебя! – возгласил Аввакум, поднял больного на руки и отнес в постель.
Исповедал. Помазал священным маслом, всю ночь молился с домочадцами воеводы за здравие раба божьего Евфимия.
Домой Аввакум вместе с солнышком вошел. А у Марковны и щи уже сварены, и скотам корму задано, и чулок связан аршина в три длиною.
– В Москву надо уходить, – сказал Аввакум. – Только в Москве и можно жить правдой на Руси. В любом другом углу – нельзя. Убьют. Ох, вспомянул бы меня Стефан Вонифатьевич!
Но Стефану Вонифатьевичу до самого себя было дело – родной дядя царя, сам Семен Лукьянович Стрешнев, в застенках Сыскного приказа держал ответ перед Алексеем Никитовичем Трубецким да перед Григорием Гавриловичем Пушкиным. А спрашивали его об одном: зачем он, Семен Лукьянович, знался с ведуном Симонком Даниловым, принимал его у себя в деревне Черные Грязи и в селе Коломенском?
Семен Лукьянович сначала заперся, да к нему подступились как к супостату. Признался, что Симонок лошадей лечил. И людей тож! Изгонял дьявола наговоренными травами.
С пристрастием спрашивали Трубецкой и Пушкин, допытывались, не Симонок ли испортил царскую невесту Евфимию Федоровну? Один колдун, насылавший болезнь на царскую невесту, был уже найден. И кто бы мог подумать – на дворе Никиты Ивановича Романова. Найден, бит, жжен огнем и сослан на исправление в Кириллов монастырь. А Кириллов монастырь был в руках Бориса Ивановича Морозова.
Ох, за самого себя болеть нужно было протопопу благовещенскому: страшные две силы сошлись, между ними стоять – раздавят. Принять без оглядки сторону Морозова – сегодня больно хорошо, а что завтра будет? А ну как восстанут Стрешневы в прежней своей силе? Ужом вился протопоп Стефан Вонифатьевич.
Братья Семена Лукьяновича, Иван-большой да Иван-меньшой, домогались видеть Алексея Михайловича, а Морозов не допускал. Братья – к царскому духовнику, а протопоп утешительные песни мурлычет, но глазами в пол:
– Рад бы сердечно свидание устроить, но сам какой уже день видеть пресветлых государевых очей не удостоен. На охоте забавляется, в Хорошове.
Алексей Михайлович и вправду с соколами тешился… на днях, но теперь он был у себя на Верху, со своими карлами да бахарями.
Домрачеи, плясуны на канате – мотальники, мастера играть на рожках, свирелях были уволены с царской службы, отпущены из кремлевского дворца на все четыре стороны. Царский двор все больше и больше походил на чрезмерно богатый монастырь.
Вдруг полюбились государю Алексею Михайловичу притчи да сказки про богатырей, рыцарей, про эллина Александра. Любимое слушал по многу раз.
Древний старик, побывавший в Царьграде, рассказывал ему теперь о Дигенисе Акрите.
– Охотник он был горячий, как ты, великий государь, – вспоминал дедок легенды о византийском витязе. – Только ты все больше с птицами охотишься, а Дигений никаких помощников не признавал. Ага! Хоть лев ему, хоть олень – побежит за ними и добудет. И упаси бог, чтоб собак с собой взять или ученых леопардов! Даже на коня не садился, меча или копья с собой не брал – на одни руки надеялся да ноги.
– В какие же времена жил сей великий муж? – Алексей Михайлович разгреб руками карлов, чтоб перед глазами не мельтешили, не мешали слушать.
– Так в давние! – сказал дедок, удивляясь вопросу. – Все ирои жили в давние времена. Те времена – теперешним не чета.
– Ты про Дигения-то расскажи!
– Про Дигения? – Дедок улыбнулся неземной своей, слабой, как сумеречная тень, улыбкой. – Так его не Дигений звали. Его звали Дигенис Акрит!
Старик задумался, и все ждали, потому что Алексей Михайлович глядел на старика затаив дыхание. Пелена, застилавшая мозг старого человека, развеялась на миг, и дедок прочитал стихи:
– Конец бесчинствам агарян он положил кровавым. И города опустошил, и власть над ними принял… – Пожевал губами, опустил голову. – Все забыл.
– Ну, пожалуй нас, дедушка! Вспомни! – взмолился Алексей Михайлович.
– Невесту он себе добывал! – обрадовался дедок. – В ромейской земле был стратиг Дука, и дочь у него – звали Евдокия. Была она дивной красоты. Дигенис увидал ее и был поражен в самое сердце. Он ее выманил игрой на кифаре и бежал с нею. Дука послал в погоню за ним войско, но Дигенис один убил всех. Император Василий взял его на свою службу и подарил ему царские одежды.
Дедок замолчал, и было видно, что надолго.
– Мне бы такого героя! – воскликнул Алексей Михайлович. – Эх, был бы у меня хоть один истинный герой!
– А я умею колдунов распознавать! – грянула басом карлица Верка.
– Ну, скажи, – разрешил государь, теряя интерес к своим забавным человечкам.
– Нужно угол скатерти загнуть, и колдун ни за что не сядет за стол.
– А можно ухват рогами кверху перевернуть, и колдун тотчас убежит из избы, – пропищал молоденький карлик.
– Если колдун сидит на лавке, в подполье под ним втыкают нож, приговаривая: «Не в пол втыкаю, а в сердце колдуна». Колдун ни за что с места не сойдет, – тараторили государю в самое ухо.
– Когда колдун грозится, его нужно в губы ударить, чтоб кровь пошла. Тотчас забудет свой наговор, – сказал сидевший рядом с государем Василий Босой.
– Поговорить мне с тобой надо, – громко сказал Алексей Михайлович, и карлов словно ветром унесло. – Скажи мне, Вася, что со Стрешневыми поделать? Ведь они родные дядья мне. Слыхал про кравчего моего, про Семена Лукьяновича? В ворожбе уличили.
Васька Босой сердито тряхнул цепями:
– Когда бьют, и бессловесная скотина мычит.
– О чем ты, Вася?
– Далеко не отсылай Стрешневых. Пожалей ради матушкиной памяти.
– Добрый ты, Вася! Мы с тобой всех жалеем, да нас-то – не больно!
– Доброе дело на небесах зачтется, – набычил голову Василий Босой. – Помни это – на небесах.
Ивана-большого отправили воеводой в Чебоксары. Ивана-меньшого – в Козьмодемьянск, Семена Лукьяновича – в Вологду. Стрешневы пали. В июне.
15 августа 1647 года Леонтий Стефанович Плещеев был назначен судьей Земского приказа.
На крыльце приказа, на ступенях, в два ряда стояли писцы, молодшие подьячие, старые подьячие. Чем выше, тем значительней, а на самом верху, у дверей, ожидали приезда нового судьи дьяк Петр Михайлов и товарищ судьи Иван Федорович Соковнин.
Леонтий Стефанович приехал в стареньком крытом возке, на доброй серой лошадке, но выходил из возка долго, ноги ставил осторожно, словно из высокой кареты выходил, словно пузо ему мешало, а пуза не было, и жира не было, была непонятная пока что игра.
Лицом костляв, телом сух, глазами пронзителен, Леонтий Стефанович направился к ожидавшим его приказным людям по-стариковски.
Ставил ноги как-то в стороны, словно бы чирей у него на заду сидел или уж оскользнуться боялся. Шел и уже издали взмахивал приветливо рукой, и улыбался, и кивал дружески.
К нему пошли с хлебом и солью, но, опережая процессию, из толпы зевак пал ему в ноги проворный человечек, которого Леонтий Стефанович узнал, но вида, конечно, не подал. Это был Втор, тот самый, который во Владимир ездил помогать Траханиотову и был не последним исполнителем многих тайных и темных плещеевских делишек.
– Под твоим началом хочу служить, благодетельнейший Леонтий Стефанович! – закричал Втор. – Смилуйся, пожалуй!
Леонтий Стефанович остановился, подумал и весело засмеялся:
– Быть по-твоему, ибо ты – первый мой проситель.
Каждому писарю судья покланялся, а с дьяком Петром Михайловым и с Иваном Федоровичем Соковниным облобызался.
Чинно вошли в приказ, и тут Леонтий Стефанович, вставши посреди палаты, объявил:
– Бумагами сегодня шуршать недосуг! Гляньте в окна! Что зрите? Стрельцов. Каждому подьячему под начало десяток – и айда по Москве подбирать пьяных. Всех, кто до дому не дошел, в тюрьму. А коли будут откупаться – деньги брать. Срамоты сей я на московских улицах чтоб больше не видел!
…На следующий день новая затея.
– Поубавилось пьяных-то после вчерашнего нашего радения? – спросил приказных Леонтий Стефанович. – А теперь другим займемся. Ступайте все в кремлевские кладовые, там вам дадут кафтаны, в которых посольства встречают. Оденьтесь – будете гулять по Москве, вас будут грабить, а мы будем грабителей тех ловить и тащить.
За два дня и две ночи в земской тюрьме сделалось невыносимо тесно: пособирал удальцов Плещеев. Корму сидельцам приказал выдавать по сухарю на день, а на третью ночь сам пришел в тюрьму и сказал:
– Господа разбойники, поговорите меж собой, и я тотчас отпущу на волю семерых. Эти семеро пойдут и принесут мне по сто рублей каждый. За это половину из вас я отпущу. А если кто из семерых не воротится, того я тотчас изловлю и прикажу с обманщика содрать кожу. На чучело – других обманщиков пугать. А приду я к вам за деньгами утром, по солнышку.
Сказал, отпустил на волю семерых и ушел.
Вернулись трое. Один принес сто рублей, другой – только сорок, а третий – девять рублей с алтыном.
Плещеев деньги пересчитал, повздыхал и сказал такие слова:
– Тому, кто все сделал по моему слову, будет от меня награда, кто вполовину постарался – и моя милость вполовину, кто исполнил мое слово на десятую часть, но вернулся, тоже будет пожалован.
Тут велел Леонтий Стефанович принести себе стул, а палачам – изготовить инструменты. Сел на стул и задремал.
Московские разбойнички к такому обхождению непривычны были. Кто-то свистнул, но свистуну тотчас заткнули рот: поглядеть хотели, каков Леонтий Стефанович шутник.
Едва судья задремал, отворились двери, и стрельцы втолкнули сразу двух ослушников. Палачи тотчас связали их и положили на лавки – Леонтий Стефанович посапывал.
Опять отворилась дверь – появился третий ослушник.
– Трое одного не ждут, – сказал судья, просыпаясь. Кинул палачам свой посох. – Пусть троица поконается. Кому за посошок ухватиться не выйдет, с того и спрос будет.
Поконались. Здоровенный детинушка и так и сяк старался ухватить едва видимую пуповку набалдашника. Не ухватил.
– Подвесить его! – приказал Леонтий Стефанович.
Палачи за руки и за ноги подвесили детинушку на ременных петлях к крюкам.
– Сдирайте с него кожу!
Ледяные мурашки стукались об пол тюрьмы.
– Леонтий Стефанович! – взмолился один из четверых палачей. – Мы и колесуем, и четвертуем, языки рвем, клейма выжигаем, а чтоб кожу драть с живого человека – такого не умеем.
– Что ж мне, вас заграницу посылать на ученье? – Леонтий Стефанович, словно кошка перед собакой, спину выгнул, со стула соскочил и – к дверям: – Стрельцы!
Ворвались стрельцы.
– Палачам за ослушание по сорок плетей!
– Смилуйся! – ударился в ноги Плещееву молодой кат. – Я-то ладно, а батюшка мой не вынесет сорок плетей. Я обдеру татя, только от казни освободи.
– Ступайте стрельцы! – разрешил Леонтий Стефанович, сел на стульчик и вдруг заорал на татей? – Всем глядеть! Палачи! Кто отворачиваться станет – бейте кнутами, а кто глаза станет закатывать – водой отливайте!
Началась казнь. И невесть кто больше заходился в крике: мучимый, неумелый мучитель, которого тоже окатывали ледяной водой, или зрители.
И когда наконец все кончилось, тюрьма была зловонным гадюшником. Тюремные сидельцы икали, все икали, и были они как скоты, ползали по загаженному полу и лакали из лужиц воду, чтоб унять разрывающую нутро икоту.
– Тех татей, которые принесли сполна, – раздался спокойный голос Леонтия Стефановича, – отпустить с миром. Им разрешено промышлять в самом доходном месте Москвы. Да только без убийств! Глядите у меня! Те, кто принес половину, пусть дадут сполна, что просил, а покуда будут сидеть. Те, кто обошелся десятой частью, – принесут мне сто сорок рублей. А все остальные двести. Не выпущу, пока не соберете просимое. Кланяюсь вам, господа!
И Леонтий Стефанович удалился.
– Ну вот, женушка! Считай! – Плещеев, высыпал на стол целую суму денег.
– С почином тебя, родимый! – Супруга благодарно обмерла у мужа на шее, а потом к иконам подвела и помолилась. – А ты что лба не перекрестишь?
– Рука в плече болит, – солгал Леонтий Стефанович, страшно ему было перед иконами, так и думалось: перекрести он лоб – отсохнет рука или отпадет напрочь.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Государь играл с Афонькой Матюшкиным в тавлец. Играли на щелчки. Афонька выиграл и сгорал от стыда: одно дело, когда детьми играли, а как теперь быть?
– Ну, чего ты пыхтишь, щелкай скорей – да еще сыграем! – государь, набычась, подставил лоб.
Афонька щелчок готовил всерьез, а бил, едва касаясь, и все вздыхал:
– Промахиваюсь что-то!
– Совсем щелчки бить разучился! – укорил его Алексей Михайлович. – Вот мне придется, уж я тебе покажу, как щелчки бьют. Бей, бей, не жалей, ругаться не буду!
Следующую партию Афонька проиграл.
– За то, что жалел меня, вот тебе! – щелкал немилосердно своего стольника Алексей Михайлович.
Когда пришел в царевы комнаты Борис Иванович Морозов, у обоих игроков лбы были в красных пятнах.
– Ступай к охоте стряпню готовить! – отослал Алексей Михайлович Афоньку. – На медведя, Борис Иванович, затеялись идти.
– Мужская охота, – похвалил ближний боярин, а оставшись с воспитанником один на один, заглянул ему в глаза. – Ну, что же ты все грустишь, Алешенька?
– Евфимушку не могу забыть!
– Ах, господи! Ах, господи! – Борис Иванович обнял государя и заплакал, оба заплакали. – Алешенька, родненький, время все боли врачует. Сам знаешь, государевы детки должны быть и умом сильны, и телом. Не кручинься, бога ради. Я тебе такую красавицу присмотрел.
– Не хочу, – Алексей Михайлович отстранился от Бориса Ивановича. – Молчи о невестах. Слышать не желаю. За каким делом пожаловал, говори?
– Великий государь, крымский хан Ислам Гирей ходил в поход на Польшу. Татары в его честь песни слагают. А теперь хан на Руси кусок ухватить зарится. Казаков на Дону он крепко пощипал. Надо им помогать.
– Я казаков люблю и жалую, – сказал Алексей Михайлович.
– У меня в Царьград человек один ходил Тимошку Анкудинова уговаривать, чтоб тебе покорился. А Тимошка нашкодил и ныне у султана Ибрагима в тюрьме сидит. Так вот того человека, Андрейку Лазорева, я хочу послать с драгунами на Дон. Дадим ему под начало иноземных офицеров, пусть соберут полк да и прищемят Ислам Гирею хвост.
– Ты же все сам знаешь, Борис Иванович! Ты плохо не сделаешь, – сказал Алексей Михайлович.
– Тревожусь я за южную границу, великий государь, – признался Морозов. – Султан ныне в Турции дурной. Не затеял бы большую войну, спасаясь от внутренних неурядиц.
Алексей Михайлович сидел со спокойным лицом, внимательно глядел Борису Ивановичу в глаза, помаргивал.
«Романов! – неприязнь кольнула Бориса Ивановича в сердце. – Помалкивает да помаргивает».
– Великий государь, соляной налог придется отменить, – сказал с досадой Борис Иванович. – Не покупают люди дорогую соль. Тайные соляные варницы заводят, рыбу ловить перестали, соления исчезли.
– Жалуются люди, – согласился государь. – Мне Никон многие жалобы приносит. Коли можно налог отменить, так и отмени. Да и поскорей ты его отмени. От греха.
– А девы у Ильи Данилыча красоты неописуемой! – воскликнул вдруг Морозов и даже головой покрутил.
Алексей Михайлович сердито дернул плечом и отвернулся.
– Не сердись, – поклонился царю Борис Иванович, – мне, старику, хочется сделать как лучше. Вот я и пристаю, глупый, к тебе.
– Я не сержусь! – тотчас насильно засиял глазами Алексей Михайлович.
11 декабря 1647 года налог на соль был отменен.
– Пошла Дарья в лес по малинку-то, а он ждет. Ей чего-то жутко! Чует, что глядит кто-то на нее. Встанет, туда-сюда повернется – никого. И хоть бы ветка хрустнула. Впору домой убежать, а как с пустым лукошком из лесу воротишься – засмеют, как заклюют. Ну, а в малинники-то забралась, тут он и вышел к ней. Крикнуть бы – от страху голос пропал. А он в ноги ей лег и лапой голову прикрывает: мол, бей, да не до смерти. Потом поднялся и давай манить. Она идет, как привязанная. На такую малину навел, ягода к ягоде. Самая красивая девка Дарья-то в деревне была.
– Врешь ты, Сидор! – засмеялся Афонька Матюшкин. – Ну, может ли медведь понимать в женской красоте?
– Значит, может, – серьезно и печально откликнулся стрелец Сидор. – Сколько девок в лес ходило, и гурьбой, и поодиночке, а он ее ждал… Из-за нее и помер. Через год выпросилась Дарья у хозяина отца с матерью проведать. Отпустил. Она домой прибежала, а из дому – на лошадей да в монастырь, за каменную стену… Он через три дня пришел на околицу, лег и лежал, покуда не помер…
В избе жарко, темно, на бревенчатой стене качается бронзовое зеркало отсвета: пламя в печи гудит. Лица у людей красные, спекшиеся.
Трах! – за стеною дерево морозом разорвало.
– Эко! Небось от верхушки до корней! – сказал стрелец Сидор.
Притихли, слушали враждебный, волшебный, декабрьский мороз.
– Неужто от тоски по человеку медведь помер? – спросил Алексей Михайлович.
– Так ведь любовь, государь? – воскликнул Сидор. – Зверь, государь, тоже любить умеет.
– А Дарья-то, говоришь, из твоей деревеньки?
– Дак она, государь, Дарья-то, бабка мне родная.
– То-то ты косолапый! – захохотал Афонька Матюшкин.
– Медведями нас в деревне зовут, – без обиды откликнулся Сидор.
Государь встал, все зашевелились.
– Сидите, я на свою половину. На зверя-то, чай, рано пойдем?
– До свету, государь.
– Вот и вы все ложитесь.
Афонька поднялся следом за Алексеем Михайловичем, ему спать возле царской постели, караулить царственный сон. У дверей стольник помешкал. Алексею Михайловичу лунный свет – как дитю теплый дождик. А ныне луна так и полыхает на небесах. Лес под такой луной наг и прозрачен, лешему негде схорониться. В сенях окошко с кулак, а светлынь, иней на бревнах мерцает, как глаза кошачьи, дикие.
Услышал Афонька скрип половиц, вышел в сени. Тоже в окошко глянул – светло! Побежал постель государю стелить.
– Погоди! – остановил его Алексей Михайлович.
Царь сидел на низкой скамеечке, прислонясь спиной к печи. Это была другая половина все той же печи: в одной комнате не уместилась, зато согревала обе.
– Слышь, Афонька! Медведь-то завтрашний уж больно здоров, что ли?
Афонька воззрился на царя, соображая, что ответить. С десяти лет при Алексее, грамоту одолевали вместе, вместе росли, а такого, чтоб Алексей струсил, Афонька не помнил.
– Большой, говорят, медведь. Так ведь и ловцов на него много.
– Вот я и смекаю: велика ли честь – полком на одного заспанного зверя ходить…
– Поднять из берлоги медведя дело не простое. А поднимешь – не зевай.
– Слушай, Афонька! Пошли вдвоем, пока все спят!
У Афоньки дух захватило: экое несуразное дело затевает царь. Ночью – на медведя! Вдвоем! Оступись в снегу – обоих задавит. Да и обойдись все по-хорошему, бояре житья не дадут: виданное ли дело, чтоб царь жизнью рисковал шалости ради?
– Боишься, что ли? – спросил Алексей Михайлович.
– Не боюсь.
– Гляди! А то я один пойду.
Царь вскочил, подбежал к Афоньке. Глаза сияют, прищур хитрый:
– Не бойся ты! Одолеем. Неужто мы с тобой вдвоем – молодцы молодцами – одного медведя не стоим?
– Я пищаль возьму! – твердо сказал Афонька, oпасаясь, как бы царь не припустил на медведя с одною рогатиной.
– Гаси свечу, пусть думают, что легли.
Тропа к берлоге была приготовлена заранее. Из охотничьего домика выбрались, а дальше потеха: ступить нельзя на снег – скрипит, аж визжит! Алексей Михайлович тотчас и смекнул, как быть: прыгнул с тропы и покатился. Афонька за ним. Оба в шубах да в тулупчиках сверху. Отряхнулись на краю опушки, пробежались, и дела нет до мороза.
Луна уже в зените, тени забрались под сугробы. Каждое дерево стояло в ризах холодного, но прекрасного огня.
– Залезть бы в сугроб, затаиться бы.
– Погони нет, чего в сугроб лезть? – удивился Матюшкин.
– Чудо посмотреть мечтаю, Афоня! Кто всю эту красоту устраивает. Погляди, как величаво кругом, чинно. Тишину послушай, Афоня.
Государь остановился, чтоб не скрипело под ногами, и Матюшкин встал, а все равно скрипит.
– Скрипит, что ли? – спросил царь.
– Да быдто скрипит.
Послушали-послушали: не понять – то ли впрямь скрипит, то ли в ушах от тишины звон.
Tpppax!
Аж пригнуло молодцов! А над лесом облачко – снежный прах с разодранного морозом дерева к луне улетел.
– Государь, щеки потри! Не дай бог, мороз покусает. До берлоги версты три. На горку взойдем, а там все время спуск.
Стали подыматься на гору, на вершине – огонек. Затаились.
– Государь! Иди погрейся! – голос знакомый.
– Сидор, ты, что ли?
– Я, государь.
Матюшкин думал, Алексей Михайлович осерчает, а он обрадовался, толкнул в бок:
– Видал, какие у меня слуги? Берегут царя. – И вздохнул.
Стрельцы окружили государя, веселые, довольные: не проразинили.
– Утра будем ждать? – спросил Алексей Михайлович.
– А чего ждать – светлынь! – весело откликнулся Сидор. – Потешим тебя, государь!
Словно пушка бахнула из-под земли. Вылетел разбуженный хозяин леса. Сидор его на рогатину принял. Все двадцать пудов. На помощь кинулись охотники, Алексей Михайлович тоже рогатиной ткнул куда-то. Завалили зверя.
Запалили костер…
Тушу освежевали, мясо на вертела.
Царь налазился по сугробам, вспотел, снег стал за ворот сыпать. Его остановили:
– Поберегись, государь!
– Афанасий Иванович, спать хочешь?
– Нет, государь!
– Лошадей! В Москву!
По огненным снегам, на легких санках – сон!
И когда заря дотронулась розовыми пальчиками до маковки Ивана Великого, царь стучался в кремлевский дом боярина своего разлюбезного, Бориса Ивановича Морозова.
Морозов сунул ноги в валенки, шубу соболью накинул, так и встретил нетерпеливого гостя.
– Что стряслось, Алешенька?
– Помнишь, невесту обещал мне показать?
– Как не помнить? – засмеялся Борис Иванович. – Ах, Алеша, напугал ты меня!.. Будут невесты. Сегодня к сестрам твоим приедут. У Ильи Даниловича, у Милославского, две девицы, а которая из них краше – сердце само подскажет.
Стольник Илья Данилович Милославский из Архангельска на корабле ходил в Голландию послом. Одиннадцать месяцев дома не был, и вот уж, право, – с корабля на пир.
В доме не то что господа, слуги еще как следует не проснулись – примчался на взмыленных лошадях наиближайший боярин царя Борис Иванович Морозов. Щечки – пламень, сел и тотчас привскочил.
– Девицы здоровы? Собирай, Илья Данилыч! Царевна Ирина Михайловна ждет. Да честь по чести пусть обеих приберут! Ох, Данилыч! – На грудь стольнику припал и сам же оттолкнул от себя. – Да не каменей! Спеши!
Боже ты мой! Поднялась беготня, сыпались тумаки. Илья Данилыч умолял, всплакивал, грозился прибить! Хватал и тащил шубы, бросал на полпути, лупил в сенях замешкавшихся конюхов, стукал их головами о стенки, каменел-таки, бежал к гостю…
– Уговор, Данилыч, помнишь? – спрашивал Морозов, вышагивая комнату от окна к двери. – Одну девку государь за себя возьмет, коли возьмет. А другую возьму я.
– Господи, да хоть сейчас! – стоном стонал Илья Данилович.
– Окольничим пожалуют к свадьбе, потом, в бояре. Дом в Кремле я тебе уже приготовил, коли бог даст…