Санкт-Петербург. Автобиография Федотова Марина
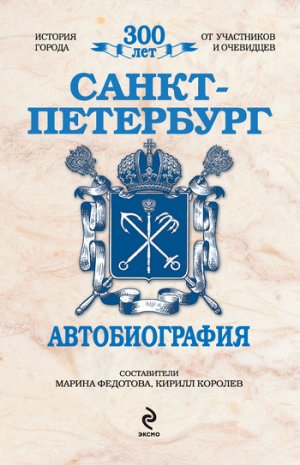
При торжественном открытии лицея находился Тургенев; от него узнал я некоторые о том подробности. Вычитывая воспитанников, сыновей известных отцов, между прочими назвал он одного двенадцатилетнего мальчика, племянника Василья Львовича, маленького Пушкина, который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью. Странное дело! Дотоле слушал я его довольно рассеянно, а когда произнес он это имя, то вмиг пробудилось все мое внимание.
Воспоминания о Царскосельском лицее оставил декабрист, друг А. С. Пушкина («Мой первый друг, мой друг бесценный!» – восклицал о нем поэт) И. И. Пущин.
Несознательно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за вечерним чаем, как теперь помню, входит директор и объявляет нам, что получил предписание министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволено посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, вероятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, сильно отуманило нас всех своей неожиданностью. Мы призадумались, молча посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуждения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при поступлении в Лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит постепенно все, особенно в те годы. Теперь, разбирая беспристрастно это неприятное тогда нам распоряжение, невольно сознаешь, что в нем-то и зародыш той неразрывной, отрадной связи, которая соединяет первокурсных Лицея. На этом основании, вероятно, Лицей и был так устроен, что по возможности были соединены все удобства домашнего быта с требованиями общественного учебного заведения. Роскошь помещения и содержания, сравнительно с другими, даже с женскими заведениями, могла иметь связь с мыслию Александра, который, как говорили тогда, намерен был воспитывать с нами своих братьев, великих князей Николая и Михаила, почти наших сверстников по летам; но императрица Мария Федоровна воспротивилась этому, находя слишком демократическим и неприличным сближение сыновей своих, особ царственных, с нами – плебеями.
Для Лицея отведен был огромный четырехэтажный флигель дворца, со всеми принадлежащими к нему строениями. Этот флигель при Екатерине занимали великие княжны: из них в 1811 году одна только Анна Павловна оставалась незамужней.
В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее. Во втором – столовая, больница с аптекой и конференц-зала с канцелярией. В третьем – рекреационная зала, классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после лекций), физический кабинет, комната для газет и журналов и библиотека в арке, соединяющей Лицей со дворцом чрез хоры придворной церкви. В верхнем – дортуары. Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных стенах прорублены были арки. Таким образом образовался коридор с лестницами на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были комнаты: всего пятьдесят номеров. Из этого же коридора вход в квартиру гувернера Чирикова, над библиотекой.
В каждой комнате: железная кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, вместе и ночной. На конторке чернильница и подсвечник со щипцами.
Во всех этажах и на лестницах было освещение ламповое; в двух средних этажах паркетные полы. В зале зеркала во всю стену, мебель штофная.
Таково было новоселье наше!
При всех этих удобствах нам нетрудно было привыкнуть к новой жизни. Вслед за открытием начались правильные занятия. Прогулка три раза в день, во всякую погоду. Вечером в зале мячик и беготня.
Вставали мы по звонку в шесть часов. Одевались – шли на молитву в залу. Утреннюю и вечернюю молитву читали мы вслух по очереди.
От 7 до 9 часов – класс.
В 9 – чай; прогулка – до 10.
От 10 до 12 – класс.
От 12 до часу – прогулка.
В час обед.
От 2 до 3 – или чистописание, или рисование.
От 3 до 5 – класс.
В 5 часов – чай; до 6 – прогулка; потом повторение уроков или вспомогательный класс.
По средам и субботам танцевание или фехтование.
Каждую субботу – баня.
В половине 9-го часа – звонок к ужину.
После ужина до 10 часов – рекреация.
В 10 вечерняя молитва – сон.
В коридоре на ночь ставили ночники во всех арках. Дежурный дядька мерными шагами ходил по коридору.
Форма одежды сначала была стеснительна. По будням – синие сюртуки с красными воротниками и брюки того же цвета: это бы ничего; но зато, по праздникам, мундир (синего сукна с красным воротником, шитым петлицами, серебряными в первом курсе, золотыми – во втором), белые панталоны, белый жилет, белый галстух, ботфорты, треугольная шляпа – в церковь и на гулянье. В этом наряде оставались до обеда. Ненужная эта форма – отпечаток того времени – постепенно уничтожалась: брошены ботфорты; белые панталоны и белые жилеты заменены синими брюками с жилетами того же цвета; фуражка вытеснила совершенно шляпу, которая надевалась нами, только когда учились фрунту в гвардейском образцовом батальоне.
Белье содержалось в порядке особой кастеляншей; в наше время была Скалон. У каждого была своя печатная метка: номер и фамилия. Белье переменялось на теле два раза, а у стола и на постели раз в неделю.
Обед состоял из трех блюд (по праздникам четыре). За ужином два. Кушанье было хорошо, но это не мешало нам иногда бросать пирожки Золотареву в бакенбарды. При утреннем чае крупитчатая белая булка, за вечерним – полбулки. В столовой, по понедельникам, выставлялась программа кушаний на всю неделю. Тут совершалась мена порциями по вкусу.
Сначала давали по полустакану портеру за обедом. Потом эта английская система была уничтожена. Мы ограничивались отечественным квасом и чистой водой.
При нас было несколько дядек: они заведовали чисткой платья, сапог и прибирали в комнатах. Между ними замечательны были Прокофьев, екатерининский сержант, польский шляхтич Леонтий Кемерский... У него явился уголок, где можно было найти конфекты, выпить чашку кофе и шоколаду (даже рюмку ликеру, разумеется, контрабандой). Он иногда, по заказу именинника, за общим столом, вместо казенного чая, ставил сюрпризом кофе утром или шоколад вечером, со столбушками сухарей. Был и молодой Сазонов – необыкновенное явление физиологическое; Галль нашел бы, несомненно, подтверждение своей системы в его черепе.
Слишком долго рассказывать преступления этого парня – оно же и не идет к делу.
Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготовлялась гроза 1812 года. Эти события сильно отразились на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея, – мы всегда были тут, при их появлении; выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми – усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита!
Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции – Кошанский читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях, – всему живо сочувствовалось у нас: опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам недоступное.
Таким образом, мы скоро сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья – в этой семье свои кружки; в этих кружках начали обозначаться, больше или меньше, личности каждого; близко узнали мы друг друга, никогда не разлучаясь, – тут образовались связи на всю жизнь.
Легенда об «окаянном городе», 1811 год
Николай Карамзин, Виссарион Белинский, Дмитрий Мережковский
Широко известна легенда о пророчестве, предрекающем: «Петербургу быть пусту». Одна из версий приписывает эти слова первой жене Петра Великого, сосланной им в монастырь Евдокии Лопухиной. По другой версии, изложенной А. Н. Толстым в «Хождении по мукам», «еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви... спустясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору – худую бабу и простоволосую, – сильно испугался и затем кричал в кабаке: «Петербургу, мол, быть пусту», за что и был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец – мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу... С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею петербургские призраки».
Легенды чаще всего увязывали пророчество о гибели города с многочисленными наводнениями и болотными испарениями. Впрочем, среди тех, кто был наделен властью и имел влияние в обществе, подвергать сомнению разумность основания города именно в устье Невы было не принято. Историк Н. М. Карамзин в своей «Записке о древней и новой России», ходившей в рукописи (к публикации была запрещена цензурой), был одним из первых людей, кто осмелился усомниться в гении Петра Великого.
Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных породою на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза товаров; но мысль утвердить там пребывание государей была, есть и будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно сказать, что Петербург основан на слезах и трупах. Иноземный путешественник, въезжая в государство, ищет столицы, обыкновенно, среди мест плодоноснейших, благоприятнейших для жизни и здравия; в России он видит прекрасные равнины, обогащенные всеми дарами природы, осененные липовыми, дубовыми рощами, пресекаемые реками судоходными, коих берега живописны для зрения, и где в климате умеренном благорастворенный воздух способствует долголетию, – видит и, с сожалением оставляя сии прекрасные страны за собою, въезжает в пески, в болота, в песчаные леса сосновые, где царствует бедность, уныние, болезни. Там обитают государи российские, с величайшим усилием домогаясь, чтобы их царедворцы и стража не умирали голодом и чтобы ежегодная убыль в жителях наполнялась новыми пришельцами, новыми жертвами преждевременной смерти! Человек не одолеет натуры!
Авторитет Н. М. Карамзина немало способствовал распространению рассуждений об «окаянном городе». От Петербурга («Финополиса») отрекался в дневниковых записях Н. И. Тургенев: «Невыгода географического положения Петербурга в отношении к России представилась мне еще сильнейшею, в особенности смотря по нравственному отдалению здешних умов от интересов русского народа». Петербург проклинал В. А. Жуковский: «О, Петербург, проклятый Петербург с своими мелкими, убийственными рассеяниями! Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя жизнь давит меня и душит!»; в то же время он признавался, что «не жить в Петербурге нельзя».
В. Г. Белинский в «Физиологии Петербурга» отчасти соглашался с Жуковским, однако отвергал пророчество о городе, которому надлежит «быть пусту».
Говорят еще, что Петербург не имеет в себе ничего оригинального, самобытного, что он есть какое-то будто бы общее воплощение идеи столичного города и, как две капли воды, похож на все столичные города в мире. Но на какие же именно? На старые, каковы, например, Рим, Париж, Лондон, он походить никак не может; стало быть, это сущая неправда. Если он похож на какие-нибудь города, то, вероятно, на большие города Северной Америки, которые, подобно ему, тоже выстроены на расчете. И разве в этих городах нет своего, оригинального? Разве в стенах города и в каждом камне его видеть будущее не значит – видеть что-то оригинальное и притом прекрасно оригинальное? Но Петербург оригинальнее всех городов Америки, потому что он есть новый город в старой стране, следовательно, есть новая надежда, прекрасное будущее этой страны. Что-нибудь одно: или реформа Петра Великого была только великой исторической ошибкой, или Петербург имел необъятно великое значение для России. Что-нибудь одно: или новое образование России, как ложное и призрачное, скоро исчезнет совсем, не оставив по себе и следа; или Россия навсегда и безвозвратно оторвана от своего прошедшего. В первом случае, разумеется, Петербург – случайное и эфемерное порождение эпохи, принявшей ошибочное направление, гриб, который в одну ночь вырос и в один день высох; во втором случае Петербург есть необходимое и вековечное явление, величественный и крепкий дуб, который сосредоточит в себе все жизненные соки России. Некоторые доморощенные политики, считающие себя удивительно глубокомысленными, думают, что так как, де Петербург явился не непосредственно, вырос и расширился не веками, а обязан своим существованием воле одного человека, то другой человек, имеющий власть свыше, также может оставить его, выстроить себе новый город на другом конце России: мнение крайне детское. Такие дела не так легко затеваются и исполняются. Был человек, который имел не только власть, но и силу сотворить чудо, и был миг, когда эта сила могла проявляться в таком чуде, – и потому для нового чуда в этом роде потребуются опять два условия: не только человек, но и мир. Произвол не производит ничего великого: великое исходит из разумной необходимости, следовательно, от Бога. Произвол не состроит в короткое время великого города; произвол может выстроить разве только вавилонскую башню, следствием которой будет не возрождение страны к великому будущему, а разделение языков. Гораздо легче сказать – оставить Петербург, чем сделать это: язык без костей, по русской пословице, и может говорить, что ему угодно; но дело не то, что пустое слово. Только господам Маниловым легко строить в своей праздной фантазии мосты через пруды, с лавками по обеим сторонам.
Позднее западники и славянофилы, полемизируя практически во всем, сходились на нелюбви к Петербургу и отрицании города: «Питер имеет необыкновенное свойство оскорбить в человеке все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя – человек он, получеловек или скотина: если будет страдать в нем – человек; если Питер полюбится ему – будет или богат, или действительным статским советником» (В. Г. Белинский); «Нигде я не предавался так часто, так много свободным мыслям, как в Петербурге. Задавленный тяжкими сомнениями, бродил я, бывало, по граниту его и был близок к отчаянию. Этими минутами я обязан Петербургу, и за них я полюбил его так, как разлюбил Москву за то, что она даже мучить, терзать не умеет. Петербург тысячу раз заставит всякого честного человека проклясть этот Вавилон... Петербург поддерживает физически и морально лихорадочное состояние» (А. И. Герцен); «Первое условие для освобождения в себе пленного чувства народности – возненавидеть Петербург всем сердцем своим и всеми помыслами своими» (И. С. Аксаков). Еще позднее к образу «окаянного города» добавились новые черты, слившиеся в мифологему «Петербурга Достоевского».
В начале XX столетия легенду об «окаянном городе» символически переосмыслил Д. С. Мережковский.
Моя ежедневная прогулка – по Летнему саду, мимо домика Петра Великого. Там на старых липах множество вороньих гнезд. Когда убийцы Павла I проходили ночью по средней аллее сада к Михайловскому замку, то поднялось такое карканье, что заговорщики боялись, как бы не проснулся спящий император. Вороны и надо мной каркают. Есть легенда, что эта вещая птица живет столетия. Может быть, некоторые из них помнят Петра.
И вот, в последнее время мне чудится в их карканье злое пророчество, то самое, за которое в 1703 году, при основании города, били кнутом, ссылали на галеры, рвали ноздри и резали языки: «Петербургу быть пусту».
«Три старых рыбака, живших до основания Петербурга в местах, где возник город, рассказывали в 1721 году, что за тридцать лет перед тем было такое наводнение, что вся страна до Ниеншанца была потоплена, и что подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Поэтому первобытные жители невского прибрежья никогда не строили там прочных жилищ, но небольшие рыбачьи хижины. Как только, по приметам, ожидалась большая буря, крестьяне ломали свои хижины, а бревна и доски складывали как плоты и привязывали к деревьям; сами же, в ожидании убыли воды, спасались на Дудареву гору» («Петербургская старина» академика П. Пекарского).
Веря этим пророчествам, русские люди, насильно загнанные в «парадиз», говорили, что здесь жить нельзя, что город будет снесен водой или провалится в трясину.
Осенью 1905 года я как-то раз вечером шел по Невскому. Вдруг все электрические фонари потухли. Наступила темнота, словно черное небо обрушилось. Подростки-хулиганы засвистели пронзительно, и раздался звон разбитого стекла. По направлению от Аничкина моста к Литейной бежали черные толпы. Ковыляющая старушка-барыня со съехавшей на бок шляпой закричала мне в лицо: «Не ходите, там стреляют!» И мне действительно послышались или почудились выстрелы. Было страшно, как во сне. И вспомнился мне сон. Впрочем, снов рассказывать не следует. Только два слова. Черный облик далекого города на черном небе: груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы. Вдруг по этой черноте забегали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я, или кто-то мне сказал, что это взрывы исполинского подкопа. Я ждал, я знал, что еще миг – и весь город взлетит на воздух, и черное небо обагрится исполинским заревом.
Я уехал в том же году, когда уже почти все было кончено; вернулся этой осенью, в самое сердце реакции, в самое сердце холеры. Ни той, ни другой не видно конца. Каждый день на страницах «Нового времени» печатается Memento mori (Помни о смерти (лат.). – Ред.): «Заболело 17 человек, умерло 9». Кажется, на всем Петербурге, как на склянке с ядом, появилась мертвая голова. Сведущие люди уверяют, будто бы холера никогда не кончится, и устье Невы сделается необитаемым, как устье Ганга: «Петербургу быть пусту».
Но ни холера, ни реакция, ни чудовищные слухи о самоубийцах, об «одиноких», о «кошкодавах», ни даже эта страшная тоска на лицах, о, конечно, всероссийская, но которая именно здесь, в Петербурге, достигает каких-то небывалых пределов безумия (никто не замечает своего и чужого безумия, кажется, потому что все вместе потихоньку сходят с ума), – нет, не все это, а что-то иное заставляет меня испытывать вновь знакомое «чувство конца», видеть в лице Петербурга то, что врач называет facies Hyppоcratica, «лицо смерти». <...>
Главное, что поразило меня в Петербурге, это именно то, что лицо его ничуть не изменилось. Петербург тогда и теперь – как две капли воды. Правда, весь он осунулся как-то, одряхлел, постарел собачьей старостью. Но ничего не убавилось и не прибавилось. Только электрические трамваи, кинематографы да призрачный двойник Василия Блаженного. Но ведь этого мало даже для октябристов и мирнообновленцев.
Надо прожить несколько лет в Европе, чтобы почувствовать, что Петербург все еще не европейский город, а какая-то огромная каменная чухонская деревня. Не вытанцовавшаяся и уже запакощенная Европа. Ежели он и похож на город иностранный, то разве в том смысле, как лакей Смердяков «похож на самого благородного иностранца». <...>
Да, Петербург не изменился, и в этой-то неизменности, неизменяемости – «лицо смерти».
Шлепая по невероятной, черно-коричневой жиже среди невероятного, черно-желтого тумана, я думаю: точь-в-точь, как три года назад: три года – три века; нам казалось, что произошли в них бльшие события, чем смутное время, чем петровская реформа и двенадцатый год. Но вот оказывается, что ничего не произошло. Было, как бы не было. Да уж полно, было ли? Все голоса Петербурга вопят: не было! Но я знаю, помню. Надо сойти с ума, чтобы забыть. Тут-то и начинается мой бред, мой ужас, мое «чувство конца». <...>
Из русской земли Москва выросла и окружена русской землей, а не болотным кладбищем с кочками вместо могил и могилами вместо кочек. Москва выросла, Петербург выращен, вытащен из земли, или даже просто «вымышлен».
«В 1714 году Петр задумал умножить Петербург; заметив, что в городе медленно строились дома, царь запретил во всем государстве сооружать каменные здания с угрозою в противном случае разорения имения и ссылки. Постановлено было на всех судах, проходивших в Петербург через Ладожское озеро, также на всех подводах привозить камень и сдать его обер-комиссару. Если кто не исполнял этого положения, то с того доправлялось за каждый камень по гривне».
Еще бы не умышленный город!..
Недавно, по поводу холеры, один врач в Городской думе заметил с цинической, но живописной грубостью, что «весь Петербург стоит на исполинском нужнике».
- Красуйся, град Петров, и стой,
- Неколебимо, как Россия! —
восклицает Пушкин. Ужасно то, что этот исполинский нужник – исполинская могила, наполненная человеческими костями. И кажется иногда в желтом тумане, что мертвецы встают и говорят нам, живым: «Вы нынче умрете!» – как сказал Печорин Вуличу, заметив на лице его «странный отпечаток неизбежной судьбы». <...>
Достоевский понял, что в Петербурге Россия дошла до какой-то «окончательной точки» и теперь «вся колеблется над бездной». <...>
Но нельзя же вечно стоять на дыбах. И ужас в том, что «опустить копыта» – значит рухнуть в бездну.
Несколько лет назад, в один морозно-ясный день появились вокруг низкого солнца над Петербургом какие-то бледные радуги, похожие на северное сияние. Видевшие помнят ли или забыли, как забывают ныне все, что было? Было, как не было.
Когда я смотрел на это знамение, то казалось, вот-вот появится «конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть».
Смерть России – жизнь Петербурга, может быть, и наоборот, смерть Петербурга – жизнь России.
Глазами смотреть будут и не увидят; ушами слушать будут и не услышат. Не увидят «всадника на белом коне», не услышат трубного голоса: «Петербургу быть пусту».
На всем протяжении своей истории Петербург соперничал – и продолжает соперничать – с Москвой, причем соперничество это зачастую становилось заочным: не сами города состязались между собой, а их противопоставляли друг другу. Как писал академик В. Н. Топоров, «на почве этих идей в определенном контексте русской культуры как раз и сложилось актуальное почти уже два века противопоставление Петербурга Москве, связанное, в частности, с изменившимся соотношением этих городов. В зависимости от общего взгляда размежевание этих столиц строилось по одной из двух схем. По одной из них бездушный, казенный, казарменный, официальный, неестественно-регулярный, абстрактный, неуютный, выморочный, нерусский Петербург противопоставлялся душевной, семейственно-интимной, патриархальной, уютной, «почвенно-реальной», естественной, русской Москве. По другой схеме Петербург как цивилизованный, культурный, планомерно организованный, логично-правильный, гармоничный, европейский город противопоставлялся Москве как хаотичной, беспорядочной, противоречащей логике, полуазиатской деревне».
В целом Санкт-Петербург – прежде всего город-мечта, и в немалой степени именно этому обстоятельству он обязан долгой жизнью легенды об «окаянном городе», оборотной стороне, изнанке светлого, парадного образа «блистательного Петербурга».
Отечественная война, 1812 год
Николай Греч
Война с наполеоновской Францией все отчетливее представлялась неизбежной, однако началась она почти незаметно.
О настроениях, царивших в обществе в 1812 году, вспоминал Н. И. Греч.
Мы усердно занимались изданием «Санкт-Петербургского Вестника». Мирные труды наши прерваны были грозой, разразившейся над Россией. Многие из членов нашего общества выехали из Петербурга, некоторые вступили в военную службу, в армию, в ополчение. И остальным было не до литературы. Общее чувство опасности, возвышенное ощущение благороднейших движений любви к государю и отечеству волновали все сердца. Но это не был страх. Мы отнюдь не ужаснулись нашествию Наполеона, нимало им не изумились. Оно давно уже было предвидено, предсказано и ожидалось со дня на день. Особы, посвященные в тайны кабинетов, утверждали, что, вероятно, все кончится миролюбиво, что нет никаких ясных примет скорого начатия войны. Но публика судила и видела иначе, видела правду, которой до времени нельзя было возгласить во всеуслышание.
Тяжкое время прожили мы от Тильзитского мира до разрыва 1812 года! Россия не была покорена врагом, не повиновалась ему формально, но и союз с властолюбивым завоевателем был уже некоторого рода порабощением. Земля наша была свободна, но отяжелел воздух; мы ходили на воле, но не могли дышать. Ненависть к французам возрастала по часам. А должно сказать, что послы Наполеона, Коленкур и Лористон, усердно содействовали к ее распространению своею гордостью, дерзостью, тем, что называется по-французски arrogance. К довершению горестного нашего чувства, мы видели страдания государя. Он употребил все средства, какие только совместны были с честью его сана и с величием России, для сохранения мира с тем, для которого все трактаты и условия были только предлогами к начатию новых войн, который не знал пределов своему властолюбию и всякую мысль о независимости иных держав считал преступлением...
Весть о начале войны подействовала на всех как живительный дождь после продолжительного зноя: нет нужды, что он предвещает и жестокую бурю. Ждали известия о сражении на границе – его не было. Армии наши начали отступать. Этот образ ведения войны, чуждый нетерпеливому русскому нраву, возбудил общие опасения и даже негодование. Тщетно люди дальновидные утверждали противное. Да так сдадут и Москву! – вопили в публике и едва ли не обвиняли главнокомандующего в измене; он, в безмолвии и сознании собственной совести, понес на себе всю тяжесть общего мнения. Клястицкое сражение оживило сердца радостью и надеждой. Не знаю, какую цену дают этой победе в стратегическом отношении, но в политическом и в нравственном она имела самые благодетельные последствия, и недаром глас народа нарек графа Витгенштейна спасителем Петрова града. Эта победа показала нам, то есть массе публики, что самый благородный дух и твердая надежда одушевляют нашу армию; что наши воины знают, что делают, и успешно могут состязаться с французами. Эта уверенность много способствовала к поддержанию бодрости и мужества во всех сословиях народа: дело не последнее. И все принимали в том искреннее участие. Некто из охотников польстить и подслужиться заметил тогдашнему военному министру князю Алексею Ивановичу Горчакову, что пожалованием графу Витгенштейну Александровской ленты обошли его, старшего. «Ах, если бы меня всегда так обходили!» – воскликнул он с благородным чувством справедливости и скромности.
Один бедный чиновник, подгуляв на радости с приятелями по случаю поражения врагов, шел, пошатываясь и попева, по иллюминованному Адмиралтейскому бульвару. К нему подошел какой-то иностранец и спросил учтиво:
– Позвольте узнать, по какому случаю город сегодня иллюминован?
Это взорвало нашего патриота.
– Ах ты, заморская тварь, изменник, шпион! Вот по какому случаю! – закричал он и отвесил нескромному вопрошателю добрую пощечину.
Поднялся шум; забияку схватили и представили в часть.
– Как вы смеете драться? – спросил пристав. – И можно ли бить иностранца за то, что он вас спрашивает?
– Виноват, – отвечал подьячий, – но я ударил бы и ваше высокоблагородие, если б вы спросили о причине нынешней иллюминации.
Добрый пристав успокоил немца синенькой бумажкой, а пьяного патриота отпустил с увещанием не слишком увлекаться чувством народной гордости. Многие порицали в то время наше правительство, что оно выслало нескольких подозрительных иностранцев, разглашавших вредные вести, но оно поступило в этом случае справедливо и умно, хотя б в острастку оставшимся. Невероятно, с какой скоростью и быстротой разглашались у нас дурные вести.
Я посещал в те времена Биргер-клуб, или Гражданское собрание, бывшее в доме Щербакова, напротив Адмиралтейства. Там собирались чиновники, купцы, художники, ремесленники и тому подобные люди среднего звания, русские и иностранцы, и сообщали друг другу все, что слышали и узнавали. Все они оживлены были искренней любовью к государю и России, все встречали каждую добрую весть с восторгом и радостными слезами. Но в семье не без урода. В клубе были и приверженцы Бонапарта – французы, эльзасцы, швейцары. Когда мы, бывало, радуемся хорошим вестям и громко их передаем друг другу, они посматривают на нас косо и с злобной насмешкой. Радуйтесь, веселитесь! давали они нам знать, а скоро вам карачун будет. Когда же приходили новости неблагоприятные, – а они узнавали, невесть каким путем, гораздо ранее нас, даже иногда ранее правительства, – наши супостаты поднимали головы, пили шампанское с безмолвными тостами и смотрели на русских и приверженцев к России с торжеством и презрением. Лишь только получались несомненные известия о торжестве русских, зловещие заморские птицы прятались по углам. На вопрос: все ли вы в добром здоровье? – эти господа отвечали вздохами и оханьем. Я мог бы рассказать много любопытных анекдотов о том времени, но – кто старое помянет, тому глаз вон! Все это было до милостивого манифеста 1814 года.
Последним светлым днем того лета был Александров день. Сверстники мои, конечно, вспоминают, что в этот день, который Россия двадцать пять раз праздновала с восторгом и ликованьем, редко бывала дурная погода, несмотря на близость его к сентябрю. В 1812 году погода стояла самая ясная, летняя. Разряженные толпы двинулись в Невский монастырь за крестным ходом. К обедне приехал государь со всею императорской фамилией. В то же время распространилась весть о победе, одержанной при Бородине. Военный министр прочитал донесение главнокомандующего, но немногие могли его расслушать. Печатной реляции еще не было, а изустная молва преувеличила победу, как прежде преувеличивала потери. Многие слышали от верных людей, что в сражении убито сорок тысяч французов, в том числе маршалы Даву и Ней, и взято в плен тридцать тысяч, и т. д. Можно вообразить себе радость и ликованье всей публики! Взоры всех обращались на государя, который молился с искренним благоговением. Хотели прочесть в глазах его радостную новость, и действительно замечали, что он казался веселее и спокойнее, нежели в предшествовавшие дни. Громкие, усердные клики сопровождали его, когда он, после завтрака у митрополита, уезжал из лавры. Весь Невский проспект покрыт был гуляющими, празднующими. Все предавались усладительной надежде.
Обнародование реляции на другой день охладило пылкие ожидания, но не совсем их истребило. Затем наступило безмолвие. Небо покрылось темными тучами; какая-то тяжесть налегла на сердца. Грозные вести, как привидения, носились над головами. Никто не смел спросить другого; всяк боялся ответа. Наконец разразилось зловещее облако громовым гласом: Москва взята! Мертвое оцепенение последовало за сим ударом. Помните ли вы это время, мои сверстники? Время тяжелое, мучительное, но высокое, расширявшее душу, воскрылявшее мысль нашу к престолу подателя всех благ, дотоле миловавшего нашу любезную Россию.
Через две недели после Александрова дня наступил другой царский праздник, день коронования государя (15 сентября). Молебствие было в Казанском соборе. По окончании его государь вышел с императрицей и цесаревичем Константином Павловичем из церкви и сел с ними в карету. Он был бледен, задумчив, но не смущен; казался печален, но тверд. Площадь была покрыта народом. Карета тихо двинулась. Государь и государыня кланялись в обе стороны с приветливой улыбкой доверия и любви.
Народ не произносил тех громких криков, которыми обыкновенно приветствовал и торжественные дни возлюбленного монарха; все, в благоговейном безмолвии перед великой горестью русского царя, низко кланялись ему, не устами, а сердцами и взорами выражая ему свою любовь, преданность и искреннюю надежду, что Бог не оставит своею помощью верного ему русского народа и православного царя...
Отечественная война и петербургское общество, 1814 год
Филипп Вигель, Константин Батюшков
Бородино, бегство французов из Москвы, разгром французской армии на Березине, освобождение Польши и взятие Берлина – таковы основные события Отечественной войны, завершившейся 18 марта 1814 года, когда русские войска вошли в Париж. В стране царило ликование; разумеется, не осталась в стороне и столица, как явствует из воспоминаний Ф. Ф. Вигеля.
В это время холодный Петербург был так оживлен, так весь исполнен радости, что даже я, горемычный, наконец был ею потоплен. Общему счастью как можно завидовать? Им всегда я был угашен. Само небо, казалось, праздновало торжество России. Июнь и начало июля, говорят, были холодные и дождливые, но август сами приезжие из Южной Европы называли итальянским. И действительно, вместо светлых и сырых ночей, которые обыкновенно бывают на Севере, в этом феноменальном году имели мы ночи темные, совершенно темные и почти жаркие. В день Успения Богородицы была ужаснейшая гроза и чуть-чуть освежила только воздух.
Зрелище совершенно новое и оттого довольно странное в воинственно-придворном Петербурге было тогда: как на улицах, так и везде, отсутствие военных мундиров, генеральских и офицерских; все ходили во фраках. Самолюбивые офицеры французской армии, дотоле непобедимой, приписывали одним русским (русские всегда во всем виноваты) ее уроны, ее падение, и в Париже во всех публичных местах придирались к нашим офицерам, чтоб оскорбить их честь, от чего выходили частые поединки. Дабы положить тому препоны, государь приказал, чтобы они все оделись во фраки; по возвращении же в Россию сия обязанность обратилась им в право, коего лишены были они со времен Екатерины. Были люди, которые в этом видали начало торжества гражданственности: по их мнению, сам меч уничтожил царствие меча.
Однако же под этим (как называют его у нас) партикулярным платьем легко было узнавать молодых гвардейцев, по их скромно-самодовольному виду. Из них некоторая только часть, четыре полка старой гвардии, за несколько дней до приезда моего, возвратилась из похода. Их посадили на английские корабли, они приставали суток на двое к английскому порту Дилю, потом привезены были морем и высажены на берег в Петергофе, где уготовлены им были успокоение и пиры и откуда церемониальным маршем вступили они в Петербург. Телохранители, сотрудники, сподвижники Александра сделались в это время его любезным семейством; им предоставил он все торжество, его ожидавшее. Чрез триумфальные ворота, хотя деревянные, но богато изукрашенные, на том самом месте, где у Петергофской новой заставы возвышаются ныне гранитные и медные, не хотел он сам въезжать, а чрез них им велел вступить. Великолепную иллюминацию во всем городе, к приезду его приготовленную, по их возвращении, им в честь велел он зажечь. За то и их энтузиазм к нему изобразить невозможно: по возможности желая уподобиться кумиру своему, они в рассказах не думали хвастаться подвигами своими, с сердечною радостью обнимали знакомых, всех мирных сограждан встречали улыбкой и ласковыми приветами. Что за время! Особенно как мил казался нежный возраст самой первой молодости, уже опаленной порохом! Забывая совершенно о славных опасностях, в кои вдавался, не умолкал он о парижских своих наслаждениях, о Пале-Рояле, о Вери, о тысячеколонном кафе и прекрасной лимонадьере, о театрах, о Жоконде. Увы, кто мог бы тогда подумать, что между ними зародятся первые мысли о восстании против законной, благотворной им власти!
Итак, с душевным удовольствием смотрел я на то, что едва ли кому удастся когда-либо видеть: смотрел на Петербург не зевающий, не суетящийся и не чванный. От хороших знакомых желательно мне было узнать, какой вид имел он в предыдущих годах, и слышанное от них могу здесь передать. Во время отсутствия государя, в затруднительных обстоятельствах, в коих находилась Россия, двор притих, замолк; веселиться ему было бы неприлично. Когда, в начале зимы, императрица Елизавета Алексеевна, в первый раз по замужестве, поехала для свидания с германскими своими родными, а вслед за тем молоденькие великие князья, братья государевы, отправились в армию, то знатные, при дворе состоящие, решительно стали гнушаться столицей. В модном свете вошло в моду покидать Петербург. Одни, более богатые, еще прошлогоднею весной отплыли в союзную нам роскошную Англию, где в это время всякому русскому было житье; другие поспешили в освобожденную Германию услышать благословения спасительному нашему оружию; многие удалились в деревни, как мы видели Голицына и Рибопьера. Тогда-то Петербург из придворного города превратился в казенный: все те, кои занимали в нем высшие должности, заняли также и первые места в обществе.
В том же 1814 году в честь заключения мира был дан грандиозный салют – 324 залпа, а перед отъездом императора Александра на Венский конгресс в Петербурге состоялся военный парад в честь победы над Наполеоном.
В Париже положено было только основание всеобщего мира, устроена участь одной только Франции; на знаменитом Венском конгрессе, им (Александром. – Ред.) созванном, надеялся он упрочить сей мир, стараясь по возможности удовлетворять требования европейских государей, согласовать между собою, охранять выгоды каждого из воевавших народов и устранить на будущее время малейшие причины к раздорам. Сии высокие мысли занимали его, и в конце августа намерен был он опять отправиться в путь, дабы, возвратясь зимой, приняться за внутреннее устройство собственного государства.
Прежде отъезда государь хотел обрадовать Петербург столь же умилительным, как и великолепным зрелищем. В день Светлого Воскресения, в прекраснейший весенний день, на площади мятежа, где совершено было величайшее из преступлений, воздвиг он высокий помост, на котором православное духовенство громко возгласило: Христосе Воскресе. При сем возгласе, всякое русское сердце радостным трепетом наполняющем, православный царь и за ним воины всех христианских народов и вероисповеданий пали на колена перед Богом браней и Богом мира, благословившим одно и даровавшим им другой. Бесчисленные толпы нечестивых зрителей составляли раму этой картины, изображающей торжество веры, примирение неба с землею. Есть в истории минуты, которые должны греметь в веках, и русский молебен на Парижской площади принадлежит к ним. У нас давным-давно об ней забыли, но кичливые иностранцы-иноверцы помнят ее и не могут ее простить нам.
Сие благодарственное торжество повторено было на Царицыном лугу 18 августа, в день воспоминания Кульмского сражения. Большая часть участвовавших в нем, ровно за год перед тем, находилась в параде. Это также одно из наших славнейших воспоминаний в нынешнем веке, когда избраннейшая часть русского войска в Богемских ущельях возобновила чудеса Фермопил. В этот же самый день учрежден благотворный комитет для раненых воинов, и десятина со всего жалуемого государем должна собираться на содержание и успокоение их.
Также в честь победителей Наполеона были возведены триумфальные Нарвские ворота (проект Дж. Кваренги), и в 1815 году через них прошли вернувшиеся из Франции полки.
Послевоенный Санкт-Петербург описал в «Прогулке в Академию художеств» поэт К. Н. Батюшков. Это небольшое произведение по сути представляет собой панегирик городу.
Вчерашний день, поутру, сидя у окна моего с Винкельманом в руке, я предался сладостному мечтанию, в котором тебе не могу дать совершенно отчета; книга и читанное мною было совершенно забыто. Помню только, что, взглянув на Неву, покрытую судами, взглянув на великолепную набережную, на которую, благодаря привычке, жители петербургские смотрят холодным оком, – любуясь бесчисленным народом, который волновался под моими окнами, сим чудесным смешением всех наций, в котором я отличал англичан и азиатцев, французов и калмыков, русских и финнов, я сделал себе следующий вопрос: что было на этом месте до построения Петербурга? Может быть, сосновая роща, сырой дремучий бор или топкое болото, поросшее мхом и брусникою; ближе к берегу – лачуга рыбака, кругом которой развешены были мрежи, невода и весь грубый снаряд скудного промысла. Сюда, может быть, с трудом пробирался охотник, какой-нибудь длинновласый финн...
Здесь все было безмолвно. Редко человеческий голос пробуждал молчание пустыни дикой, мрачной, а ныне?.. Я взглянул невольно на Троицкий мост, потом на хижину великого монарха... И воображение мое представило мне Петра, который в первый раз обозревал берега дикой Невы, ныне столь прекрасные!.. Здесь будет город, сказал он, чудо света. Сюда призову все художества, все искусства. Здесь художества, искусства, гражданские установления и законы победят самую природу. Сказал – и Петербург возник из дикого болота.
С каким удовольствием я воображал себе монарха, обозревающего начальные работы; здесь вал крепости, там магазины, фабрики, адмиралтейство. В ожидании обедни в праздничный день или в день торжества победы, государь часто сиживал на новом вале с планом города в руках, против крепостных ворот, украшенных изваянием апостола Петра из грубого дерева. Именем святого должен был назваться город, и на жестяной доске, прибитой под его изваянием, изображался славный в летописях мира 1703 год римскими цифрами. На ближнем бастионе развевался желтый флаг с большим черным орлом, который заключал в когтях своих четыре моря, подвластные России. Здесь толпились вокруг монарха иностранные корабельщики, матросы, художники, ученые, полководцы, воины; меж ними простой рождением, великий умом, любимец царский, Меншиков, великодушный Долгорукий, храбрый и деятельный Шереметев и вся фаланга героев, которые создали с Петром величие Русского царства. <...>
И в самом деле время было прекрасное. Ни малейший ветерок не струил поверхности величественной, первой реки в мире... Великолепные здания, позлащенные утренним солнцем, ярко отражались в чистом зеркале Невы, и мы оба единогласно воскликнули: «Какой город! какая река!» <...>
Разговаривая таким образом, мы подходили к адмиралтейству. Помню, скажешь ты, помню эту безобразную длинную фабрику, окруженную подъемными мостами, рвами глубокими но нечистыми, заваленными досками и бревнами. Остановись, почтенный мой приятель! Кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает. Тот увидит новый город, новых людей, новые обычаи, новые нравы. Вот что я повторяю тебе ежедневно в моих записках. И здесь то же превращение. Адмиралтейство, перестроенное Захаровым, превратилось в прекрасное здание и составляет теперь украшение города. Прихотливые знатоки недовольны старым шпицем, который не соответствует, по словам их, новой колоннаде, – но зато колоннада и новые павильоны или отдельные флигели прелестны. Вокруг сего здания расположен сей прекрасный бульвар, обсаженный липами, которые все принялись и защищают от солнечных лучей. Прелестное, единственное гульбище, с которого можно видеть все, что Петербург имеет величественного и прекрасного: Неву, Зимний дворец, великолепные дома Дворцовой площади, образующей полукружие. Невский проспект, Исакиевскую площадь, Конногвардейский манеж, который напоминает Партенон, прелестное строение г. Гваренги, сенат, монумент Петра I и снова Неву с ее набережными! <...>
Разговаривая о старине, которую я выхвалял из снисхождения, мы приближались к Академии.
Я долго любовался сим зданием, достойным Екатерины, покровительницы наук и художеств. Здесь на каждом шагу просвещенный патриот должен благословлять память монархини, которая не столько завоеваниями, сколько полезными заведениями заслуживает от признательного потомства имя великой и мудрой. Сколько полезных людей приобрело общество чрез Академию художеств! Редкое заведение у нас в России принесло столько пользы. Но чему приписать это? Постоянному и мудрому плану, которому следует с давнего времени начальство, и достойному выбору вельмож деятельных и просвещенных на место президентское. Я стар уже; но при мысли о полезном деле или учреждении для общества чувствую, что сердце мое бьется живее, как у юноши, который не утратил еще прелестной способности чувствовать красоту истинно полезного и предается первому движению благородной души своей. Вступая на лестницу, я готов был хвалить с жаром монархиню и некоторых вельмож, покровителей отечественных муз.
«Святилище утех»: Павловск при Марии Федоровне, 1814 год
Федор Глинка, Василий Жуковский, Павел Свиньин
Павловск, куда еще при жизни своего супруга императора Павла удалилась (фактически, была сослана) императрица Мария Федоровна, счастливо избежал участи других загородных резиденций, пребывавших в известном запустении. Вдовствующая императрица превратила Павловск в личное поместье, устроила в нем литературно-художественный салон, заботилась о парке вплоть до своей кончины в 1828 году; как писал искусствовед А. М. Эфрос, «Павловск дополнялся, но не перестраивался наново; он оставался цельным». Планировкой парка и дворцового ансамбля Павловска занимались такие архитекторы, как А. Н. Воронихин, П. Гонзаго, Ч. Камерон, Дж. Кваренги и К. И. Росси. Придворный поэт императора Павла Ю. А. Нелединский-Мелецкий посвятил Павловску целую поэму:
- Тебя, сын вкуса и природы,
- Тебя пою, о Павловск, я!
- Святилище утех, свободы
- И красоты страны всея!
- К тебе и долгом, и желаньем
- Влекусь, восторгом я горя.
В 1814 году Павловск посетил литератор Ф. Н. Глинка, поведавший об этой резиденции и жизни в ней в «Письмах к другу».
Под мрачным небом гуляю с ясною душою. Мелкой дождь туманит воздух; по временам падает снег; птички молчат, луга скучают. Но в прекрасных садах сих, где все питает ум, нравится вкусу и пленяет сердце, и в самое ненастье гулять весело.
Сей час ходил я в так называемой розовый павильон. – Это одно из любимых мест обладательницы сей страны. Песчаная дорожка, извивающаяся между пространных зеленых равнин и прекрасных рощиц, ведет к прелестному садовому домику, окруженному множеством розовых кустов. Я думал, что там встретят меня гордые привратники, облитые золотом и не вдруг захотят удовлетворить любопытству безвестного странника. Я полагал, что в домике сем найду все, что роскошь и мода имеют пышного и блестящего. Но, друг мой! нигде так приятно не обманывался я в предположениях моих, как здесь, и никогда не был так доволен обманом своим, как теперь. – Прихожу – и вместо гордых стражей нахожу двух добрых израненных солдат, которые с удовольствием отворяют мне двери и с приветливою заботливостью спешат показать все любопытное. Вхожу – и вместо блесков роскоши и вычуров моды нахожу украшение несравненно их превосходнейшее, – нахожу очаровательный вкус и благородную простоту. Государыня отделала домик сей по вкусу и сердцу своему и в приятные летние вечера наслаждается тут тихой беседою избранных людей и утешается красотами Природы при ясной в небесах луне, под шумом падающих вод, в благоухании цветущих роз. – Тут нет, как я сказал, предметов роскоши, но есть вещи драгоценные; тут увидит любопытной прекрасные картины, поднесенные русскими художниками Покровительнице их; увидит чудесные опыты вышивания шелками: это дань сердечной признательности воспитанниц Института и Смольного монастыря. Оне повергли их к освященным стопам общей Матери и Покровительницы своей. Впрочем, я бы желал привести сюда поклонников моды, богачей наших и указать им, как все просто и мило в обители государыни нашей. Обыкновенно говорят: пусть государи покажут пример умеренности и простоты в жизни, – подданные охотно последуют им. Конечно, государи для народов своих то, что отцы для их семейств. Так спешите ж вы, которые по крайней мере каждые десять лет перестраиваете домы свои, каждый год переменяете украшения оных, всякий месяц шьете новые платья для себя и каждую неделю, а часто и каждый день, покупаете уборы и наряды для жен своих; вы, которые позволяете алчной моде поглощать все доходы родовых имений ваших и с благоговением повинуетесь произволу модной торговки и ножницам иностранного портного, поспешите взять похвальный пример: он готов для вас в священной особе государыни нашей и в достойном подражания образе жизни ее. – Здесь (в розовом павильоне) все на своем месте; везде порядок, чистота и опрятность; тут есть небольшая русская библиотека; поставлено фортепиано и каждый день кладутся новейшие журналы и ведомости на особом столе для приходящих. Но что пишут в этих книгах, что хранится в этих прекрасных ящиках? – Открываю и вижу много знакомых и незнакомых почерков, вижу прозу и стихи: великодушная государыня позволяет всякому, кто бы он ни был, изливать тут чувства и мысли свои на бумагу. – Все, что напишется, кладется тут и в свое время удостаивается высочайшего воззрения. – Я нашел здесь прекрасные стихи знакомого мне поэта Ф. Ф. Кокошкина, но больше всего понравилось мне приветствие государю Александру, написанное одним из известнейших любителей отечественного слова и любимца русских муз, Юрием Нелединским. Рассказывают забавный анекдот. Кто-то написал: «В прекрасном розовом павильоне все хорошо и всего довольно, только жаль, что недостает фортепиано!» – Через несколько дней строки сии были прочитаны – и фортепиано явилось в павильоне. – По этой одной черте можешь судить о снисходительности великодушной Покровительницы сих мест!..
Я видел прекрасный памятник, воздвигнутый в бозе почивающему императору Павлу I венценосной супругою его. Изваяние чудесное! Жена, облеченная в порфиру, в неутешной скорби преклоня венчанное чело свое на урну, горькими слезами обливает ее. Скорбь ее беспредельна и сетование чрезмерно: кажется, что с прахом усопшего погребла Она все свое счастье и часть самой себя предала тут земле. – Глубокая скорбь тесным союзом сочетала плачущую с прахом оплакиваемого! Утро улыбающееся в небесах застает ее в горести, златое солнце не осушает слез, и дочь молчаливой ночи, светлая луна, находит ее все в той же тоске. – Я видел здесь, как плачет мрамор: слезы точно льются!.. Мне казалось, что я слышал и стоны: так много влил художник жизни в надгробное изваяние свое...
Я прошел за розовой павильон и увидел прекрасную деревню с церковью, господским домом и сельским трактиром. Я видел высокие крестьянские избы, видел светлицы с теремами и расписными окнами; видел между ними плетни и заборы, за которыми зеленеют гряды и садики. В разных местах показываются кучи соломы, скирды сена и проч. и проч. – Только людей что-то не видно было: может быть, думал я, они на работе... Уверенный в существовании того, что мне представлялось, шел я далее и далее вперед. Но вдруг в глазах моих начало делаться какое-то странное изменение: казалось, что какая-нибудь невидимая завеса спускалась на все предметы и поглощала их от взора. Чем ближе я подходил, тем более исчезало очарование. Все, что видно было выдавшимся вперед, поспешно отодвигалось назад: выпуклости исчезали, цветы бледнели, тени редели, оттенки сглаживались – еще несколько шагов, и я увидел натянутый холст, на котором Гонзаго нарисовал деревню. Десять раз подходил я к самой декорации и не находил ничего; десять раз отступал несколько сажен назад, – и видел опять все!.. Наконец, я рассорился с своими глазами, голова моя закружилась и я спешил уйти из сей области очарований и волшебств!..
Скучная погода миновалась. Прояснилось небо и зелень прелестных садовых долин явилась в полном блеске. Седые туманы свились в облака и ветры унесли их с собою. – Как усладительна вечерняя прогулка в здешних садах! Я сей час смотрел, как тихая заря алела в серебряных разливах вод. Множество мелких судов, украшенных разноцветными флагами, пестрили зеркальную поверхность прудов. В разных местах между рощиц и перелесков слышны были разные шумы и клики, отголоски и песни. Звуки свирели сливались с звуками рожка. Вдали близ дворца гремела полковая музыка; в одном углу слышан был веселый гам играющих в сельские игры; в другой стороне отзывы вторили русские песни. Так бывает здесь всякий день. Благотворительная Обладательница сих мест любит, чтоб веселились люди Ея. И как не веселиться им! Здесь никто не обижен, никто не утеснен. Сады здешние имеют то преимущество перед прочими, что в них приятность соединена с пользой. Зная, что труды награждаются щедро, рабочие люди стекаются сюда даже из Белоруссии. Весело поработав в садах, они радостно несут в помощь семейств своих вырученное ими. И соседние крестьяне охотно идут работать к царице. Они трудятся только в урочные часы. Весь вечер их: тут отдыхают, забавляются, поют...
Поэт В. А. Жуковский, декламатор при дворе Марии Федоровны, посвятил дворцовому парку Павловска стихотворение «Славянка» – по названию протекающей через парк речки. К этому стихотворению он составил примечание:
Здесь описываются некоторые виды берегов, и в особенности два памятника, произведение знаменитого Мартоса. Первый из них воздвигнут государынею вдовствующею императрицею в честь покойного императора Павла. В уединенном храме, окруженном густым лесом, стоит пирамида: на ней медальон с изображением Павла; перед ним гробовая урна, к которой преклоняется величественная женщина в короне и порфире царской; на пьедестале изображено в барельефе семейство императорское: государь Александр представлен сидящим; голова его склонилась на правую руку, и левая рука опирается на щит, на коем изображен двуглавый орел; в облаках видны две тени: одна летит на небеса, другая летит с небес, навстречу первой. – Спустясь к реке Славянке (сливающейся перед самым дворцом в небольшое озеро), находишь молодую березовую рощу: эта роща называется семейственною, ибо в ней каждое дерево означает какое-нибудь радостное происшествие в высоком семействе царском. Посреди рощи стоит уединенная урна Судьбы. Далее, на самом берегу Славянки, под тенью дерев, воздвигнут прекрасный памятник великой княгине Александре Павловне. Художник умел в одно время изобразить и прелестный характер и безвременный конец ее; вы видите молодую женщину, существо более небесное, нежели земное; она готова покинуть мир сей; она еще не улетела, но душа ее смиренно покорилась призывающему ее гласу; и взоры и рука ее, подъятые к небесам, как будто говорят: да будет воля твоя. Жизнь, в виде юного Гения, простирается у ее ног и хочет удержать летящую; но она ее не замечает; она повинуется одному Небу – и уже над головой ее сияет звезда новой жизни.
Императрица Мария Федоровна на собственные средства содержала в Павловске госпиталь Святой Марии Магдалины для инвалидов ее императорского величества. Глинка с восторгом описывал отношение ветеранов к Марии Федоровне.
Милость ее предает крылья ногам их! Надобно видеть, как они стараются угодить своей государыне, с каким усердием стерегут вверенное им и с каким веселым лицом и с каким простосердечным восторгом говорят о милостях и щедротах ее. А знаешь, как они (все инвалиды сии) называют государыню?.. Матушкою... Они говорят: «Сегодня Матушка гуляла там-то; а завтра сюда придет». Вчера говорил мне один инвалид: «Матушка горько плакала, отпуская солдат с молебном и с хлебом и солью в поход!» Они все, как сговорились, иначе не называют ее как Матушкою. – Друг мой! пусть беспристрастие положит на весы свои с одной стороны все громкие титулы царей, раболепием и лестью изобретенные; а с другой сие простое выражение невинных сердец: последнее перевесит!.. Как они услужливы, приветливы, добрые раненые солдаты! как ласково всякого встречают, с каким удовольствием отворяют домики, храмы, беседки! как проворно перевозят чрез речки на паромах и плотах! – Вся их должность состоит в этом. – А сколько, ты думаешь, здесь раненых солдат – 2000! Этого недовольно: милосердная государыня берет еще третью тысячу на собственное свое попечение. Они все сыты, одеты, обласканы и получают хорошее жалованье. Вот еще пример для богачей: пусть всякий так же возьмет по несколько инвалидов. Они будут стражами его лесов, садов, надзирателями полей, сельских работ и проч., а он постарается успокоить защитников его спокойствия, верных слуг его отечества: и тогда уже не так, как теперь, необходимы будут нам инвалидные домы, которыми по справедливости восхищались мы в чужих землях...
Наиболее подробное описание Павловска тех лет оставил П. П. Свиньин в «Достопамятностях Санкт-Петербурга».
Если искусство может приблизиться к природе, может заменить оную во всех ее играх и явлениях, ужасных и приятных, величественных и простых, то это конечно в Павловске. Сии угрюмые утесы, сии пенящиеся водопады, сии бархатные луга и долины, сии мрачные, таинственные леса кажутся первоначальным творением изящной природы, но они суть дело рук человеческих.
Сады павловские так пространны и столь разнообразны, что дабы описать сию подобранную зелень лесов, пленяющую взор яркими и приятными колерами своими, описать все памятники, павильоны, храмы, гроты и обелиски, счастливо приноровленные к местоположениям и мыслям, которые они должны возбуждать при первом взгляде, все украшения из мрамора, бронзы и граниту, поставленные в густых кущах, по дорожкам и на площадях; одним словом, чтоб описать подробно Павловск, потребно написать большую книгу, и любопытный должен провести несколько дней, чтоб осмотреть сии очаровательные места: удовольствие его на каждом шагу будет оживляться разнообразностью и новизной предметов. Постараемся, по крайней мере, кинуть взгляд на главные достопамятности, если перо мое того достойно...
Итак, первый предмет, встречаемый в Павловске, есть монумент благости и человеколюбия высокой его обладательницы государыни императрицы Марии Феодоровны. Ея величество содержит на свой счет более 2000 израненных воинов, из коих многие служат привратниками и проводниками в садах павловских.
Спустясь под гору, открываешь дворец в таком виде, как представлен он здесь на картинке, и едва поверишь, чтоб это были царские чертоги, особенно приехав из Сарского Села, от великолепного и огромного дворца. Чем более приближаешься, тем чувствительнее замечаешь гармонию всех предметов, соединяющих изящнейший вкус с самою величественной простотой. Главные боковые части замка закрыты деревьями; сие увеличивает изумление зрителя, находящего посреди его величественные и великолепные залы...
Нижний этаж содержит в себе покои, которые изволит занимать государыня императрица Мария Феодоровна, когда приезжает сюда весною наслаждаться удовольствиями, неизвестными столице.
В маленьком кабинете замечательна прекрасная картина Корреджо, представляющая Купидона, грозящего поразить стрелою всякого, кто дерзает приблизиться к нему, с которой бы то ни было стороны.
Отсюда входишь в фонарик. Сие очаровательное место заключает в себе все, что природа и искусство представляют совершенного. С одной стороны избранные картины Бароция, Бассано, Греза, Минъярини, Мурильо, Веронезе, Карла Дольни, Пуссена, Вандервельда, и проч., а с другой – корзины, наполненные редчайшими цветами, которые распространяют повсюду райские благоухания и неизъяснимую прелесть на все окружающие предметы.
В столовой комнате находятся четыре большие Роберовы картины, из коих в одной артист имел искусство соединить многие знаменитые здания древнего Рима, не испортя перспективы...
Если главнейшей целью при расположении и убранстве сего этажа было – соединить приятство с простотою сельского жилища, то верхний этаж имеет сверх того печать царских чертогов. Вазы из сибирской яшмы, малахитовые и лапис-лазуревые камины, столы из Лугамелло, Гобеленевы обои и другие драгоценные убранства представляют великолепие в высшей степени. В числе сих редкостей должно отличить многие украшения из янтаря и слоновой кости, кои суть произведения собственных рук ее величества императрицы Марии Феодоровны.
По обоим концам среднего корпуса сделаны великолепные залы, один из них посвящен Миру, а другой Войне. Нельзя не заметить прекрасных цельных стекол в окнах, из коих каждое в пять с половиной аршин величины. <...>
Церковь и убранство ее заслуживают особливо внимания как по богатству своему, так и по вкусу. Особенно достойна внимания копия Кореджиевой ночи, в коей вся картина чудесно освещается младенцем Спасителем. <...>
Выход из императорских покоев в сад проложен через колоннаду, расписанную Гонзаго, которая почитается лучшим произведением его кисти.
Собственный садик ее величества по справедливости может назваться храмом Флоры, которой статуя находится посреди его. Он разделен на куртины, из коих одна посвящена редчайшим цветам, другая благоуханнейшим. Взоры и обоняние теряются в сем море ароматов и радуг; потребно более 15 000 горшков с цветами, дабы наполнить садик сей. Растения полуденных стран, всех частей света и самого экватора цветут во всем блеске и красоте. В садике сем находится прекрасный портик, поддерживаемый 16 ионическими колоннами. Отсюда видна большая дорога, нижний пруд с раззолоченными яхтами и шлюпками и противоположный мрачный берег. Покойный император Павел I по утрам в хорошую погоду любил заниматься здесь государственными делами. Посреди поставлена изящная группа трех Граций, поддерживающих огромную чашу, сделанную из одного куска белого мрамора.
На скате горы против Дворца находится фамильная роща, состоящая из дерев, посаженных при рождении каждого князя или княжны императорского дома, с именем, начертанным на маленькой жестяной дощечке. Посреди сей цветущей рощи дерев с именами великих княгинь Александры Павловны и Елены Павловны украшаются ежегодно новыми прелестями, а недалеко от них видишь печальную урну, воздвигнутую в память первой, а вдали представляется храм, заключающий мавзолей другой, похищенных от сего мира в цвете лет и красоты...
Оставив места сии, приблизишься к живописному каскаду, коего воды истекают из-под густо сплетшихся зеленых ветвей. На берегу его возвышается павильон, представляющийся с одной стороны в виде греческого перистиля. Его простая и благородная архитектура и виды, открывающиеся отсюда во все стороны, предпочтительно нравятся царствующей императрице, отчего и назван он Елисаветинским. В низу его видны весьма искусно сделанные развалины; разбитые статуи, барельефы, карнизы и колонны разных мраморов, выказывающиеся из травы и поросшие мхом, представляют воображению живое понятие о развалинах Греции, дышащей еще величием и славой.
Но что это за движущийся остров, рисующийся в прозрачных водах, его окружающих? Что значат сии златые поля и долины, покрытые тучными пажитями? Поспешим осмотреть их. Сии последние составляют часть собственной Фермы императрицы, а первый называется Волшебным островом. Он совершенно покрыт деревьями, верхушки коих соединены гирляндами из цветов и составляют свод, колеблющийся при малейшем дуновении Зефира и распространяющий прохладу вокруг прелестной статуи Бога любви, поставленной посреди чащи. Он коварно улыбается и, кажется, грозит пальцем дерзающему приблизиться к нему – оковать его цепями своими, по-видимому легкими и приятными, а на самом деле нередко твердыми и неразрывными!
Приехавши в Ферму, найдешь на правой руке деревенский домик. Войди в него, и как бы чародейскою силой почувствуешь себя перенесенным в великолепные палаты. Сюда приезжает повелительница мест сих и, слагая венец и порфиру, делается простою хозяйкой. Императрица Мария Феодоровна нередко угощает здесь детей своих и подданных. Ежегодно, по окончании жатвы, накрываются столы в домике и на дворе, созываются все крестьяне и работники и при лице своей матери торжествуют совершение полевых работ, так, как китайский император начинает их, выезжая сам с плугом на поле. В горницах, во всех местах поставлены фарфоровые вазы и чаши хрустальные. Их ежедневно наполняют свежим молоком и отсылают по разным павильонам в сад для прогуливающихся, коим предлагается сверх того сыр, масло и белый хлеб. На левой руке находится скотный и птичий двор. Здесь серна и собака бегают вместе, кошка играет с молоденькими фазанами. Смелость и ручность всех находящихся здесь животных припоминают золотой век, когда человек не наводил еще собою им ужаса. <...>
Праздник, данный в павильоне 1814 года 27 июля, соделает его навсегда памятным для русского. Он был единствен по великолепию, но еще более по случаю, который им ознаменован: императрица Мария Феодоровна торжествовала возвращение примирителя Европы, и герой сей – был бессмертный сын ее, царь русский. Праздник представлял замысловато справедливую картину нетерпения, с коим ожидаем был государь император в России всеми состояниями и возрастами, и всеобщего восторга, произведенного его приездом. При этой новости дети оставляли игры и забавы свои, поспешая усеять цветами дорогу своим отцам и государю и приветствовать его невинными песнями своими. Юноши и девы покидали полезные работы и самые приятные занятия и спешили воздвигнуть торжественные врата победителю, братьям и женихам. Молодые жены, до сего томившиеся беспокойством и нетерпением, спешили с грудными младенцами навстречу супругам своим и пели победные песни в честь герою, водившему их на поле славы. Другая картина представляла почтенную старость, оживленную радостью обнять детей своих и счастьем при виде России наверху благоденствия и величия... Сцены сии происходили в русской деревне, написанной столь живо знаменитым Гонзаго, что многие из зрителей долго оставались в обмане. И теперь еще видна она близ сего павильона.
Открытие императорской Публичной библиотеки, 1814 год
Павел Свиньин
В 1814 году произошло еще одно событие, не столь масштабное, но весьма важное для города – Публичная библиотека на Садовой улице была открыта для посетителей. П. П. Свиньин описал богатство фондов библиотеки, которая до сих пор обладает крупнейшим в мире фондом русских книг, изданных до 1917 года.
Екатерина II, постигая всю пользу общественных книгохранилищ, в коих, как в открытых источниках опытности целых веков и народов, люди всех состояний и званий могут почерпать нужные им сведения, свободно удовлетворять требованиям ума и сердца и принимать беспристрастные советы безмолвных наставников мудрости; бессмертная Екатерина положила создать для блага народа и чести столицы публичное книгохранилище. В 1795 году возымело оно начало свое, а теперь может почесться одним из богатейших и достойнейших примечания книгохранилищ в свете.
Главное и существенное основание оного составляет славная Варшавская библиотека, известная под именем Залузской. Обратим благодарные взоры на время, в которое два частных любителя просвещения воздвигли себе сей драгоценный памятник в умах своего потомства: граф Иосиф Залузский, епископ Киевский, большим иждивением и трудами собрал в течение 43 лет 200 000 томов; брат его, епископ Краковский, граф Андрей Залузский, умножив число их драгоценными рукописями и книгами, взятыми из музея польского короля, измыслил подарить столице приличное здание по плану архитектора Соколова. Строение сие немедленно началось; но внезапная кончина великой монархини оставила дальнейшее исполнение полезных ее по сей части намерений.
Так как библиотека доставлена была сухопутно в самую распутицу, то несколько ящиков с книгами попорчено; впрочем, потеря сия не так важна, как о ней многие говорили. На первый случай отведено было для порядка книг строение, зависящее от кабинета и то самое, в котором ныне помещен Малый театр... В удовлетворение немедленного желания государыни сделана была перечневая перепись без означения места изданий, году и проч., по коей оказалось всего 262 640 томов и 24 574 листа эстампов. По окончании предварительной работы сей принялись разбирать книги по разным их отделениям и языкам, дабы составить обыкновенный каталог; но назначенный в то время главным директором тайный советник граф Шуазель Гуфье остановил работу сию и учредил новый порядок, по коему предположено было раздробить библиотеку раздачей книг в разные казенные места, из коих многие в скорости и получили по своей части, как-то: Медицинская коллегия, Комиссия о составлении законов и проч.
В 1800 году, по увольнении от службы графа Шуазеля, библиотека поступила в ведомство покойного действительного тайного советника 1 класса, графа Александра Сергеевича Строганова; он, так сказать, сохранил бытие ее, и в 1801 году перенес из занимаемого ею неудобного для хранения дома в нынешнее здание, которое для того тогда же окончено было архитектором Руско.
По изготовлении шкафов помощник директора шевалье Огар начал с прочими чиновниками устанавливать книги, но болезненные припадки не позволили продолжать ему сего требующего трудного и особенных знаний занятия, а потому на его место государь император 29 марта 1808 года определил статс-секретаря тайного советника Оленина.
При нем, утвердительно можно сказать, библиотека получила новую жизнь и то благоустройство и великолепие, в коем она теперь представляется; особливо, когда по кончине графа Александра Сергеевича Строганова в 1811 году он высочайше назначен был главным оной директором.
Г. Оленин, во-первых, обратил все старание к изысканию кратчайших средств для скорейшего открытия библиотеки, в пользу желающих заниматься чтением книг и выписками из оных, по примеру прочих в Европе библиотек. На сей конец составил он новый легчайший библиографический порядок, извлеченный по строгому критическому рассмотрению и соображению со всеми известными доныне библиографиями. По оному и расположены ныне все печатные книги императорской Публичной библиотеки...
Здание библиотеки о трех ярусах: с одной стороны обращено к Невскому проспекту, а с другой к Гостиному двору. Середина его, или полукруглый угол, украшается фронтоном, составленным из дарических колонн, наверху коих поставлены колоссальные статуи греческих философов и написано золотыми буквами: «Императорская Публичная Библиотека». Но главное достоинство и красота сего здания состоит во внутреннем расположении его: широкая светлая гранитная лестница ведет ко всем трем ярусам; сверх того из внутренней нижней залы сообщаются они посредством деревянных лесенок, весьма искусно расположенных. В нижнем жилье помещены две великолепные залы для приходящих заниматься чтением и выписками. Для сего снабжены они покойными столами и пульпитрами. В первой, которая есть круглая, устроены четыре отделения: одно для дежурных чиновников, другое для письмоводителя, третье для казначея и четвертое для хранения казны. <...> На левой руке из первой залы находится хранилище рукописей, в коем легко может поместиться около 20 000 томов манускриптов, и две комнаты, из коих одна, по примеру Ватиканской библиотеки, назначена в особенное хранилище всех тех печатных книг и рукописей, которые по силе законов, изданных для цензуры книг, должны скрыты быть от большой части публики; другая определена для занятий хранителя рукописей и его помощника.
Главное богатство хранилища рукописей составляет музей г. Дубровского, приобщенный к сей библиотеке щедростью государя императора в 1805 году. Г. Дубровский, с давнего времени служа в Дипломатическом корпусе, находился при разных посольствах Российского двора и прожил вне своего отечества 26 лет. В течение сего времени он с неусыпным прилежанием и, к счастью, с необыкновенной удачей собирал древние рукописи и составил коллекцию, заключающую в себе памятники 13 веков. <...>
Особенного внимания заслуживает богатое собрание разных своеручных бумаг многих коронованных особ и знаменитых лиц, кои хотя и сошли со сцены мира, но мы любим видеть их и в самых тленных останках, как будто усматривая в них часть самих их. Замечательнейшая из них собственноручные письма испанского короля Филиппа II и супруги его Изабеллы (об открытии Америки). Письма Екатерины Медичи, Генриха IV, Людовика XIV, Маргариты Медичи, английской королевы Елизаветы, шотландской королевы Марии Стюарт (сии последние чрезвычайно любопытны и совсем неизвестны). Фельдмаршалов: Бризака, Виара, Тюренна, Кольбера, кардинала Ришелье, кардинала Мазарини, Сюлли, Боссюэ, Монтеня и проч. <...>
Для удобнейшего доставания книг из шкафов и для безопасности служащих чиновников устроены во всех этажах вокруг легкие галереи, по образцу существующих в славном Оксфордском книгохранилище.
По приведении книг в порядок в 1810 году, нашлось 262 646 томов, в том числе 45 000 дубликатов и разрозненных творений, 40 000 тетрадей диссертаций и мелочных сочинений и особенное собрание, заключавшее 753 тома любопытнейших книг, печатанных на разных европейских языках в XV веке, да эстампов 24 574 листа. Различными пожертвованиями частных людей, присылкой дубликатов из Эрмитажной библиотеки, покупкой и меною в нынешнем году число их возросло до 300 000 томов, выключая дубликатов и мелочных сочинений.
1814 года 2 января, после торжественного собрания, которое посвящается ежегодно в сей день благодарственному воспоминанию высочайшего посещения, каковым его императорское величество изволил осчастливить сие общеполезное заведение в незабвенном 1812 году, воспоследовало открытие сего книгохранилища для всех, желающих пользоваться его сокровищами. В день сей приглашаются билетами знатнейшие особы и любители просвещения: господином директором читается отчет за прошедший год, а другими чиновниками приличные рассуждения и сочинения.
Каждую неделю во вторник от 11 часов утра до 2 пополудни библиотека открыта для всех любопытствующих обозреть ее.
Среда, четверг и пятница, летом от 10 часов утра до 9 вечера, а зимою до захождения солнца, назначены для желающих заняться чтением и выписками.
В таком случае всякий должен получить от дежурного библиотекаря билет, с коим свободно может прийти в сии дни и требовать нужную ему книгу. Для лучшего удобства билеты сии напечатаны на двух языках, на русском и на французском; на обороте выставляется номер, звание и имя читателя, число, месяц и год за подписью чиновника, которым выдан билет, и точно в том же виде записывается в книгу.
Первый выпуск Царскосельского лицея, 1817 год
Филипп Вигель
Всего через три года после окончания Отечественной войны состоялся первый выпуск из Царскосельского лицея – тот самый выпуск, о котором обмолвился А. С. Пушкин: «Старик Державин нас приметил / И в гроб сходя благословил» (Г. Р. Державин скончался в 1816 году). Среди выпускников, помимо Пушкина, были, в частности, А. А. Дельвиг, М. А. Корф, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин. На выпускной церемонии присутствовал Ф. Ф. Вигель.
В начале 1817 года был весьма примечательный первый выпуск воспитанников из Царскосельского лицея; немногие из них остались после в безызвестности. Вышли государственные люди, как, например, барон М. А. Корф, поэты, как барон А. А. Дельвиг, военноученые, как В. Д. Вальховский, политические преступники, как В. К. Кюхельбекер. На выпуск же молодого Пушкина смотрели члены «Арзамаса» (литературное объединение. – Ред.) как на счастливое для них происшествие, как на торжество. Сами родители его не могли принимать в нем более нежного участия; особенно же Жуковский, восприемник его в «Арзамасе», казался счастлив, как будто бы сам Бог послал ему милое чадо. Чадо показалось мне довольно шаловливо и необузданно, и мне даже больно было смотреть, как все старшие братья наперерыв баловали маленького брата. <...> Спросят: был ли и он тогда либералом? Да как же не быть восемнадцатилетнему мальчику, который только что вырвался на волю, с пылким поэтическим воображением и кипучею африканской кровью в жилах, и в такую эпоху, когда свободомыслие было в самом разгаре? Я не спросил тогда, за что его назвали «Сверчком»; теперь нахожу это весьма кстати: ибо в некотором отдалении от Петербурга, спрятанный в стенах лицея, прекрасными стихами уже подавал он оттуда свой звонкий голос... Его хвалили, бранили, превозносили, ругали. Жестоко нападая на проказы его молодости, сами завистники не смели отказывать ему в таланте; другие искренно дивились его чудным стихам, но немногим открыто было то, что в нем было, если возможно, еще совершеннее, – его всепостигающий ум и высокие чувства прекрасной души его. <...>
Театральная жизнь Петербурга, 1818–1820-е годы
Филипп Вигель
Театр продолжал оставаться основным развлечением высшего и среднего сословий. В 1818 году был окончательно восстановлен после пожара семилетней давности Большой театр. Цензура несколько ужесточилась, что, естественно, отражалось на репертуаре, а главные роли все чаще исполняли отечественные актеры и актрисы; в частности, в 1820 году в Малом театре дебютировал В. А. Каратыгин. Театру тех лет уделил немало места в своих воспоминаниях Ф. Ф. Вигель.
К этому времени принадлежит и перестройка Большого каменного театра, сгоревшего 1 января 1811 года, хотя она произведена гораздо ранее. Француз Модюи принял на себя этот труд так, от нечего делать, говорил он, и дабы доказать русским, что и в безделице может выказаться гений. Этот первый опыт его в Петербурге был и последний. Не совсем его вина, если наружность здания так некрасива, если над театром возвышается другое строение, не соответствующее его фасаду. Тогдашний директор, князь Тюфякин, для умножения прибыли требовал, чтобы его как можно более возвысили. Когда перестройка была кончена, в начале 1818 года, двор находился в Москве, а государь на несколько дней приезжал в Петербург. Он осмотрел театр, остался доволен, но при открытии его быть не хотел. Щедро наградил он Модюи и деньгами и чином коллежского асессора; а тому более хотелось крестика.
Упоминая о театре, кстати приходится мне здесь говорить и о театральных представлениях. В русской труппе больших перемен произойти не могло. Целое новое поколение молодых актеров – Сосницкий, Рамазанов, Климовский – показалось в пятнадцатом году; в столь короткое время они не могли состариться, а напротив, возмужали и усовершенствовались.
Опера шла тихим шагом с своим прежним Самойловым и с меньшою Семеновою. Комедий новых было мало, а новых трагедий и вовсе не было. Но в старых, и особенно в драмах, явился маленький феномен, молодой Каратыгин. Как законный наследник престола, заступил он место отошедшего в вечность Яковлева, всеми почитаемого отцом его. Хотя в голосе двух трагических артистов было большое сходство, зато в прочем совершенная разница. Рослый и величавый Каратыгин, с благородною осанкой и красивым станом, умел пользоваться своими дарами природы; скоро учением и терпением приобрел он и искусство. Он женился на дочери танцовщицы Колосовой, девочке благовоспитанной, которая с ним явилась на сцене и которой вредил только недостаток в произношении. Он с нею ездил в Париж, там пример Тальмы и советы умной жены не только развили, даже породили талант, которого от природы, как утверждают, он не имел. Как бы то ни было, после Дмитревского, которого, еле живого, видел я в глубокой старости, выше актера в этом роде мы не имели. <...>
Уже несколько лет, как молодой Каратыгин блистал на русской сцене в трагических ролях. Природа сама сложила его для них: мужественный голос и лицо, высокий и красивый стан, все дала она ему. Но дала ли она ему способности? Если нет, то он умел приобресть их прилежным изучением своего искусства и благодаря советам умной, образованной и достаточной жены. По ее желанию, с нею ездил он в Париж и там, дивясь Тальме, как переимчивый русский, удачно старался подражать ему. Но, увы, время классицизма прошло, и он мог только изумлять нас в чудовищных ролях. Жена его тож имела много таланту в благородных ролях, только картавый выговор много вредил ей. Старшая Семенова сошла со сцены и вышла за князя Гагарина; меньшая, Нимфодора, продолжала все еще пленять в маленьких операх. Сосницкий, хотя уже весьма в зрелых летах, играл еще молодых людей в комедиях. Дюр, славный буф, был еще молод, но вскоре потом умер. Воротников был уморителен, когда играл деревенских дурачков, и создал роли Филаток. Прочие были все прежние актеры; а из новых, право, назвать некого.
Переходя из одной крайности в другую, я охолодел к французскому театру: он опротивел мне, и я никогда почти его не посещал. И оттого могу только припомнить себе и говорить здесь о двух главных лицах тогдашней труппы. Я уже раз назвал Жениеса; мне случалось видеть его в обществе; это был самый несносный француз, зато на сцене достоин бы он был играть одинаковые роли с Тальмой. Мадам Виржини Бурбье, красивая собою, также создана была играть Селимен и Эльмир; но все это уже было брошено.
Только один итальянский театр меня тогда еще притягивал. Года за два перед тем поручено было меломану, знатоку в музыке и самому артисту, графу Михаилу Виельгорскому на казенный счет выписать из Италии певцов и певиц, и он сделал сие удачно и дешево. Но так как это был один только высший каприз, то первую зиму желание угождать, новизна, мода заставляли лучшее общество посещать представления опер плодовитого и разнообразного Россини, который тогда был неистощим.
Исаакиевский собор, 1818–1825 годы
Филипп Вигель, Огюст де Монферран, Василий Стасов
Первый Исаакиевский храм – церковь Святого Исаакия Далматского – был заложен вскоре после основания города; в 1712 году в этой, тогда еще деревянной, церкви Петр Великий венчался с Екатериной I. Второй храм был заложен в 1717 году приблизительно на месте «Медного всадника» и сгорел почти дотла в 1735 году. Третий храм начали строить в 1768 году по проекту А. Ринальди. Строительство шло крайне медленно, однако в 1802 году храм все же был освящен; позже в нем состоялось торжественное богослужение в честь столетия основания Санкт-Петербурга. Полтора десятка лет спустя случилось чрезвычайное происшествие; протоиерей храма М. Соколов писал: «После херувимской песни, отсыревшая в сводах штукатурка упала на правый клирос, не причинив никому вреда, и падением своим сделала сильный удар и в народе содрогание, да притом нами еще усмотрено во внутренности церкви во многих местах от сырости повреждение штукатурки». Архитектурная комиссия пришла к заключению о необходимости закрытия храма и капитальной его перестройке. В конкурсе на новый собор приняли участие такие архитекторы, как А. Д. Захаров, А. Н. Воронихин, В. П. Стасов, Д. Кваренги, Ч. Камерон, но император отверг все предложения.
В 1816 году император поручил найти архитектора инженеру А. А. Бетанкуру, председателю комитета по делам строений и гидравлических работ. Бетанкур предложил кандидатуру молодого архитектора О. де Монферрана, недавно приехавшего из Франции. У Ф. Ф. Вигеля читаем:
Не помню, в июне или в июле месяце этого года приехал из Парижа один человечек, которого появление осталось вовсе не замеченным нашими главными архитекторами, но которого успехи сделались скоро постоянным предметом их досады и зависти. В одно утро нашел я у Бетанкура белобрысого французика, лет тридцати, не более, разодетого по последней моде, который привез ему рекомендательное письмо от друга его, часовщика Брегета. Когда он вышел, спросил я об нем, кто он таков? «Право, не знаю, – отвечал Бетанкур, – какой-то рисовальщик, зовут его Монферран. Брегет просит меня, впрочем не слишком убедительно, найти ему занятие, а на какую он может быть потребу?» Дня через три позвал он меня в комнату, которая была за кабинетом, и, указывая на большую вызолоченную раму, спросил, что я думаю о том, что она содержит в себе. «Да это просто чудо!» – воскликнул я. «Это работа маленького рисовальщика», – сказал он мне. В огромном рисунке под стеклом собраны были все достопримечательные древности Рима, Траянова колонна, конная статуя Марка Аврелия, триумфальная арка Септима Севера, обелиски, бронзовая волчица и проч., и так искусно группированы, что составляли нечто целое, чрезвычайно приятное для глаз. Всему этому придавало цену совершенство отделки, которому подобного я никогда не видывал. «Не правда ли, – сказал мне Бетанкур, – что этого человека никак не должны мы выпускать из России?» – «Да как с этим быть?» – отвечал я. «Вот что мне пришло в голову, – сказал он, – мне хочется поместить его на фарфоровый завод, там будет он сочинять формы для ваз, с его вкусом это будет бесподобно; да сверх того может он рисовать и на самом фарфоре». Он предложил это министру финансов Гурьеву, управляющему в то же время и кабинетом, в ведении коего находился завод. Монферран требовал три тысячи рублей ассигнациями, а Гурьев давал только две тысячи пятьсот; оттого дело и разошлось.
Монферран представил императору свои рисунки – и был назначен архитектором нового собора. Вскоре его проект получил высочайшее утверждение, и в июне 1819 года состоялась закладка первого камня. Сам архитектор так представлял будущий вид храма:
Исаакиевская церковь, увеличенная на одну треть, будет представлять в целом параллелограмм размерами 43 на 25 саженей. Она будет занимать почти самый центр площади.
Средняя часть будет увенчана по греческому канону великолепным куполом с четырьмя меньшими по углам.
Наружная облицовка церкви и колонны обеих папертей будут из белого ревельского песчаника. Все здание будет поднято на гранитном цоколе в сажень высотой.
Внутренность церкви останется прежней, т. е. мраморной до самых сводов. Новая часть будет выполнена в соответствии со старой, для чего будут использованы мраморы от прежней облицовки наружных стен.
Лепные купола и своды, украшенные живописью, скульптурой и позолотой, явят нам как внутри, так и снаружи богатством своих материалов и благородством архитектуры все, чем восхищаются в прекраснейших храмах Италии.
Я подсчитал, что издержки, необходимые для перемещения лесов, для восстановления алтаря и временной живописи на сводах, существующих в настоящее время, не превысят суммы в 25 000 рублей и что работа может быть закончена в течение двух месяцев.
Для новых лесов, требующих большого количества дерева, можно будет использовать материал теперешних лесов, которые к тому же годны лишь частично, ибо для выполнения апробированного плана устроены недостаточно прочно.
Затраты, необходимые для проведения работ в течение первого года, выразятся в сумме 506 300 рублей. Отдельные статьи расходов при сем прилагаю.
Наличие указанной суммы даст возможность завершить возведение фундаментов нового здания до высоты гранитной базы. Сие необходимо для обеспечения равномерного оседания, без чего невозможно возведение нового купола и смежных с ним сводов; кроме того, в течение лета можно будет добыть количество камня, потребное для возведения в следующем году до высоты антаблемента всех фасадов здания, с обеими папертями.
Фактически сразу после одобрения проекта и начала строительства Монферран столкнулся с открытым противодействием, в первую очередь – со стороны А. Модюи, который считал соотечественника «недоучкой». Кроме того, Монферрана обвиняли в растрате казенных средств. Ситуацию кратко подытожил Ф. Ф. Вигель.
Я не видел начала исполнения сего предприятия: к нему приступлено после отъезда моего за границу, весною 1818 года.
Когда я возвратился, нашел я подле собора в одно лето выросший огромный дом, который по форме своей походил на фортепиано и принадлежал родному племяннику министра юстиции, князю Лобанову-Ростовскому. Сей последний разбогател от женитьбы на графине Безбородко, племяннице и одной из наследниц князя Безбородко. Что же касается до самого собора, то кирпичный купол, построенный при Павле, был уже с него снят, и небольшая часть его к Почтовой улице сломана. Других перемен я не нашел, и в последующие годы видел мало.
А между тем полтора миллиона рублей ассигнациями ежегодно отпускаемо было для строения. На что употреблялись они? На постройку существующего и поныне деревянного забора и спрятанного за ним деревянного городка для помещения рабочего народа и смотрителей за работами, на сооружение гранитного фундамента под новое, к Почтовой улице вытягивающееся строение, более же всего на заготовление драгоценных материалов. Ими изобиловали в Финляндии Рускиальские каменоломни, и один простой русский промышленник, Яковлев, в кафтане и бороде, нашел удобное и легкое средство добывать огромнейшие их массы без помощи инженеров и механиков и доставлять их водою в Петербург. Тут узнал я все недоброжелательство и несправедливость западных иностранцев к русским; немногие говорили об этом человеке с некоторым одобрением, только двое или трое дивились его изобретательности. Зато русские осыпали его похвалами, когда летом 1822 года на Исаакиевскую площадь с Невы вывалил он чудовищный монолит, первый из тех, кои поддерживают ныне фронтоны собора. Нерукотворная гора под стопами Медного Всадника, воспетая Рубаном, вблизи его казалась карлицей подле великана. Нужен был и в Бетанкуре гений механики, чтобы поднять такую тяжесть и как простую палку воткнуть перед зданием. Выдуманные им машины служили великой помощью Монферрану, а после смерти его сделались его наследством. Все споспешествовало этому человеку: искусство и Бетанкура, и Яковлева, и, наконец, каменного дела мастера Квадри, который прочно умел строить, лучше всякого архитектора. Ему оставалось только рисовать да пока учиться строительной части.
За забором нельзя было видеть, как фундамент нового строения подымается из земли; только все видели, как каждый год что-нибудь отламывалось от старого, так что, наконец, осталась одна самая малая часть его и, можно сказать, украшала все еще новый Петербург, ибо была в нем единственною великолепною руиной.
Чтобы между тем чем-нибудь потешить царя, Монферран, с одобрения Бетанкура, затеял сделать деревянный модель новой церкви. Более года отделывался он в надворном строении того дома, где мы жили с Монферраном, и стоил более восьмидесяти тысяч рублей ассигнациями. Когда он был окончен, его перенесли и поставили в большой комнате, которую он всю наполнил собою. Она была рядом с моей квартирой, и я мог досыта налюбоваться этой щеголеватой и великолепной игрушкой. Купол как жар был вызолочен; лакированное дерево можно было принять за гранит и мрамор: до того оно им уподоблялось. Посредством рукоятки модель раздвигался надвое и давал вход во внутренность храма: там все было, и штучный пол, и раззолоченный иконостас, и миниатюрные иконы, его украшающие, и все чудесно было отделано. В комнате, через которую надобно было проходить, для противоположности нарочно поставлен был довольно грубой работы небольшой модель старой церкви, от времени попортившийся и который дотоле хранился в Академии художеств. Разница должна была броситься в глаза, хотя одно было плодом воображения пресловутого Растрелли, а в сочинении другого, как в иных французских водевилях, участвовали три автора.
Усилиями Модюи и других лиц строительство было остановлено. Комитет вновь рассмотрел проект Монферрана и внес в него исправления; это произошло в 1825 году, и именно проект 1825 года был в итоге воплощен в жизнь. Архитектор В. П. Стасов так характеризовал необходимость внесения поправок в первоначальный проект.
Главнейшая причина, побудившая перестроить Исаакиевский собор, была, по моему мнению, несоразмерность наружных и внутренних частей его к целому и формы сих частей, несообразные с правилами чистой архитектуры и с изяществом вкуса; первая из сих частей, поражавшая взор всякого, без сомнения, купол, был несоразмерно малый относительно пространства всего собора, освещал недостаточно внутренность, тогда отверстие купола внутри к пространству всего храма (без пристроек) содержалось как один к тринадцати.
По составленному проекту г-ном Монферраном внутреннее отверстие купола к пространству целого содержится как один к двенадцати; важная погрешность в рассуждении сей части здания исправлена весьма мало, и то только для наружного вида, а внутренняя нижняя часть под куполом оставалась без малейшего расширения; следовательно, по причине увеличения всей церкви, им новый проект сделан еще с большими погрешностями в сем отношении, нежели был старой собор.
Комитет сей разрешен в сделании всяких перемен против его плана, и перемены сии основать на правилах архитектуры и изящном вкусе, вместе с тем не отступать от сходства фасада, начертанного г-ном Монферраном.
Сообразя все сие по долговременном и прилежном размышлении, основанном на убеждении совести, принимаю слово «сходство» только в двух предметах, а именно: в пяти круглых главах и портиках, в сем последнем по причине готовых колонн, и ни в чем более, ибо, принимая иначе, будут два предложения, чрезвычайно противоположные, и избрать середину между ими нахожу совершенно невозможным, так что ежели соблюдется первое (изящество вкуса), то отступаешь от второго (сходство во всех частях с фасадом Монферрана), ежели держаться ко второму, то приступим против первого, и погрешение тем важнейшее для художника, что он вынужден изменить правилам искусства своего, не щадя и самым изяществом вкуса. <...>
Выбор нового проекта основать преимущественно на правилах чистой архитектуры и строгой критики, а не на особенном сходстве с фасадом Монферрана, ибо, основываясь на сем последнем – все так же, что основываться на ошибках, что и случилось, ибо по мнению выбор по баллам остановит суждение, без которого для определения настоящего достоинства невозможно открыть на сей предмет истинных правил и соглашения в изяществе, которыми бы должно руководствоваться и на которых повелено основаться, а потому в проекте сделанного нами последнего выбора по баллам и встречаются некоторые недостатки и излишества, несовместные для памятника величайшей важности, которых, впрочем, начертавшему и избежать было невозможно, основываясь преимущественно, вместо изящества архитектурного, на особенном сходстве с фасадом Монферрана. <...>
Вообще принадлежности внутренние сделались несколько велики и пышны, вопреки вкуса, нежели собственная часть здания храма, который непосредственно должен бы господствовать своим величием и соразмерностью над всеми окружающими его принадлежностями, как для него все созидаемой.
К 1836 году завершилось возведение стен и пилонов, с 1838 года начали возводить купол, а два года спустя приступили к работам в интерьере собора: в них принимали участие Ф. А. Бруни, К. П. Брюллов, П. К. Клодт, И. П. Витали. Освящение Исаакиевского собора состоялось в 1858 году. Современники, как жители России, так и иностранцы, единодушно восторгались итогом многолетних работ. Т. Готье писал: «Когда путешественник поФинскому заливу приближается на пароходе к Санкт-Петербургу, купол Исаакиевского собора, словно золотая митра, водруженная над силуэтом города, уже издали привлекает взгляд. Исаакиевский собор блещет в первом ряду церковных зданий, украшающих столицу всея Руси. Это только что завершенный храм, целиком построенный в наши дни. Можно сказать, что это наивысшее достижение современной архитектуры». А соотечественник Монферрана и Готье знаменитый А. Дюма писал в некрологе Монферрану: «Монферран... заставил подняться из земли, заставил возвыситься к небу... Пока две нации воевали, союз искусства устоял. Циркулем ее архитекторов и карандашом ее художников Франция подавала руку России...»






