Санкт-Петербург. Автобиография Федотова Марина
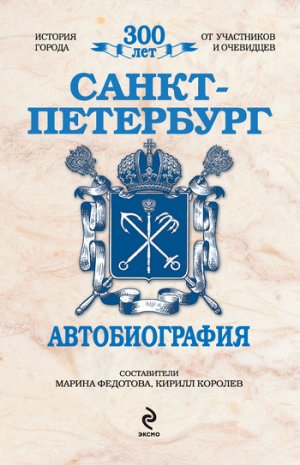
У ворот Александро-Невской лавры процессию встретило духовенство лавры во главе с архимандритом. При пении прекрасного лаврского хора гроб был снят с катафалка и понесен на руках к могиле.
И в то время как тело покойного оканчивало свой земной путь, приближаясь к месту вечного упокоения, вверху послышалось характерное жужжание мотора. Все невольно подняли глаза и были поражены необычайным, величественным зрелищем. Там, вверху, на незначительной высоте, гордо плыл над кладбищем дирижабль «Кречет». Командир его подполковник Ковалевский прилетел отдать последний долг своему собрату, сломленному жизненной случайностью в борьбе за достижение идеала, в борьбе за так трудно дающуюся в руки тайну.
Победно царил этот воздушный корабль в свободной стихии и словно кричал оттуда многотысячной толпе, провожавшей покойного: «А все-таки она вертится! А все-таки мы победим!»
Этот красивый полет над гробом борца со стихией был самым ценным и самым дорогим венком на могилу безвременно погибшего талантливого авиатора.
Еще задолго до прибытия процессии в лавру масса народа на кладбище. Многие пришли туда с самого утра и ждали. И здесь, как и по пути следования, все занято, все усеяно народом. Могилы, кресты, заборы, прилегающие сараи – словом, все то, на что можно было встать или влезть, занято... Фотографы поместились на крыше сторожевой будки и ждут момента...
Но вот пришли... Принесли гроб... Поставили над могилой... Краткая лития и такое же краткое слово священнослужителя... Горнист играет сигнал. И под звуки выстрелов провожавшей команды и последнего «вечная память» гроб опускают в могилу... Обезумевшая от горя жена с криком отчаяния бросается к могиле и падает без чувств. Пауза... Долгая, мучительная пауза. Гроб не засыпают землей. Все чего-то ждут, хотя знают и видят ясно, что ждать нечего, что все кончено. Но ждут... ждут слова...
В жизни масс, как и в жизни отдельных людей, бывают моменты, когда молчание давит хуже самого горя, хуже обрушившегося несчастья. И тогда масса жаждет, чтобы нашелся человек, который бы нарушил за всех их это тяжелое молчание, который бы крикнул громко, во всеуслышание, о том горе, которое все они переживают, о слезах, которыми они плачут. Слезы успокаивают, крик, хотя на время, убивает боль. Они ждали.
Тяжелое молчание нарушил шлиссельбуржец Н. А. Морозов, прочитавший красивое, глубокое поэтическое стихотворение, посвященное им памяти покойного...
После него прочли стихотворения, посвященные памяти Льва Макаровича, сотрудник газеты «Копейка» В. Трофимов и студент Санкт-Петербургского университета. Один из студентов от имени воздухоплавательного кружка сказал краткую речь, и все закончилось.
Рабочие взялись за лопаты... Застучала земля о крышку гроба, и конец...
«Прощай, прости, Лев Макарович!..»
Уже могилу сровняли с землей, установили крест, усыпали цветами, а публика все стояла... не расходилась... ждала... Тяжело, больно, жаль было покинуть так скоро близкую, дорогую могилу.
На белом скромном кресте, поставленном на могиле, значилось: «Корабельный инженер капитан Л. М. Мациевич погиб при полете на аэроплане 24 сентября 1910 г.».
Летчика Мациевича хоронили как национального героя (до него столь же многолюдных похорон удостоились разве что И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский).
Что касается аэродрома, скаковое поле было не слишком пригодно для полетов, и потому в конце концов аэродром перенесли на Комендантское поле, «чрезвычайно удобное по своей величине и близости к Петербургу». В ту пору это поле сдавал в аренду от имени города комендант Петропавловской крепости; отсюда современное название «Комендантский аэродром».
Через три года после фестиваля воздухоплавания Петербург и вся Россия отмечали национальный праздник – 300-летие правления дома Романовых.
Николай II записал в дневнике:
21 февраля. Четверг. День празднования 300-летия царствования дома Романовых был светлый и совсем весенний. Утром принял несколько чел. и затем погулял в саду. В 12 1/4 ч. я с Алексеем в коляске, Мама и Аликс в русской карете и, наконец, все дочери в ландо – тронулись в Казанский собор. Впереди сотня конвоя и сзади тоже сотня.
В соборе был прочитан манифест и затем отслужен торжественный молебен. Вернулись в Зимний тем же порядком в 1 1/2. Настроение было радостное, напомнившее мне коронацию. Завтракали с Мама. В 3.45 все собрались в Малахитовой, а в Концертной принимали поздравления до 5 1/2 ч. – прошло около 1500 ч. Аликс устала очень и легла; у Татьяны оказался жар. Читал и разбирал море телеграмм. Обедали Элла и Ольга. Вечером она уехала в Москву. Смотрел в окна на иллюминацию и на свечение прожекторов из башни адмиралтейства. Дул крепкий SW.
22 февраля. Пятница. Такой же теплый светлый день, как вчерашний. Аликс очень устала и не приняла участие в обоих приемах. В 11 час. в Концертной Мама и я приняли депутации от дворянств, земств, городов и всяких ученых обществ.
После завтрака погулял с детьми в садике. В 5 час. был прием дипломатов с их дамами. Читал и отвечал на телеграммы. В 8 1/4 поехали втроем с Ольгой в Мариинский театр на парадный спектакль. Шла «Жизнь за царя». Было очень красиво. Аликс уехала после первого действия.
23 февраля. Суббота. Целый день перепадал мокрый снег.
Утром недолго погулял. Принял Сухомлинова. В 12 1/2, когда Мама начала жаловать дам к руке, я принимал волостных старшин в нижнем коридоре, где для них был устроен обед. Успел еще посмотреть baise-main (прикладывание к руке. – Ред.). Мама завтракала с нами. Гулял и с остервенением разбирал телеграммы, кот. с 20 февр. пришло 1050 штук. Читал до обеда. В 9 час. изготовились и поехали втроем с Ольгой на бал в Дворянском собрании. В большой зале Салтыков поднес хлеб-соль, затем была сыграна новая кантата, потом все мы прошлись польским и тогда начались танцы. Ольга много танцевала. Аликс уехала сперва, затем уехала Мама и, наконец, я с Ольгой в 11.40. Был большой порядок и красивый бал.
24 февраля. Воскресенье. Чудный светлый день. В 11 час., на пути в церковь, все наши люди конюшенной части и загородных дворц. управлений поднесли нам иконы и хлеб-соль. После завтрака поехал в Народный дом, где одновременно в обоих театрах шли представления для 4500 чел. учащихся разных учеб. заведений. Посидел в каждом театре по акту и вернулся домой в 2.45. Погулял в саду один. Посидел с Татьяной, у кот. жар продолжается. До 7 час. собрались в Малахитовой и пошли выходом. В Николаевской зале стояло много крестьян разных союзов. Парадный обед был в трех залах и галерее 1812 года. До 9 час. были в своих комнатах. Провели вечер спокойно вместе.
Благодарение Господу Богу, ниспославшему милость на Россию и на нас тем, что так достойно и так светло было нам дано отпраздновать дни трехсотлетия воцарения Романовых.
Газета «Гражданин» откликнулась на праздник такой статьей:
День перед началом Великого поста
Среда, 20 февраля.
Завтра наступит день, когда минет трехсотлетие Дома Романовых. Несмотря на то, что день этот выпадает перед самым началом Великого поста, в настроении, которое наблюдаешь, есть что-то очень схожее с настроением светлого пасхального Воскресения: в воздухе, на смену будничному холодному равнодушию, как будто повеяло чем-то сердечным, чем-то добрым, и хотя небо угрюмо-серо, смотрится на движущуюся жизнь светлее, и даже в стенах Гос. думы, где так часто холодно от отсутствия доброты и любви, я предчувствую, что огромное большинство членов Думы, прибывающих сегодня в нее, чтобы посмотреть на прекрасную икону, ими подносимую царю на великолепном вышитом полотне, испытывает праздничное умиление, думая о завтрашнем дне и о его патриотическом значении...
300-летие правления дома Романовых
Все эти достижения экономического и социального развития России и объективно связаны с 300-летием правления дома Романовых. За годы правления династии Романовых государство московское стало обширной экономически развитой и процветающей российской империей, раскинувшейся от берегов морей Белого, Черного и Балтийского до Тихого океана.
Официальное празднование 300-летия правления Дома Романовых состоялось 21 февраля 1913 г. и началось со службы в Казанском соборе Санкт-Петербурга. В день службы Невский проспект, по которому двигались царские кареты, был битком набит возбужденной толпой. Несмотря на шеренги солдат, которые пытались сдержать натиск, народ, неистово крича приветствия, прорвал кордоны и окружил экипажи императорской четы. В соборе во время службы некуда было яблоку упасть. Этот день был отмечен манифестом и высочайшим указом о даровании милостей населению.
В честь монарха, его жены и всех великих князей Романовых знать столицы дала бал, на который были приглашены тысячи гостей. Царская чета посетила представление оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Когда в зале появились их величества, все присутствующие встали и устроили бурную овацию.
Последующие дни после службы в соборе были заполнены официальными церемониями. Со всех концов империи прибывали делегации, чтобы поздравить царя и поднести дары.
В мае 1913 г. царская семья отправилась в паломничество по памятным для Романовых местам. На Верхней Волге они сели на пароход и поплыли в старинную вотчину Романовых – Кострому, где Михаил был приглашен на царство.
На берегах Волги вдоль всего пути царской флотилии выстраивались крестьяне, чтобы наблюдать за ее прохождением. Великая княгиня Ольга вспоминала об этой поездке: «Где бы мы ни проезжали, везде встречали такие верноподданнические манифестации, которые, казалось, граничат с неистовством. Когда наш пароход проплывал по Волге, мы видели толпы крестьян, стоящих по грудь в воде, чтобы поймать хотя бы взгляд царя. В некоторых городах я видела ремесленников и рабочих, падающих ниц, чтобы поцеловать его тень, когда он пройдет. Приветственные крики были оглушительны!»
Впрочем, подобные праздники случались, разумеется, далеко не каждый день; что касается повседневных развлечений, народ веселили балаганы. О петербургских балаганах оставил воспоминания А. В. Лейферт, потомок антрепренера А. П. Лейферта, основателя балаганного театра «Развлечение и польза» на Марсовом поле.
В первой половине января начинались на Марсовом поле приготовления к масленичным гуляньям. Происходила разбивка мест. Приступали к сооружению временных театров. Распланировано было Марсово поле таким образом: первая линия, по которой выстраивались 4–5 крупных театров, была расположена параллельно Летнему саду. Каждый театр занимал площадь в 300 кв. саж.: 30 в длину и 10 в ширину. Промежутки между ними были не менее 15 саженей.
Вторая и третья линии, параллельные первой, застраивались балаганами-театрами меньшего размера, более примитивной архитектуры, незатейливой внешности и более чем скромного репертуара. Между балаганами второй и третьей линий расположены были карусели, перекидные качели, коньки, лари с берлинскими пышками, сосисками, стояли сани и телеги бакалейщиков, столы сбитенщиков, панорамы, раешники. На четвертой линии устроены были ледяные горы, а за ними устанавливался большой сарай для дежурной пожарной команды, где стояли наготове бочки с водою, насосы и разные предметы для тушения пожара. Кроме всего описанного, в центре Марсова поля устанавливалось помещение для полицейского пикета, куда забирали пьяных, хотя таких сравнительно было мало, уличенных воришек, и тут же владельцам балаганов сообщались различные распоряжения полиции.
Постепенно, вплоть до первого дня Масленицы, на Марсовом поле шли все усиленные приготовления, и в 12 час. в воскресенье сырной (масленой) недели открывались гулянья и продолжались в течение 8 дней. На Великий пост замирало Марсово поле, и гулянья возобновлялись в Светлое Христово Воскресенье снова на 8 дней Пасхальной недели.
Постройка больших театров по первой линии шла очень быстро, так как задолго до начала происходила заготовка всех частей заблаговременно на лесных дворах, а на месте оставалось его собрать из готовых частей и установить. За неделю перед масленицей заканчивалась работа по постройке, и приступали к украшению зрительного зала, к установке подъездов, размещению больших плакатов, а сцена в это время обставлялась декорациями, на ней приспособлялось освещение, машинные части и проч. На обставленной сцене происходили 3–4 заключительные репетиции. До постройки театра репетиции происходили в декорационных мастерских или где-нибудь в специально нанятом для этой цели большом зале.
Все места в театре были ненумерованные. Перед сценой в зрительном зале, за барьером, находился оркестр. Перед оркестром примыкал к барьеру ряд лож, а за ложами шло несколько рядов кресел. Ложи и кресла предназначались для более состоятельной публики. Это отделение имело особый вход с 1-й линии и выход на 2-ю линию и отделялось от дальнейшего разряда мест барьером. Затем шло отделение со скамейками, называвшееся «первые места», следующее такое же отделение со скамейками называлось «вторыми местами», и в конце зрительного зала обширное пространство отведено было под «третьи места», где зрители смотрели представление стоя. Один разряд мест отделялся от другого барьером вышиною приблизительно в половину роста человека. Каждый разряд имел особый вход с первой линии и выход на вторую линию. Для того чтобы каждый зритель мог видеть все происходящее на сцене, пол каждого разряда мест имел очень крутой подъем, возвышаясь ступенями. Таким образом, начало пола у оркестра возвышалось над землею не более как на 3/4 арш., а у задней стены третьих мест пол находился на высоте не менее 5 арш. Большой балаган-театр вмещал 1000–1200 зрителей. Наполненный зрительный зал, благодаря покатости пола, представлял целое море голов.
К театру-балагану со стороны первой и второй линии, начиная от лож и кресел и кончая вторыми местами, были пристроены подъезды со ступенями: с первой линии для входящей и со второй линии – для выходящей из театра публики. Для каждого разряда мест была особая касса. Запасшаяся билетами публика ожидала начала представлений в небольших вестибюлях перед каждым разрядом мест. Что же касается публики третьих мест, то у задней стены балагана устраивались лестницы, довольно высокие, со стороны первой и второй линий, и на них стояла вплотную ожидающая публика. Для выходов после представления для публики третьих мест были построены с боков балагана внутренние лестницы на обе линии.
Представления шли с 12 час. дня, повторяясь в течение дня 8–10 раз, в последние дни и до 12 раз. Антракт между одним и другим представлением длился очень недолго, а именно – пока успевала публика выйти из театра и новая, ожидавшая, войти. Сначала впускалась публика лож, кресел, 1-го и 2-го мест, и только после впуска этой публики широкий вход с раздвижной дверью, находившийся на верхней площадке входных лестниц третьих мест, открывался, и широкий поток зрителей третьих мест буквально вливался и с шумом и грохотом несся к барьеру, отделявшему третьи места от вторых.
Снаружи здание обшивалось чистыми строгаными досками, а внутри стены обтягивались крашеным холстом с расписанными на нем карнизами, а в балагане «Развлечение и польза» зрительный зал был украшен портретами известных русских писателей. По стенам размещались канделябры с лампами. Первоначально разрешались только масляные лампы, а впоследствии и пиронафтовые.
Наружное украшение балагана состояло из расписных полотен на подрамках, прикрепленных к подъезду, который таким образом принимал вид архитектурной постройки в русском стиле. На подъезде же красовалась надпись с фамилией владельца или названием театра. Над подъездом помещались большого размера плакаты с названием пьесы и изображением некоторых сцен. Плакаты и надписи также размещались на задней и передней стенах балагана и на подъезде второй линии. Всюду по стенам были расклеены большие афиши, а на подъезде, кроме того, были развешаны трехцветные флаги. На Масленице с наступлением сумерек подъезды балаганов иллюминовались, равно как и карусели и горы. Гулянье заканчивалось в 7–8 час. вечера. <...>
Много и других развлечений и удовольствий доставляло Марсово поле. Характерны были фигуры торговцев воздушными шарами. Над толпой, в руках у этих торговцев реяла громадная связка красных, синих и зеленых воздушных шаров, которые очень бойко раскупались как молодежью, так и детьми. Нередко толпа с живым интересом наблюдала, как полная связка таких шаров взлетала высоко-высоко по капризу подгулявшего купчика или мастерового, для собственной забавы и для развлечения толпы откупавшего у торговца всю связку. Что ни шаг, по всему полю располагались торговцы всякими незатейливыми сладостями. Лакомства продавались и на переносных лотках, и в ларях, и в розвальнях. Первое место, конечно, занимали пресловутые семечки и кедровые орешки, тут же продавались фисташки, грецкие орехи, каленые орехи; изюм, чернослив, стручки и всяких видов пряники.
Наконец, кроме каруселей, построенных во втором этаже и куда зазывал дед-балагур, там и сям были устроены более простые карусели. Они состояли из деревянных коней, на которых верхом садились не только дети, но и взрослые. За каждой парой коней были подвешены 2 пары 4– и 6-местных люлек, в которых усаживались матери и няньки с детьми. Кони и люльки, чередуясь, образовывали замкнутую окружность. Эта окружность была на весу и имела железные оси к центру. В центре находилась шарманка, а несколько человек, упираясь в оси, вращали окружность. Вне окружности стоял столб с перекладиной, в которой было воткнуто некоторое количество железных колец. Всадники во время вращения окружности должны были при проезде мимо перекладины с кольцами железным прутом попадать в кольцо и, не сронив этого кольца, сберегать все добытые кольца до окончания сеанса вращения. У кого оказывалось колец соответствующее числу оборотов окружности, тот получал право на бесплатное повторное наслаждение прокатиться. Для любителей более сильных ощущений имелись так называемые перекидные качели. На 2 столбах была прикреплена вращающаяся ось, от которой с краев по радиусам шли балки. На концах двух параллельных балок была подвешена кабинка, в которую и помещались желающие покататься. Ось приводилась во вращательное движение, и кабинки с земли поднимались высоко над толпой. Из кабинок обычно раздавался при подъеме и спуске не то веселый, не то испуганный визг.
Пьяных на Марсовом поле попадалось очень редко, не видно было косых взглядов и мрачных, озабоченных лиц – царило благодушие, веселье и удовлетворение. Не побывать на горах на Масленой или Пасхе равносильно было тому, как если бы добровольно обречь себя на голодовку. Можно было ни гроша не потратить и тем не менее часть удовольствий получить. Зато в дни гуляний на всех улицах, ведущих к Марсову полю, происходило колоссальное движение народа. Поток прибывающих и возвращающихся был непрерывный.
На Масленице из подгородних деревень приезжали крестьяне – финны на своих маленьких, но выносливых лошаденках с низенькими деревенскими санками – их называли «вейками». Прокатиться на вейке за «вацать» или «рицать» копеек – это тоже представляло специфически масленичное удовольствие. К концу дня поблизости к Марсову полю набиралось веек с бубенчиками на дугах несметное количество и развозило по всем концам города вдоволь натешившийся народ.
В 1897 г. бывший петербургский градоначальник фон Валь составил доклад на высочайшее имя об опасности в центре города громадного сборища народа во время устраиваемых на Марсовом поле гуляний и внес предложение перенести эти гулянья на Семеновский плац. Это решение определило дальнейшую судьбу балаганов. Они всего год просуществовали на неудобном, грязном и находящемся в стороне от центра новом месте и тихо скончались.
Народившееся в это время Попечительство о народной трезвости, руководимое принцем Ольденбургским, делало тщетные попытки заменить балаганы более благопристойными и поучительными зрелищами и увеселениями, но ни льготы, ни высокое покровительство, которыми пользовалось Попечительство, не помогли делу возрождения истинных народных гуляний. Суррогат, подсунутый Попечительством, не привлек тех слоев населения и не вызвал тех переживаний, какие так ярко выдвигало до того Марсово поле – бесследно исчезли непосредственность, наивность и искреннее веселье. Не помогло и то, что заведующим театральною частью Попечительства был приглашен А. Я. Алексеев. Ему пришлось считаться с директивами, исходившими свыше, и вся обстановка, в которой протекала работа, совершенно изменяла условия, благоприятствовавшие непосредственному веселью народа и дававшие полную свободу выбирать развлечения по вкусу и вровень с пониманием. Излагая свои воспоминания, я старался по мере возможности быть беспристрастным докладчиком того, чего свидетелем, а затем в некотором роде соучастником мне довелось быть, я воздержался от всяких выводов и умозаключений.
Возможно ли воскресить в полном объеме то, что было, сомневаюсь, но думается мне, что, если бы это было возможно, то, несмотря на то что много воды за этот срок утекло, былое веселье воскресло бы, и народ повалил бы хоть на миг отдохнуть душой и оторваться от повседневных тягостей жизни.
Праздники начала 1910-х годов и балаганы были «лебединой песней» старого Петербурга. А. Н. Бенуа вспоминал:
Я шел откуда-то с Литейной, шлепая по синим, отражавшим ясное небо, лужам, борясь с ветром и пропекаемый свирепо гревшим солнцем. Подходя к Летнему саду, я с особой живостью вспомнил пасхальные гулянья былого времени, отличавшиеся от масленичных лишь отсутствием снега, веек и блинов, но в «декоративном» и в «разгульном» смысле совершенно родственные масленичным. Мне вдруг почудилось, что я перелистнул назад лет 40 в книге моей жизни и что, подойдя к углу, я вот-вот увижу на «лугу» деревянные, пестро размалеванные сараи, кручение качелей и веселую толпу – самую причудливую смесь щеголей, пьяных мастеровых, мужиков, гимназистов, правоведов и главное украшение гулянья – офицеров и солдат в тогдашних их великолепных мундирах.
И тут-то какая-то частица этого ожидаемого видения предстала передо мной с жутко фантастичной реальностью. У перил моста через Лебяжью Канаву, недалеко от кучки, уныло ожидавшей очереди в переполненный трамвай, стоял, прислонившись к тумбе, «выходец с того света» – выходец с того самого света, который мне только что померещился. Это был солдат времен Александра II с баками, с усами, в фуражке, с козырьком французского образца, в полной парадной форме, с красной грудью, увешанной медалями и крестами. Где, в какой богадельне, в каких подвалах сохранилась эта жуткая мумия, этот живой памятник отмершей эпохи, ныне, очевидно из горькой нужды, выползшая из своей норы на яркий свет Божий, на котором и его «музейный» наряд, и его пожелтевшие от старости и нищеты волосы – казались особенно поблекшими и неправдоподобными?
Несомненно, старик пришел сюда, вспоминая о былом и ничего не зная о том, что за эти годы произошло. Он думал, что на Пасху петербургские «господа» по-прежнему гуляют на Царицыном лугу и что здесь ему перепадет под пьяную руку не один двугривенный. Вместо того только кучка унылой «очереди», какие-то шныряющие мимо обозленные люди, какие-то оборванцы в серых мешках, в которых ветеран ни за что не узнал бы своих товарищей по оружию, вместо массы извозчиков и собственных экипажей лишь скользящие с шипением вагоны и громыхающие грузовики! Наконец, вместо «киатеров» и «качелей» пустая площадь с кладбищем посреди. Я попробовал заговорить с инвалидом, но он, морщась от солнца, как будто даже не замечал, что к нему обращаются, а когда я ему всунул в кулак какой-то грош, он даже не поблагодарил, не выходя из своего оцепенения.
На следующий день я снова проходил у этого места, но старика уже не было. Совершенно для меня несомненно, что, дотащившись в темноте до своей норы, он должен был повалиться в изнеможении на солому и, не отдавая себе полного отчета в том, что он пережил и что видел, тут же скончаться от воспринятой тоски...
Впрочем, да не подумают, что этим рассказом я хотел изобразить какую-либо аллегорию. Привожу его только потому, что тогда же, под свежим впечатлением, я дал себе слово присовокупить его к моим воспоминаниям. И теперь каждый раз, когда я подхожу к этому месту у Лебяжьей Канавы, я вспоминаю скорбную фигуру солдата-призрака, и почему-то мне становится в эту минуту жаль не только этого старика, но и самого себя и всего нашего старого, блестящего, «любезного» и грандиозного, щедрого на развлечения, гармоничного во всех проявлениях своей жизни С.-Петербурга, подмененного в фатальный 1914 г. под бряцание войны унылым Петроградом.
Умирающий Петербург, 1914 год
Андрей Белый
Былой Петербург отмирал. Еще в 1910 году И. Ф. Анненский пророчески писал:
- Только камни нам дал чародей,
- Да Неву буро-желтого цвета,
- Да пустыни немых площадей,
- Где казнили людей до рассвета.
- А что было у нас на земле,
- Чем вознесся орел наш двуглавый,
- В темных лаврах гигант на скале, —
- Завтра станет ребячьей забавой.
Своего рода реквиемом умирающему городу стал роман «Петербург» А. Белого (литературный псевдоним Б. Н. Бугаева).
Изморось поливала улицы и проспекты, тротуары и крыши; низвергалась холодными струйками с жестяных желобов.
Изморось поливала прохожих: награждала их гриппами; вместе с тонкою пылью дождя инфлуэнцы и гриппы заползали под приподнятый воротник: гимназиста, студента, чиновника, офицера, субъекта; и субъект (так сказать, обыватель) озирался тоскливо; и глядел на проспект стерто-серым лицом; циркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевал бесконечность, без всякого ропота – в бесконечном токе таких же, как он, – среди лета, грохота, трепетанья пролеток, слушая издали мелодичный голос автомобильных рулад и нарастающий гул желто-красных трамваев (гул, потом убывающий снова), в непрерывном окрике голосистых газетчиков.
Из одной бесконечности убегал он в другую; и потом спотыкался о набережную; здесь приканчивалось все: мелодичный глас автомобильной рулады, желто-красный трамвай и всевозможный субъект; здесь был и край земли, и конец бесконечностям.
А там-то, там-то: глубина, зеленоватая муть; издалека-далека, будто дальше, чем следует, опустились испуганно и принизились острова; принизились земли; и принизились здания; казалось – опустятся воды, и хлынет на них в этот миг: глубина, зеленоватая муть; а над этою зеленоватою мутью в тумане гремел и дрожал, вон туда убегая, черный, черный такой Николаевский мост...
Линии!
Только в вас осталась память петровского Петербурга.
Параллельные линии на болотах некогда провел Петр; линии те обросли то гранитом, то каменным, а то деревянным забориком. От петровских правильных линий в Петербурге следа не осталось; линия Петра превратилась в линию позднейшей эпохи: в екатерининскую округленную линию, в александровский строй белокаменных колоннад.
Лишь здесь, меж громадин, остались петровские домики; вон бревенчатый домик; вон – домик зеленый; вот – синий, одноэтажный, с ярко-красною вывеской «Столовая». Точно такие вот домики раскидались здесь в стародавние времена. Здесь еще, прямо в нос, бьют разнообразные запахи: пахнет солью морскою, селедкой, канатами, кожаной курткой и трубкой и прибережным брезентом.
Линии!
Как они изменились: как их изменили эти суровые дни!
Зеленоватым роем проносились там облачные клоки; они сгущались в желтоватый дым, припадающий к крышам угрозою. Зеленоватый рой поднимался безостановочно над безысходною далью невских просторов; темная водная глубина сталью своих чешуй билась в граниты; в зеленоватый рой убегал шпиц... с петербургской стороны.
Описав в небе траурную дугу, темная полоса копоти высоко встала от труб пароходных; и хвостом упала в Неву.
И бурлила Нева, и кричала отчаянно там свистком загудевшего пароходика, разбивала свои водяные, стальные щиты о каменные быки; и лизала граниты; натиском холодных невских ветров срывала она картузы, зонты, плащи и фуражки. И повсюду в воздухе взвесилась бледно-серая гниль; и оттуда, в Неву, в бледно-серую гниль, мокрое изваяние Всадника со скалы все так же кидало тяжелую, позеленевшую медь.
Огненным мороком вечером залит проспект. Ровно высятся яблоки электрических светов посередине. По бокам же играет переменный блеск вывесок; здесь, здесь и здесь вспыхнут вдруг рубины огней; вспыхнут там – изумруды. Мгновение: там – рубины; изумруды же – здесь, здесь и здесь.
Огненным мороком вечером залит Невский. И горят бриллиантовым светом стены многих домов: ярко искрятся из алмазов сложенные слова: «Кофейня», «Фарс», «Бриллианты Тэта», «Часы Омега». Зеленоватая днем, а теперь лучезарная, разевает на Невский витрина свою огненную пасть; всюду десятки, сотни адских огненных пастей: эти пасти мучительно извергают на плиты ярко-белый свой свет; мутную мокроту изрыгают они огневою ржавчиной. И огнем изгрызан проспект. Белый блеск падает на котелки, на цилиндры, на перья; белый блеск ринется далее, к середине проспекта, отпихнув с тротуара вечернюю темноту: а вечерняя мокрота растворится над Невским в блистаниях, образуя тусклую желтовато-кровавую муть, смешанную из крови и грязи. Так из финских болот город тебе покажет место своей безумной оседлости красным, красным пятном: и пятно то беззвучно издали зрится на темноцветной на ночи. Странствуя вдоль необъятной родины нашей, издали ты увидишь красной крови пятно, вставшее в темноцветную ночь; ты испуганно скажешь: «Не есть ли там местонахождение гееннского пекла?» Скажешь, – и вдаль поплетешься: ты гееннское место постараешься обойти.
Но если бы ты, безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-кровавый, издали тебя ужаснувший блеск медленно растворился бы в белесоватую, не вовсе чистую светлость, многоогневыми обстал бы домами, – и только: наконец распался бы на многое множество огоньков.
Никакой Геенны и не было б.
«Был Петербург, стал Петроград», 1914–1916 годы
Александр Романов, Татьяна Мельник-Боткина, Зинаида Гиппиус, Нина Берберова, Михаил Бонч-Бруевич, Георгий Лукомский
Считается, что в последние годы царствования Николая II страной управлял «триумвират» – императрица Александра Федоровна, ее доверенная фрейлина А. А. Вырубова и «святой черт» Г. Е. Распутин. Последний сумел приобрести огромное влияние на царскую семью, и практически ни одно сколько-нибудь важное решение при дворе без него не принималось. Возвышение Распутина было одним из симптомов охватившей российские «верхи» растерянности, которая проистекала из неспособности власти управлять страной в условиях мирового кризиса, спровоцированного началом Первой мировой войны. В мирных условиях недееспособность верховной власти (Россия по-прежнему оставалась абсолютной монархией, несмотря на формальные признаки монархии конституционной наподобие созыва парламента) была не слишком заметна, однако кризисная ситуация наглядно показала отсталость самодержавия как общественного института и слабость Николая II как правителя.
Впрочем, военные тяготы обрушились на Россию не сразу, город прощался в 1909 году с Иоанном Кронштадтским, устроил в 1910 году торжественные похороны Веры Федоровны Комиссаржевской, проявлял веротерпимость – в 1910 году на Кронверкском проспекте в присутствии бухарского эмира была заложена мусульманская соборная мечеть (хотя и вызвавшая протесты со стороны архитекторов, утверждавших, что на этом месте мечеть нарушит целостность и исторический характер наиболее древней части Петербурга), на Приморском проспекте в Старой Деревне открылся буддийский храм, а в Шахматном собрании (Невский пр., 55) – Петербургский шахматный конгресс;столица еще некоторое время оставалась прежним «блистательным Петербургом», как явствует из воспоминаний великого князя Александра Михайловича (к слову, в этих мемуарах имеются любопытные подробности относительно революционных настроений в обществе).
Тот иностранец, который посетил бы С.-Петербург в 1914 году, перед самоубийством Европы, почувствовал бы непреодолимое желание остаться навсегда в блестящей столице российских императоров, соединявшей в себе классическую красоту прямых проспектов с приятным, увлекающим укладом жизни, космополитическим по форме, но чисто русским по своей сущности.
Чернокожий бармен в Европейской гостинице, нанятый в Кентукки, истые парижанки-актрисы на сцене Михайловского театра, величественная архитектура Зимнего дворца – воплощение гения итальянских зодчих, сановники, завтракавшие у Кюба до ранних зимних сумерек, белые ночи в июне, в дымке которых длинноволосые студенты спорили с жаром с краснощекими барышнями о преимуществах германской философии...
Никто не мог бы ошибиться относительно национальности этого города, который выписывал шампанское из-за границы не ящиками, а целыми магазинами.
Украшением этой столицы был памятник Петру Великому. Отлитый из бронзы Фальконетом, император стоял на Сенатской площади, наблюдая с высоты четырехугольники домов, образующих прямые перспективы. Ему удалось построить этот сказочный, северный город на топких финских болотах ценою ста двадцати шести тысяч жизней, принесенных в жертву болотной лихорадке во имя России, и самодовольная усмешка светилась на его лице. Прошло двести лет с тех пор, как он, стоя на берегу финских вод и глядя на полуразрушенные деревянные хижины рыбаков, решил перенести русскую столицу из азиатской Москвы на берега западной Европы. Его рука затянула повод коня, поднявшегося на дыбы над пропастью. То не было мимолетной идеей скульптора, когда он создавал эту поражающую воображение позу: Петр действительно спас нашу родину от прозябания в «азиатчине» под властью вчерашних монгольских владык. Он освободил своих нерадивых подданных от власти средневековых суеверий и ударами своей дубинки заставил их приобщиться к культурной семье западноевропейских народов.
Сын жестокого XVII века, Петр Великий не привык стесняться в своих методах. Он твердо верил, что в человеческом материале в России недостатка не будет, и не щадил никого... Он не остановился пред убийством сына, когда убедился, что царевич Алексей решил противиться его начинаниям. Его испуганные современники видели в лице царя Антихриста, но у ног его памятника лежало наглядное доказательство гения Петра: блестящий С.-Петербург – столица самых могущественных властителей в мире. Петр достиг своей цели, и важность его достижения стала еще более очевидной по прошествии двух столетий. Но в дальнейшем это была уж задача современных Романовых, которые готовились праздновать трехсотлетие царствования династии и продолжать усилия своего гениального предка.
Однако наблюдательный иностранец, посетивший Петербург пред войною, испытал бы, наверное, чувство растущего беспокойства, которое от памятника на Сенатской площади передавалось всем, обладавшим способностью несколько предвидеть грядущий хаос. Он также заметил бы, что полтора миллиона мужчин и женщин, живших в столице Российской империи, существовали изо дня в день, давая бронзовому монументу пищу для размышлений о «завтрашнем дне», затуманенном блеском прекрасного сегодня...
Все в Петербурге было прекрасно. Все говорило о столице российских императоров.
Золотой шпиль Адмиралтейства был виден издали на многие версты. Величественные окна великокняжеских дворцов горели пурпуром в огне заката. Удары конских копыт будили на широких улицах чуткое эхо. На набережной желтые и синие кирасиры, на прогулке после завтрака, обменивались взглядами со стройными женщинами под вуалями.
Роскошные выезды, с лакеями в декоративных ливреях, стояли пред ювелирными магазинами, в витринах которых красовались розовые жемчуга и изумруды. Далеко, за блестящей рекой, с перекинутыми чрез воду мостами, громоздились кирпичные трубы больших фабрик и заводов. А по вечерам девы-лебеди кружились на сцене императорского балета под аккомпанемент лучшего оркестра в мире.
Первое десятилетие XX века, наполненное террором и убийствами, развинтило нервы русского общества. Все слои населения империи приветствовали наступление новой эры, которая носила на себе отпечаток нормального времени. Вожди революции, разбитые в 1905–1907 гг., укрылись под благословенную сень парижских кафе и мансард, где и пребывали в течение следующих десяти лет, наблюдая развитие событий в далекой России и философски повторяя поговорку: «Чтобы дальше прыгнуть, надо отступить».
А тем временем и друзья, и враги революции ушли с головой в деловые комбинации. Вчерашняя земледельческая Россия, привыкшая занимать деньги под залог своих имений в Дворянском банке, в приятном удивлении приветствовала появление могущественных частных банков. Выдающиеся дельцы петербургской биржи учли все выгоды этих общественных настроений, и приказ покупать был отдан.
Тогда же был создан знаменитый русский «табачный трест» – одно из самых больших промышленных предприятий того времени. Железо, уголь, хлопок, медь, сталь были захвачены группой петербургских банкиров. Бывшие владельцы промышленных предприятий перебрались в столицу, чтобы пользоваться вновь пpиобретенными благами жизни и свободой. Хозяина предприятия, который знал каждого рабочего по имени, заменил дельный специалист, присланный из Петербурга. Патриархальная Русь, устоявшая пред атаками революционеров 1905 года, благодаря лояльности мелких предпринимателей, отступила пред системой, заимствованной за границей и не подходившей к русскому укладу.
Это быстрое трестирование страны, далеко опередившее ее промышленное развитие, положило на бирже начало спекулятивной горячке. Во время переписи населения Петербурга, устроенной в 1913 году, около 40 000 жителей обоего пола были зарегистрированы в качестве биржевых маклеров.
Адвокаты, врачи, педагоги, журналисты и инженеры были недовольны своими профессиями. Казалось позором трудиться, чтобы зарабатывать копейки, когда открывалась полная возможность зарабатывать десятки тысяч рублей посредством покупки двухсот акций «Никополь-Мариупольского металлургического общества».
Выдающиеся представители петербургского общества включали в число приглашенных видных биржевиков. Офицеры гвардии, не могшие отличить до сих пор акций от облигаций, стали с увлечением обсуждать неминуемое поднятие цен на сталь. Светские денди приводили в полное недоумение книгопродавцев, покупая у них книги, посвященные сокровенным тайнам экономической науки и истолкованию смысла ежегодных балансов акционерных обществ. Светские львицы начали с особым удовольствием представлять гостям на своих журфиксах «прославленных финансовых гениев из Одессы, заработавших столько-то миллионов на табаке». Отцы церкви подписывались на акции, и обитые бархатом кареты архиепископов виднелись вблизи биржи. <...>
Близорукие дельцы 1913 года были мало обеспокоены отдаленным будущим. Они были уверены, что сумеют реализовать все вновь приобретенное до того, как грянет гром...
Племянник кардинала, русский мужик и банкир считали себя накануне войны владельцами России. Ни один диктатор не мог бы похвастаться их положением.
Ярошинский, Батолин, Путилов – вот имена, которые знала вся Россия.
Сын бывшего крепостного, Батолин начал свою карьеру в качестве рассыльного в хлебной торговле. Он был настолько беден, что впервые узнал вкус мяса, когда ему исполнилось девять лет.
Путилов принадлежал к богатой петербургской семье. Человек блестящего воспитания, он проводил много времени за границей и чувствовал себя одинаково дома на плас де ла Бурс и на Ломбард-стрит.
Годы молодости Ярошинского окружены тайной. Никто не мог в точности определить его национальности. Он говорил попольски, но циркулировали слухи, что дядя его – итальянский кардинал, занимающий высокий пост в Ватикане. Он прибыл в Петербург, уже будучи обладателем большого состояния, которое заработал на сахарном деле на юге России.
Биографии этих трех «диктаторов», столь непохожих друг на друга, придавали этой напряженной эпохи еще более фантастический колорит.
Они применили к экономической жизни России систему, известную у нас под именем «американской»... Никаких чудес они не творили. Рост их состояния был возможен только благодаря несовершенству русских законов, которые регулировали деятельность банков.
Министр финансов держался от всего этого в стороне и с молчаливым восхищением наблюдал за тем, как этот победоносный триумвират все покорял «под нози своя». От пляски феерических кушей кружилась голова, и министр финансов имел полное основание считать, что его пост лишь переходная ступень к креслу председателя какого-нибудь частного банка.
Радикальная печать, неутомимая в своих нападках на правительство, в отношении трестов хранила гробовое молчание, что являлось вполне естественным, в особенности если принять во внимание, что им принадлежали самые крупные и влиятельные ежедневные газеты в обеих столицах. <...>
Знаменитая «школа революционеров», основанная Горьким на о. Капри, была долгое время финансирована Саввой Морозовым – общепризнанным московским «текстильным королем», – и считала теперешнего главу советского правительства Сталина в числе своих наиболее способных учеников. Бывший советский полпред в Лондоне Л. Красин был в 1913 году директором на одном из Путиловских заводов в С.-Петербурге. Во время войны же он был назначен членом военного промышленного комитета.
На первый взгляд, совершенно необъяснимы побуждения крупной буржуазии, по которым она поддерживала русскую революцию. Вначале правительство отказывалось верить сообщениям охранного отделения по этому поводу, но факты были налицо.
При обыске в особняке одного из богачей Парамонова были найдены документы, которые устанавливали его участие в печатании и распространении революционной литературы в России. Парамонова судили и приговорили к двум годам тюремного заключения. Приговор этот, однако, был отменен ввиду значительного пожертвования, сделанного им на сооружение памятника в ознаменование трехсотлетия Дома Романовых. От большевиков к Романовым – и все это в течение одного года!..
Эксцентричность, проявленная банкирами, была лишь знамением времени.
Война надвигалась, но на грозные симптомы ее приближения никто не обращал внимания. Над всеми предостережениями наших военных агентов за границей в петербургских канцеляриях лишь подсмеивались или же пожимали плечами.
Когда брат мой, великий князь Сергий Михайлович, по возвращении в 1913 году из своей поездки в Австрию доложил правительству о лихорадочной работе на военных заводах центральных держав (Германии и Австрии. – Ред.), то наши министры в ответ только рассмеялись. Одна лишь мысль о том, что великий князь может иной раз подать ценный совет, вызвала улыбку.
Принято было думать, что роль каждого великого князя сводилась к великолепной праздности.
Военный министр генерал Сухомлинов пригласил к себе редактора большой вечерней газеты и продиктовал ему статью, полную откровенными угрозами по отношению к Германии, под заглавием «Мы – готовы!».
В тот момент у нас не было не только ружей и пулеметов в достаточном количестве, но наших запасов обмундирования не хватило бы даже на малую часть тех миллионов солдат, которых пришлось бы мобилизовать в случае войны.
В вечер, когда эта газетная статья появилась, товарищ министра финансов обедал в одном из излюбленных, дорогих ресторанов столицы.
– Что же теперь произойдет? Как реагирует на это биржа? – спросил его выдающийся журналист.
– Биржа? – насмешливо улыбнулся сановник. – Милый друг, человеческая кровь всегда вносит в дела на бирже оживление.
И действительно, на следующий день все бумаги на бирже поднялись. Инцидент со статьей военного министра был забыт всеми, кроме, быть может, германского посланника.
Остальные триста мирных дней были заполнены карточной и биржевой игрой, сенсационными процессами и распространившейся эпидемией самоубийств.
В эту зиму танго входило в большую моду. Томные звуки экзотической музыки неслись по России из края в край. Цыгане рыдали в кабинетах ресторанов, звенели стаканы, и румынские скрипачи, одетые в красные фраки, завлекали нетрезвых мужчин и женщин в сети распутства и порока. А над всем этим царила истерия...
– Отчего ваше императорское высочество так спешите вернуться в С.-Петербург? – спросил меня наш посол в Париже Извольский. – Там же мертвый сезон... Война? – Он махнул рукой. – Нет, никакой войны не будет. Это только «слухи», которые время от времени будоражат Европу. Австрия позволит себе еще несколько угроз. Петербург поволнуется. Вильгельм произнесет воинственную речь. И все это будет чрез две недели забыто.
Извольский провел 30 лет на русской дипломатической службе. Некоторое время он был министром иностранных дел. Нужно было быть очень самоуверенным, чтобы противопоставить его опытности свои возражения. Но я решил все-таки быть на этот раз самоуверенным и двинулся в Петербург.
Мне не нравилось «стечение непредвиденных случайностей», которыми был столь богат конец июля 1914 года.
Вильгельм II был «случайно» в поездке в норвежские фиорды накануне представления Австрией ультиматума Сербии. Президент Франции Пуанкаре «случайно» посетил в это же время Петербург.
Уинстон Черчилль, первый лорд адмиралтейства, «случайно» отдал приказ британскому флоту остаться после летних маневров в боевой готовности.
Сербский министр иностранных дел «случайно» показал австрийский ультиматум французскому посланнику Бертело, и г. Бертело «случайно» написал ответ Венскому кабинету, освободив, таким образом, сербское правительство от тягостных размышлений по этому поводу.
Петербургские рабочие, работавшие на оборону, «случайно» объявили забастовку за неделю до начала мобилизации, и несколько агитаторов, говоривших по-русски с сильным немецким акцентом, были пойманы на митингах по этому поводу.
Начальник нашего генерального штаба генерал Янушкевич «случайно» поторопился отдать приказ о мобилизации русских вооруженных сил, а когда государь приказал по телефону это распоряжение отменить, то ничего уже нельзя было сделать.
Но самым трагичным оказалось то, что «случайно» здравый смысл отсутствовал у государственных людей всех великих держав.
Ни один из сотни миллионов европейцев того времени не желал войны. Коллективно – все они были способны линчевать того, кто осмелился бы в эти ответственные дня проповедовать умеренность...
Немцы, французы, англичане и австрийцы, русские и бельгийцы – все подпадали под власть психоза разрушения, предтечами которого были убийства, самоубийства и оргии предшествовавшего года. В августе же 1914 года это массовое помешательство достигло кульминационной точки...
Вильгельм произносил речи из балкона берлинского замка. Николай II, приблизительно в тех же выражениях, обращался к коленопреклоненной толпе у Зимнего дворца. Оба они возносили к престолу Всевышнего мольбы о карах на головы зачинщиков войны.
Все были правы. Никто не хотел признать себя виновным. Нельзя было найти ни одного нормального человека в странах, расположенных между Бискайским заливом и Великим океаном.
Когда я возвращался в Россию, мне довелось быть свидетелем самоубийства целого материка.
Всю страну, и Петербург в особенности, охватил патриотический угар. Т. Е. Мельник-Боткина, дочь придворного врача Е. С. Боткина, позднее расстрелянного вместе с царской семьей, вспоминала:
Лето 1914 года стояло жаркое и душное. Ни одного дождя. Вокруг Петербурга постоянные торфяные пожары, так что и дни, и ночи нельзя было отдохнуть от запаха гари. Где-то грохотал гром, и сухие грозы каждый день кружили над Петербургом, не принося облегчения.
Собиралась большая гроза, но другого рода. Все были встревожены убийством в Австрии сербом наследного принца. Все симпатии были на стороне сербов. Уже с начала Балканских войн говорили сочувственно о южных славянах, считая необходимой войну с Германией и Австрией.
Теперь эти разговоры усиливались; говорили, что Россия должна выступить на защиту своих меньших братьев и освободить и себя, и их от германского засилья. Но были люди, яростно спорившие против подобных планов. Это были крайние правые, которые говорили, что Россия ни в каком случае не должна ссориться с Германией, так как Германия – оплот монархизма, и по этой, а также и экономическим причинам мы должны быть с ней в союзе.
Во время всех этих споров и разговоров в Петербурге шли беспорядки. Рабочие бастовали, ходили толпами по улицам, ломали трамваи и фонарные столбы, убивали городовых. Причины этих беспорядков никому не были ясны; пойманных забастовщиков усердно допрашивали, почему они начали всю эту переделку.
– А мы сами не знаем, – были ответы, – нам надавали трешниц и говорят: бей трамваи и городовых, ну мы и били.
И в этот самый момент вдруг появился долгожданный манифест об объявлении войны и мобилизации, а австрийские и германские войска показались на нашей территории.
Как только была объявлена война, вспыхнул грандиозный патриотический подъем. Забыты были разбитые трамваи и немецкие трехрублевки, казаков встречали криками радости, а вновь произведенных офицеров качали и целовали им погоны.
По улицам Петербурга ходили толпы манифестантов с иконами и портретами его и ее Величеств, певшие «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Боже, царя храни». Все бегали радостные и взволнованные. Никто не сомневался, что через три месяца наши победоносные войска будут в Берлине.
При таком настроении публики государь приехал в Петербург читать в Зимнем дворце манифест об объявлении войны. Когда их величества проходили по залам Зимнего дворца, то возбужденная публика, забыв все этикеты, кидалась к ним, обступая их кольцом, целуя руки им обоим и подол платья императрицы, у которой по красивому одухотворенному лицу текли крупные, тихие слезы радости.
Когда его величество вышел на балкон, то вся толпа, запрудившая площадь Зимнего дворца, так что еле можно было дышать, как один человек, упала на колени, и все разом подхватили «Боже, царя храни».
Всем, видевшим события 1917 и 1918 годов, трудно поверить, что это была все та же толпа тех же рабочих, солдат и чиновников...
Из «патриотических побуждений» столицу империи Санкт-Петербург переименовали «на русский лад» в Петроград, а многие чиновники и военные сменили немецкие фамилии на русские. При этом, как писал генерал А. А. Игнатьев, «от того, что генерал Цеге фон Мантейфель оказался Николаевым, – германофилов, а главным образом германских шпионов в России не убавилось».
Поэтесса З. Н. Гиппиус откликнулась на переименование города такими строками:
- Кто посягнул на детище Петрово?
- Кто совершенное деянье рук
- Смел оскорбить, отняв хотя бы слово,
- Смел изменить хотя б единый звук?
- Не мы, не мы... Растерянная челядь,
- Что, властвуя, сама боится нас!
- Все мечутся да чьи-то ризы делят,
- И все дрожат за свой последний час.
- Изменникам измены не позорны.
- Придет отмщению своя пора...
- Но стыдно тем, кто, весело-покорны,
- С предателями предали Петра.
- Чему бездарное в вас сердце радо?
- Славянщине убогой? Иль тому,
- Что к «Петрограду» рифм гулящих стадо
- Крикливо льнет, как будто к своему?
- Но близок день – и возгремят перуны...
- На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей
- Восстанет он, все тот же, бледный, юный,
- Все тот же – в ризе девственных ночей,
- Во влажном визге ветреных раздолий
- И в белоперистости вешних пург, —
- Созданье революционной воли —
- Прекрасно-страшный Петербург!
Постепенно общество осознало, что страна воюет; эту перемену в настроениях тонко подметила вернувшаяся в Петроград писательница Н. Н. Берберова.
Поезд вошел в Финляндский вокзал. Это была Россия, моя родина, возврат домой, война. Последние дни августа 1914 года, густая пыль, толпа новобранцев. Грусть, впервые почувствованная мною от солдатского хора. «Рано поyтpy вставали – трезвонил набат!» Набат здесь, над этим солдатским эшелоном, гудящий тревогой, полнеба в огне, звон над Невой, «барышня, подари на счастье заграничную игрушечку» – даю из сумочки зеркальце. Странно, никогда не дорожила своими вещами, могу отдать, могу потерять, нет у меня «священных» вещей, как бывало у русского человека старых времен (ложка, гребешок). Чистое полотенце и чистая наволочка – вот все, что мне надо. Остальное не важно. Даю зеркальце. Шинель скручена и надета накось. И вдруг, покрывая хор, грянул духовой оркестр. А на Литейном мосту горят фонари. Почему они горят? Почему извозчик сидит боком? Почему плачет женщина? Почему ребенок просит: дяинька, дай копеечку? Почему? Почему у городового такой толстый живот, а у попа еще толще? Почему бледный мальчик, сын нашего швейцара, говорит моему отцу скороговоркой: «Обещали, Николай Иванович, но не дали. Не вышло». (Это о стипендии в реальное.) Почему всюду кругом: не дали, не вышло, нетути. Почему? Почему холодно в августе? Темно в сентябре? Почему у Даши растерянный вид и фонарь под глазом? «Напившись вчерась, на прощанье как тарабухнет меня кулаком. В Галицию погнали их». Что все это значит? Зачем-то все? И куда я ни смотрю, на божью ли коровку величиной с дом, на детей, играющих на лужку, на папу с мамой, расстилающих белую скатерть, или на коров, говорящих «му», я вижу только одно: грусть, бедность, нетути, войну, сапог солдата, сапог городового, сапог генерала, мутное небо надо всем этим, осеннее небо военного Петербурга.
От германофилии Петроград перешел, если можно так выразиться, к германофобии: везде и всюду едва ли не в каждом видели немецкого шпиона – зачастую справедливо. Генерал М. Д. Бонч-Бруевич, начальник штаба Северного фронта, вспоминал:
Многие наши банки были в немецких руках, и уже одно это привлекло к их деятельности внимание контрразведки. Особый интерес вызвали подозрительные махинации двух видных петербургских финансистов – братьев Шпан, немцев по происхождению.
Когда старший из братьев ухитрился попасть на прием к императрице Александре Федоровне и поднести ей восемьдесят тысяч рублей на «улучшение» организованного ею в Царском Селе лазарета, контрразведка занялась этим «невинным» торговым домом и обнаружила не только постоянную связь, которую братья Шпан поддерживали с воюющей против нас Германией, но и другие, не менее значительные их преступления.
В связи с войной артиллерийское ведомство испытывало острую нужду в алюминии. Достать его ни в столице, ни в других городах России казалось невозможным. Возглавлявший фирму старший из братьев Шпан предложил привезти нужное количество алюминия из-за границы. Артиллерийское ведомство согласилось, и Шпан тотчас отправил в Швецию своего агента. Под второй подошвой ботинка агент этот припрятал врученные ему Шпаном документы, из которых следовало, что некая германская фирма отправляет в Россию принадлежащий ей алюминий. На самом деле огромное количество алюминия хранилось в самом Петрограде на тайных складах той же фирмы «К. Шпан и сыновья». Вся эта инсценировка понадобилась, чтобы продать дефицитный металл за баснословную сумму.
За выезжавшим за границу агентом было установлено наблюдение, и на обратном пути он был захвачен с поличным.
Родственники и знакомые братьев Шпан подняли невообразимый шум. Но Рузский (главнокомандующий Северным фронтом. – Ред.) на этот раз поддержал меня, и я, не считаясь с высокими покровителями фирмы, приказал арестовать обоих братьев и выслать их в Ачинск. Любопытно, что юрисконсультом этой шпионской фирмы был одно время будущий премьер и «главковерх» Керенский.
Одновременно Рузский одобрил и представил в Ставку составленный мною «Проект наставления по организации контрразведки в действующей армии». Верховный главнокомандующий утвердил его; во всех армейских штабах были созданы контрразведывательные отделения с офицерами генерального штаба, а не жандармами во главе. В основу работы армейской контрразведки была положена тесная связь с оперативными и разведывательным отделениями штабов, и это сразу же сказалось.
Благосклонное, несмотря ни на что, отношение Рузского к моей борьбе с немецким шпионажем окрылило меня, и я постарался нанести по разведывательной деятельности германского генерального штаба еще несколько чувствительных ударов.
В России уже не один десяток лет была широко известна торгующая швейными машинами компания «Зингер». Являясь немецким предприятием, акционерное общество это с началом войны поспешно объявило о своей принадлежности к Соединенным Штатам Америки. Но эта перекраска не спасла фирму от внимания контрразведки и последующего разоблачения ее шпионской деятельности.
Верная принципу германской разведки – торговать высококачественными товарами, чтобы этим получить популярность и быстро распространиться по стране, компания «Зингер» продавала действительно превосходные швейные машины. Ведя продажу в кредит и долголетнюю рассрочку, фирма сделалась известной даже в глухих уголках империи и создала разветвленнейшую агентуру.
Характерно, что спустя много лет, уже во время Второй мировой войны, немецкая фирма «Олимпия», открывшая в Венгрии со специальными шпионскими целями свой филиал, начала выпускать пишущие машинки с венгерским алфавитом куда более высокого качества, нежели те, что собирались внутри страны. Видимо, и в случае с компанией «Зингер», и в деятельности фирмы «Олимпия» приток денежных средств, получаемых от германского генерального штаба, давал возможность торговать себе в убыток.
Компания «Зингер» выстроила на Невском многоэтажный дом, после революции превращенный в Дом книги. Во всех сколько-нибудь значительных городах находились фирменные магазины, а в волостях и даже в селах – агенты компании.
У каждого агента имелась специальная, выданная фирмой географическая карта района. На ней агент условными знаками отмечал число проданных в рассрочку швейных машин и другие коммерческие данные. Контрразведка установила, что карты эти весьма остроумно использовались для собирания сведений о вооруженных силах и военной промышленности России. Агенты сообщали эти данные ближайшему магазину, и там составлялась сводка. Полученная картограмма направлялась в Петроград в центральное управление общества «Зингер». Отсюда выбранные из картограмм и интересующие германскую разведку сведения передавались за границу.
Убедившись в основательности обвинения, я циркулярной телеграммой закрыл все магазины фирмы «Зингер» и приказал произвести аресты служащих и агентов, причастных к шпионской деятельности.
Бесцеремонность, с которой компания «Зингер» почти открыто работала в пользу воюющей Германии, не должна особенно удивлять. Последние годы империи характеризовались таким разложением государственного аппарата, что в непосредственной близости к ошалевшему от распутинской «чехарды» русскому правительству и всяким иным властям предержащим делались самые неправдоподобные вещи.
Трудно, например, поверить, что в столице Российской империи в самый разгар войны с Германией собирались пожертвования на... германский подводный флот, и притом не где-нибудь в укромных уголках, а на самом виду – в министерстве иностранных дел и других не менее почетных учреждениях. Надо ли говорить о том, что германские подводные лодки были в Первую мировую войну наиболее действенным оружием Германии, обращенным против англичан, но не щадившим и нашего флота. <...>
Сбор этих средств был организован даже без какой-либо хитроумной выдумки. Завербовав швейцаров ряда министерств и других петроградских правительственных учреждений, немецкие тайные агенты заставили их держать у себя слегка зашифрованные подписные листы и собирать пожертвования.
Натолкнувшись на списки жертвователей, контрразведка быстро ликвидировала эту наглую авантюру германской разведки.
Наряду с использованием задолго до войны завербованных тайных агентов, германская разведка уже в ходе военных действий добывала нужные ей сведения любыми способами, не останавливаясь перед похищением у доверчивых офицеров секретных документов.
Показательно дело генерала Черемисова, не отданного под суд и не разжалованного только из-за редкостного либерализма и бесхребетности высшего командования в вопросах борьбы с вражеским шпионажем.
В конце 1915 года на должность генерал-квартирмейстера 5-й армии, занимавшей Двинский плацдарм, был назначен Черемисов, тогда еще полковник. В том же штабе армии в должности офицера для поручений состоял ротмистр, немецкая фамилия которого не сохранилась в моей памяти. Офицер этот жил с немкой, и, хотя шла война, никого в штабе это ничуть не смущало. Наоборот, тот же Черемисов дневал и ночевал у гостеприимного ротмистра.
Спустя некоторое время ко мне как начальнику штаба вновь образованного Северного фронта явился артиллерийский полковник Пассек и потребовал личного свидания со мной.
Пассека провели ко мне на квартиру, и он, крайне возбужденный и взволнованный, доложил мне, что у ротмистра, о котором шла речь выше, ежедневно собираются офицеры, как приехавшие с фронта, так и едущие на фронт. Посетителей уютной квартиры ждет ужин с неизменной выпивкой и карты. Играют в азартные игры и на большие деньги. Вин и водок, несмотря на «сухой закон», за ужином всегда изобилие. Во всех этих кутежах и карточной игре неизменное участие принимает и Черемисов; пример его явно ободряет остальных штаб– и обер-офицеров, бывающих у ротмистра.
Многие офицеры после карт оставались ночевать. Некоторых из них безжалостно обыгрывали в карты. Других напаивали до бесчувствия; в вино и в водку для верности подсыпался одурманивающий порошок.
После того как такой офицер впадал в беспамятство, его багаж, а заодно и карманы тщательно обыскивались; документы и бумаги внимательно просматривались и иногда копировались. Сам полковник Пассек был обыгран на крупную сумму и так как, снедаемый стремлением отыграться, не раз посещал квартиру подозрительного ротмистра, то смог убедиться в преступной его деятельности.
Посоветовавшись с Батюшиным, подобно мне переведенным в штаб Северного фронта и являвшимся начальником его контрразведки, я вызвал к себе на квартиру генерала Шаврова, военного юриста по образованию, и приказал ему на специальном паровозе выехать в Двинск, чтобы там, не подымая особого шума, проверить сообщенные Пассеком факты.
Поздно ночью Шавров вернулся и доложил, что подозрения полковника Пассека подтвердились: во время устроенного в квартире ротмистра обыска были найдены даже списки бывавших у него офицеров с явно шпионскими пометками около каждой фамилии.
Как выяснилось, ротмистр, являясь резидентом немецкой разведки, совместно с приставленной к нему под видом сожительницы разведчицей умышленно обыгрывал офицеров, чтобы, воспользовавшись трудным положением, в которое они попадали, в дальнейшем их завербовать.
Дополненные контрразведкой материалы генерала Шаврова я доложил главнокомандующему и как будто получил полное его одобрение. Виновные в шпионаже были арестованы и преданы военно-полевому суду, штаб армии подвергся основательной чистке. Но едва дело дошло до Черемисова, как начала действовать та страшная дореволюционная российская система, которую с такой удивительной точностью охарактеризовал еще Грибоедов.
«Родному человечку» кто-то «порадел», и Черемисов вместо отрешения от должности на все время следствия и, в лучшем случае, выхода в отставку, отделался тем, что был назначен командиром бригады в одну из пехотных дивизий.
О том, как выглядел «унылый Петроград» в годы войны, поведал историк искусства Г. К. Лукомский.
Устройство с помощью систематической, планомерной застройки целых ensemble’ей, цельных картин – вовсе не в духе времени, не во вкусе современной публики, тем более – городских заправил. Просто не понимают ни у власти стоящие, ни собственники земель и домов столицы прелести и важности значения для вида столицы применения общего плана застройки, подбора построек в зависимости от их сочетания, слияния их силуэта. Хаос самый безвкусный царит в отношении сформирования общего вида столицы. Рядом со старенькими, иногда милыми одноэтажными особнячками высятся громады доходных домов. Но чаще эти маленькие «особнячки» представляют собой ужасающие, грязные, залепленные пристройками трактиры, дома, населенные беднотой или занятые мастерскими, сапожными, корсетными, складами муки!
И самое ужасное, что это не только где-либо на Песках или на Выборгской стороне, но и на Большом проспекте Петербургской стороны и даже на Каменноостровском проспекте, какой же «общий вид» может быть у тех или иных кварталов города, когда, вопреки всякому подобию приличия и примитивнейшей опрятности, рядом с облицованными мрамором фасадами до сих пор каким-то чудом сохраняются никому не нужные лачуги, занятые извозчичьими дворами. На каком основании пустопорожние места остаются незастроенными десятилетия среди прелестных фасадов и на одной из наиболее бойких улиц? Почему не издан до сих пор закон о принудительном отчуждении таких мест, пригодных ведь не только для склада дров, а то и попросту годами пустующих или занятых свалкою ненужного мусора?
Как можно допустить, чтобы в лучшем и наиболее бойком квартале города кто-то имел право без всякого использования оставлять участки, поросшие бурьяном или, в лучшем случае, обращенные в капустные огороды (Каменноостр. пр.)? Почему – неуютные, усаженные зеленью кафе, не рестораны, не клубы, если уже невыгодно продавать собственникам участки или последние малы настолько, что построить доходный дом невозможно?
Сплошной ужас – Каменноостровский, дом № 2! Вывески, извозчичий двор, грязные сараи, трактир – на участке, расцениваемом по 1000 рублей кв. сажень, и на самом видном месте, где мог бы быть если уже не доходный дом, то во всяком случае чудный кафе-ресторан.
А пустырь на месте дома № 47, а углы Карповки и Каменноостровского? Один угол – деревянный трактир; другой угол – чайная в старом особняке; третий – ужасный разваливающийся домик, и пустырь возле него!
А благоустройство самой Карповки, ее берега: что за грязь и мусор? И это близ улицы, предназначенной для катания, для прогулок! Не лучше и Марсово поле! Годами лежали вывороченные старые столбы, когда-то раскрашенные в полосатую расцветку; валяются и теперь новые чугунные столбы; и все поле покрыто никогда никем не убираемым слоем грязи и пыли, несущейся в ветреный день прямо в Летний сад. Почему не зарастить все поле травой, покрыв его слоем дерна и превратить его таким образом за какие-нибудь 15–25 тысяч рублей в то, чем он был как раз когда-то, т. е. – в Царицын луг? Такая одежда предотвратила бы от пыли плац, а военному ученью отнюдь не повредила бы. Наоборот. Ведь все плацы, где еще происходят большие учения в лагерях (напр., Усть-Ижорском), покрыты такой травой, нисколько притом не вытаптываемой. Затем хотя бы один ряд деревьев (почему всегда тополь – несносный, безличный, требующий человеческого труда по обстрижке, а, например, не ель, не пихта?) вокруг и ограда (зачем непременно чугунная? кстати, как неудачны новоотлитые чугунные стойки!) из каменных столбов, с обелисками по углам поля и с фонтанами по середине линии периметра – и какой чугунный памятник «Свободы» получился бы из «Марсового поля».
Почему вообще столь незначительное благоустройство возможно было когда-то, возможно и ныне в провинции (Кострома, Чугуев) и немыслимо в столице, в самом ее центре, у Летнего сада, у посольств, где проезжают иностранные представители: ведь эта узкая дорога, кстати, всегда ужасающе вымощенная, – единственный путь, сообщающий две лучшие части города!
Не лучше обстоит дело и с Троицкой площадью, и с набережными. Ведь надо так постараться замусорить город, как сделали это с площадью у цирка и мечети! Заборы, пристроечки, клозеты, свалка всякой рухляди, никому не нужного хлама – и это на самом виду у катающейся публики! Снести и этот никому не нужный цирк (уже приходящий в ветхое состояние), и отвратительный скэтинг (каток. – Ред.), отчистить бы всю эту площадь, и какое идеальное место получилось бы для сквера, еще лучше для театра, музея или вообще для общественного сооружения! А пока мечеть – сама по себе вполне художественное сооружение – отделяется от прекрасного доходного дома (особенно великолепен в нем двор) какой-то деревянной лачугой (будто и ее нельзя было прикупить к земле под этот дом или мечеть: надо было бы принудить продать место), а слева от мечети один ужас беспорядка!
И как досадно, что лучшие места столицы пропадают из-за такого пустяка, из-за простого недосмотра. Много ли надо, чтобы привести в благоустроенный вид и эту площадь, и Марсово поле, и весь Каменноостровский проспект! Совсем не велик был бы расход. А ведь «по одежде встречают», и члены многочисленных иностранных посольств, прибывающих все чаще и чаще к нам, судят о наших нравах, вкусе, о нашей культуре – по опрятности и именно по внешнему благоустройству! Ведь многое в недрах скрытое и хорошее, равно как и плохое, едва ли доступно для их восприятия за какую-нибудь неделю пребывания. А вот по виду лохматых, кое-где растущих деревьев, по виду неопрятных улиц, загрязненных дворов (один ужас, что делается во дворах многих домов, напр., Гороховой улицы) они судить будут.
И не после войны, а теперь же нам в высшей степени важно подтянуться, привести в более европейский вид наши улицы, дома, ограды, сады. Кто же выполняет, однако, эту работу по приведению города в красивый вид?
Беда-то именно в том, что заботиться об эстетической внешности всех таких «представительных» мест предоставлено Думе. Дума уступает сию функцию городскому садовнику, что касается садов, и полиции, что касается улиц. Но садовник старается, вероятно, нажить побольше, а может, и связан скудными кредитами, а полиция? – в ее функцию входит не столько изящество и приличие, сколько лишь порядок и спокойствие.
И вот некому заботиться об общем виде кварталов, улиц, площадей. Предоставлено самой публике (домохозяевам) поддерживать чистоту, и вот в конце концов этим занимаются дворники, т. е. попечение сводится к работе сельских жителей. Ну что же тут странного, что при таких условиях часто то, что требовало бы интеллигентного, со вкусом выполненного, осуществляется небрежно, аляповато, грубо, на вкус дворников, т. е. безалаберно. Все наши оградительные, вокруг деревьев, сетки очень плохи, кривы, выпучиваются, а главное, почему против одного дома есть деревья, а тут же рядом, по одной и той же Английской набережной, Екатерининскому каналу или Мойке, нет деревьев, у одного хозяина деревянные вокруг деревьев ограждения, у другого – железные, а у третьего – их нет совсем!
Зачем тротуар у одного дома выложен плитами, рядом – асфальтом и т. д.? Зачем эта пестрота, свобода выбора материалов, что дает шахматный, клочковатый, часто убогий, заплатанный вид улице? А мостовые! А окраска фасадов – пестрая, возмутительно негармоничная, безвкусная! А вывески, залепляющие часто лучшие места и детали фасадов!
Кто этим всем владеет? Кто контролирует, художественна ли та или иная окраска? Городские архитекторы? В таком случае они или ничего не делают, или неспособны делать, или завалены мелкой проверочной кабинетной работой. Правильно ли сделаны посадки деревьев (почему одни и те же в одном месте растут хорошо, а в другом дурно?), стильны и хотя бы удобны ли скамейки (как плохи новые скамейки на новой набережной на Каменном острове), или кому нужна такая грубая, несуразная мостовая, какая устроена на новой Песочной набережной? Здесь быть бы аллее, уютной дорожке, а устроена мостовая для ломовых! Надо ли подрезать тополя шарообразно или как-нибудь иначе? Кто всем этим ведает? Городской садовод? В таком случае он ничего не делает или не имеет ни прав, ни полномочий, и его никто не слушается. Насколько мне известно, городская управа (технический отдел, городские архитекторы) рассматривают и утверждают проекты лишь с точки зрения правильности конструкции, на «Высочайшее» утверждение поступали только проекты сооружений, воздвигаемых в пределах 2–3 лучших улиц и набережных. А все, что воздвигается по набережным на Неве или не на Невском, а на Фонтанке или на Каменноостровском? На чье усмотрение поступает все это? Очевидно, необходимо не только поощрение (премии от Думы за лучшие фасады) отдельных сооружений, но еще необходимее выработка и принуждение (если нельзя убедить) планомерной застройки, которая влекла бы за собой образование цельных по своему архитектурному облику картин!..
«Февральский ветер свободы», первая революция, 1917 год






