Санкт-Петербург. Автобиография Федотова Марина
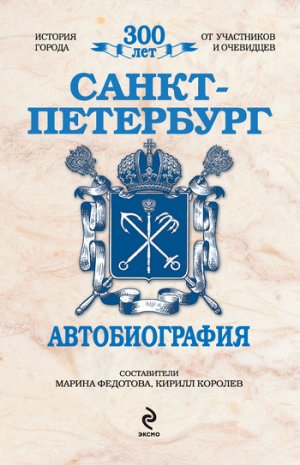
Наводнение, 1824 год
Александр Грибоедов
В декабре 1824 года, словно предвещая бурные события года следующего, в Петербурге случился природный катаклизм: наводнение, самое катастрофическое в истории города – вода поднялась на 180 см выше ординара. Очевидцем наводнения оказался драматург А. С. Грибоедов.
Я проснулся за час перед полднем; говорят, что вода чрезвычайно велика, давно уже три раза выпалили с крепости, затопила всю нашу Коломну. Подхожу к окошку и вижу быстрый проток; волны пришибают к возвышенным тротуарам; скоро их захлестнуло; еще несколько минут – и черные пристенные столбики исчезли в грозной новорожденной реке. Она посекундно прибывала. Я закричал, чтобы выносили что понужнее в верхние жилья (это было на Торговой, в доме В. В. Погодина). Люди, несмотря на очевидную опасность, полагали, что до нас нескоро дойдет; бегаю, распоряжаюсь – и вот уже из-под полу выступают ручьи, в одно мгновение все мои комнаты потоплены: вынесли, что могли, в приспешную, которая на полтора аршина выше остальных покоев; еще полчаса – и тут воды со всех сторон нахлынули, люди с частию вещей перебрались на чердак, сам я нашел убежище во 2-м ярусе, у Н. Погодина. – Его спокойствие меня не обмануло: отцу семейства не хотелось показать домашним, чего надлежало страшиться от свирепой, беспощадной стихии. В окна вид ужасный: где за час пролегала оживленная проезжая улица, катились ярые волны с ревом и с пеной, вихри не умолкали. К Театральной площади, от конца Торговой и со взморья, горизонт приметно понижается; оттуда бугры и холмы один на другом ложились в виде неудержимого водоската.
Свирепые ветры дули прямо по протяжению улицы, порывом коих скоро воздымается бурная река. Она мгновенно мелким дождем прыщет в воздухе, и выше растет, и быстрее мчится. Между тем в людях мертвое молчание; конопать и двойные рамы не допускают слышать дальних отголосков, а вблизи ни одного звука ежедневного человеческого; ни одна лодка не появилась, чтобы воскресить упадшую надежду. Первая – гобвахта какая-то, сорванная с места, пронеслась к Кашину мосту, который тоже был сломлен и опрокинут; лошадь с дрожками долго боролась со смертью, наконец уступила напору и увлечена была из виду вон; потом поплыли беспрерывно связи, отломки от строений, дрова, бревна и доски – от судов ли разбитых, от домов ли разрушенных, различить было невозможно. Вид стеснен был противустоящими домами, я через смежную квартиру Погодина побежал и взобрался под самую кровлю, раскрыл все слуховые окна. Ветер сильнейший, и в панораме – пространное зрелище бедствий. С правой стороны (стоя задом к Торговой) поперечный рукав наместо улицы – между Офицерской и Торговой; далее – часть площади в виде широкого залива, прямо и слева – Офицерская и Английский проспект и множество перекрестков, где водоворот сносил громады мостовых развалин; они плотно спирались, их с тротуаров вскоре отбивало; в самой отдаленности – хаос, океан, смутное смешение хлябей, которые отовсюду обтекали видимую часть города, а в соседних дворах примечал я, как вода приступала к дровяным запасам, разбирала по частям, по кускам и их, и бочки, ушаты, повозки и уносила в общую пучину, где ветры не давали им запружать каналы; все, изломанное в щепки, неслось, влеклось неудержимым, неотразимым стремлением. Гибнущих людей я не видал, но, сошедши несколько ступеней, узнал, что пятнадцать детей, цепляясь, перелезли по кровлям и еще не опрокинутым загородам, спаслись в людскую, к хозяину дома, в форточку, также одна [калека], которая на этот раз одарена была необыкновенной упругостью членов. Все это осиротело. Где отцы их, матери!! Возвратясь в залу к Столыпиным, я уже нашел, по сравнению с прежним наблюдением, что вода нижние этажи иные совершенно залила, а в других поднялась до вторых косяков 3 стекольных больших окончин, вообще до 4 аршин уличной поверхности. Был третий час пополудни; погода не утихала, но иногда солнце освещало влажное пространство, потом снова повлекалось тучами. Между тем вода с четверть часа остановилась на той же высоте, вдали появились два катера, наконец волны улеглись и потоп не далее простер смерть и опустошение; вода начала сбывать.
Между тем (и это узнали мы после) сама Нева против дворца и Адмиралтейства горами скопившихся вод сдвинула и расчленила огромные мосты Исаакиевский, Троицкий и иные. Вихри буйно ими играли по широкому разливу, суда гибли и с ними люди, иные истощавшие последние силы поверх зыбей, другие – на деревах бульвара висели над клокочущей бездною. В эту роковую минуту государь явился на балконе. Из окружавших его один сбросил с себя мундир, сбежал вниз, по горло вошел в воду, потом на катере поплыл спасать несчастных. Это был генерал-адъютант Бенкендорф. Он многих избавил от потопления, но вскоре исчез из виду, и во весь этот день о нем не было вести. Граф Милорадович в начале наводнения пронесся к Екатерингофу, но его поутру не было, и колеса его кареты, как пароходные крылья, рыли бездну, и он едва мог добраться до дворца, откуда, взявши катер, спас нескольких.
Все, по сю сторону Фонтанки до Литейной и Владимирской, было наводнено. Невский проспект превращен был в бурный пролив; все запасы в подвалах погибли, из нижних магазинов выписные изделия быстро поплыли к Аничкову мосту; набережные различных каналов исчезали, и все каналы соединились в одно. Столетние деревья в Летнем саду лежали грядами, исторгнутые, вверх корнями. Ограда ломбарда на Мещанской и другие, кирпичные и деревянные, подмытые в основании, обрушивались с треском и грохотом.
На другой день поутру я пошел осматривать следствия стихийного разрушения. Кашин и Поцелуев мосты были сдвинуты с места. Я поворотил вдоль Пряжки. Набережные железные перилы и гранитные пилястры лежали лоском. Храповицкий – отторгнут от мостовых укреплений, неспособный к проезду. Я перешел через него, и возле дома графини Бобринской, среди улицы очутился мост с Галерного канала; на Большой Галерной – раздутые трупы коров и лошадей. Я воротился опять к Храповицкому мосту и вдоль Пряжки и ее изрытой набережной дошел до другого моста, который накануне отправило вдоль по Офицерской. Бертов мост тоже исчез. По плавучему лесу и по наваленным поленам, погружаясь в воду то одной ногою, то другой, добрался я до Матисовых тоней. Вид открыт был на Васильевский остров. Тут, в окрестности, не существовало уже нескольких сот домов; один – и то безобразная груда, в которой фундамент и крыша – все было перемешано; я подивился, как и это уцелело. Это не здешние; отсюда строения бог ведает куда унесло, а это прибило сюда с Ивановской гавани. Между тем подошло несколько любопытных; иные – завлеченные сильным спиртовым запахом, начали разбирать кровельные доски; под ними – скот домашний и люди мертвые, и всякие вещи. Далее нельзя было идти по развалинам; я приговорил ялик и пустился в Неву; мы поплыли в Галерную гавань; но сильный ветер прибил меня к Сальным буянам, где на возвышенном гранитном берегу стояло двухмачтовое чухонское судно, необыкновенной силой так высоко взмощенное; кругом поврежденные огромные суда, издалека туда заброшенные. Я взобрался вверх; тут огромное кирпичное здание, вся его лицевая сторона была в нескольких местах проломлена как бы десятком стенобитных орудий; бочки с салом разметало повсюду; у ног моих черепки, луковица, капуста и толстая связанная кипа бумаг с надписью: «№ 16, февр. 20. Дела казенные».
Возвращаясь по Мясной, во втором доме от Екатерингофского проспекта заглянул я в нижние окна. Три покойника лежало уже, обвитые простиралами, на трех столах. Я вошел во внутренний двор – ни души живой. Проникнул в тот покой, где были усопшие, раскрыл лица двоих; пожилая женщина и девочка с открытыми глазами, с оскаленными белыми зубами; ни малейшего признака насильственной смерти. До третьего тела я не мог добраться от ужаснейшей наносной грязи. Не знаю: трупы ли это утопленников или скончавшихся иною смертью. На Торговой, недалеко от моей квартиры, стоял пароход на суше.
Необыкновенные события придают духу сильную внешнюю деятельность; я не мог оставаться на месте и поехал на Английскую набережную. Большая часть ее загромождена была частями развалившихся судов и их груза. На дрожках нельзя было пробраться; перешед с половину версты, я воротился; вид стольких различных предметов, беспорядочно разметанных, становился однообразным; повсюду странная смесь раздробленных...
Я наскоро собрал некоторые черты, поразившие меня наиболее в картине гнева рассвирепевшей природы и гибели человеков. Тут не было места ни краскам витийственности, от рассуждений я также воздерживался: дать им волю – значило бы поставить собственную личность на место великого события. Другие могут добавить несовершенство моего сказания тем, что сами знают; господа Греч и Булгарин берутся его дополнить всем, что окажется истинно замечательным, при втором издании этой тетрадки, если первое скоро разойдется и меня здесь уже не будет.
Теперь прошло несколько времени со дня грозного происшествия. Река возвратилась в предписанные ей пределы; душевные силы не так скоро могут прийти в спокойное равновесие. Но бедствия народа уже получают возможное уврачевание; впечатления ужаса мало-помалу ослабевают, и я на сем останавливаюсь. В общественных скорбях утешен мыслью, что посредством сих листков друзья мои в отдаленной Грузии узнают о моем сохранении в минувшей опасности, и где ныне нахожусь, и почему был очевидцем.
Восстание декабристов, 1825 год
Иван Якушкин, Николай Бестужев, Владимир Штейнгель, Иван Телешов
В 1825 году скончался император Александр I, «царственный мистик», как его стали называть в последние годы жизни. Поскольку обе дочери императора умерли во младенчестве, наследником престола считался брат Александра великий князь Константин, однако он официально отрекся от права наследования в 1822 году (точнее, еще после смерти отца, императора Павла, но обнародовали факт отречения значительно позднее). Когда стало известно о кончине Александра, права на престол заявил другой его брат, Николай Павлович. Армия, игравшая значительную роль в определении государственной политики, встретила это заявление весьма неодобрительно. Николай уступил и присягнул Константину, но тот подтвердил свой отказ от престола, и Николай Павлович был коронован. Присягу новому императору назначили на 14 декабря 1825 года.
Эти события, иронично названные современником «суетой вокруг престола», побудили к выступлению многочисленные тайные общества, возникшие в дворянской среде и «грезившие» революцией: побывав за границей, многие дворяне «заразились французским вольнодумством». Опираться эти общества планировали лишь на армию, «дабы не проливать крови народной, как во Франции случилось»; Северное и Южное общества, первоначально назначавшие выступление на лето 1826 года, рассчитывали сорвать присягу новому императору и заставить Сенат принять выработанный ими «Манифест к русскому народу», призывавший к созыву Великого собора: последний должен был определить форму правления в стране и отменить крепостное право.
И. Д. Якушкин, один из основателей Союза спасения, «желчный и брюзжащий старичок», как охарактеризовал его товарищ по сибирской ссылке, вспоминал о событиях накануне 14 декабря.
27 ноября в то самое время, когда служили в Зимнем дворце молебен за здравие императора Александра Павловича, приехал курьер из Таганрога с известием о кончине императора; молебствие прекратилось, духовенство облеклось в черные ризы и стало молиться за усопшего.
По окончании панихиды вел. кн. Николай Павлович, взявши в сторону Милорадовича, бывшего тогда военным губернатором и по праву своего звания, в отсутствие императора, главноначальствующего над всеми войсками, расположенными в С.-Петербурге и окрестностях столицы, сказал ему: «Граф Михаил Андреевич, вам известно, что государь цесаревич, при вступлении в брак с кн. Лович, отказался от права на престол; вам известно также, что покойный император в духовном своем завещании назначил меня своим наследником».
Милорадович отвечал: «Ваше высочество, я знаю только, что в России существует коренной закон о престолонаследии, в силу которого цесаревич должен вступить на престол, и я послал уже приказание войскам присягать императору Константину Павловичу». Таким решительным ответом Милорадович поставил вел. кн. Николая Павловича в необходимость присягнуть своему старшему брату; за ним присягнули новому императору: вел. кн. Михаил Павлович, все генералы и сановники, присутствовавшие при молебствии сперва за здравие, а потом за упокой императора Александра Павловича. После чего Милорадович известил Сенат о присяге, принесенной цесаревичу во дворце и всеми войсками.
В Сенате хранилось духовное завещание покойного императора в пользу вел. кн. Николая Павловича, через что на правительствующий Сенат возлагалась обязанность тотчас после смерти Александра Павловича обнародовать последнюю его волю; но Сенат без малейшего прекословия присягнул императору Константину Павловичу, а за ним принесли ту же присягу Государственный совет и вся столица. Затем Милорадович отправил нарочного к московскому военному губернатору кн. Голицыну с известием о присяге, принесенной Сенатом, Государственным советом и всем Петербургом императору Константину Павловичу, и приглашал кн. Голицына привести Москву к присяге новому императору. Кн. Голицын после долгого совещания с начальником 5-го корпуса графом Толстым сообщил Московскому Сенату известия, полученные им из Петербурга; и тут Сенат беспрекословно принес требуемую присягу. За Московским Сенатом Москва и вся Россия присягнула императору Константину Павловичу. Один только преосвященный Филарет, у которого в Успенском соборе хранился снимок с завещания покойного императора, изъявил свое несогласие принести требуемую от него присягу; но кн. Голицын скоро уговорил его не сопротивляться общей мере, принятой во всем государстве.
В тот день, когда присягнули Сенат, Государственный совет и вся столица Константину Павловичу, члены Главной думы кн. Трубецкой, кн. Оболенский и Рылеев собрались у последнего. На этом совещании был также Александр Бестужев (Марлинский), адъютант принца Александра Вюртембергского. Зная, что новый император – заклятый враг всему тому, что хоть сколько-нибудь отзывается свободной мысли, они условились на некоторое время прекратить все действия между членами Тайного общества, находившимися тогда в Петербурге; но скоро потом отречение цесаревича сделалось известным; знали также, что вел. кн. Михаил Павлович и Лазарев были отправлены к нему в Варшаву и должны были привезти вторичное отречение. Кн. Трубецкой, кн. Оболенский, братья Бестужевы Александр и Никола, Федор Глинка, Якубович, полковник Батенков, полковник Булатов и многие другие стали ежедневно собираться у Рылеева; на этих совещаниях было решено воспользоваться двусмысленным положением, в какое были поставлены наследники престола. Все в Петербурге смотрели на это положение с каким-то недоверием и беспокойством. Однажды во дворце генерал-лейтенант Шеншин, командир бригады, состоящей из полков Московского и Лейб-гренадерского, подошел к Оболенскому и сказал ему: «Что нам теперь делать? А в теперешних обстоятельствах необходимо на что-нибудь решиться».
Шеншин не принадлежал к Тайному обществу, но, вероятно, по сношениям своим с некоторыми из членов он знал о его существовании. Оболенский не почитал себя вправе говорить с ним откровенно и потому дал ему такой ответ, который прекратил начатый разговор.
Всякий день на совещаниях у Рылеева все более и более проявлялось стремление приступить к чему-нибудь решительному, и потому был назначен директором Трубецкой, полковник Преображенского полка, занимавший должность дежурного штаб-офицера при штабе 4-го корпуса и в это время находившийся в отпуску. Ему предоставлялась власть действовать самостоятельно в решительную минуту и распоряжаться средствами Общества и каждым из членов по своему собственному усмотрению. 8 декабря прибыли из Москвы Пущин и кн. Одоевский. Пущин служил в Москве надворным судьей; условившись прежде с Рылеевым, Оболенским и некоторыми другими членами, что в случае предстоящего какого-нибудь важного происшествия в Петербурге каждый из них, где бы он ни был, явится в Петербург, чтобы действовать вместе с товарищами, Пущин уехал из Москвы, несмотря на все нежелание кн. Голицына дать ему отпуск. Одоевский, корнет Конной гвардии, был отпущен во Владимирскую губернию; он ехал в деревню к отцу, с которым давно не видался; проездом через Москву, узнавши, что Пущин едет и по какому случаю, Одоевский вернулся в Петербург.
По известиям из Варшавы уже знали, что цесаревич не вступил на престол. В это время он был совершенно потерян, не выходил из своего кабинета и никого не принимал. Когда Демидов, адъютант кн. Голицына, привез ему присягу Москвы, он вышел к нему в шинели и, взглянув на пакет, на котором было написано: «его императорскому величеству», возвратил его, не распечатав, и проговорил: «Скажите кн. Голицыну, что не его дело вербовать в цари». Сенат послал из Петербурга в Варшаву с своей присягой обер-секретаря Никитина, известного в то время игрока и шулера. Цесаревич встретил его словами: «Что вам угодно от меня? Я уже давно не играю в крепе», – и ушел. В то же самое время портреты и статуи, изображавшие Константина Павловича, даже самые уродливые, в обеих столицах раскупались нарасхват, тогда как на снимки с прекрасного бюста Николая Павловича никто не обращал внимания.
Все предвещало скорую развязку разыгравшейся драмы. 11 декабря на многолюдном совещании у Рылеева было решено в случае отречения цесаревича не присягать Николаю Павловичу, поднять гвардейские полки и привести их на Сенатскую площадь. Если бы войска явились на площадь в значительном количестве и никого не было за Николая Павловича, то можно было полагать, что он останется в стороне и в эту минуту нисколько не будет опасен. В надежде на успех был подготовлен манифест, который Сенат должен был обнародовать от себя и которым созывалась Земская дума, долженствовавшая состоять из представителей всей земли русской. Этой Земской думе предоставлялось определить, какой порядок правления наиболее удобен для России. Пока соберется Дума, Сенат должен был назначить временными правителями членов Государственного совета: Сперанского и Мордвинова и сенатора И. М. Муравьева-Апостола. При Временном правительстве должен был находиться один избранный член Тайного общества и безослабно следить за всеми действиями правительства.
Декабря 12 поутру собрались депутаты от полков к Оболенскому. На вопрос его, сколько каждый из них уверен вывести на Сенатскую площадь, они все отвечали, что «не могут поручиться ни за одного человека». Было положено, что каждый выведет столько, сколько для него будет возможно. Того же числа вечером на совещании у Рылеева был Ростовцев, теперь начальник штаба военно-учебных заведений при наследнике, а тогда бывший ревностным членом Общества и товарищем Оболенского; они оба были адъютантами при Бистроме, начальнике гвардейской пехоты. Ростовцев объявил в присутствии всех бывших членов на совещании, что он обязан лично и особенной благодарностью вел. кн. Николаю Павловичу и что, предвидя для благодетеля своего опасность, он решился идти от них прямо к вел. князю и умолять его не принимать престола. Все увещания товарищей отложить такое странное намерение оказались тщетными. Ростовцев отправился во дворец. На другой день он доставил Рылееву бумагу с заглавием «Прекраснейший день моей жизни» и в которой было описано свидание его с вел. князем. Он объявил Николаю Павловичу, что ему предстоит великая опасность, для избежания которой он, как человек, ему преданный, умоляет его не вступать на престол; вел. князь принял его ласково и, не расспрашивая о подробностях предстоящей опасности, отпустил его. Вероятно, будущему императору в эти минуты было не до остережений юноши, хотя ему преданного, но которого воображение, очевидно, было весьма взволнованно.
Милорадовичу доносила полиция, что в доме Американской компании, где жил Рылеев, ежедневно собирались разные лица; Милорадович, зная, что Рылеев и Александр Бестужев – издатели «Полярной звезды», полагал, что у Рылеева собираются литераторы, и потому не обратил никакого внимания на донесение полиции.
Декабря 13, вечером, в значительном количестве и в последний раз собрались члены Общества у Рылеева; уже знали, что завтра войска должны быть приведены к присяге. На этом совещании полковник Булатов обещал вывести Лейб-гвардейский полк, в котором он сперва служил; Александр Бестужев и Якубович обещались рано утром отправиться в Московский полк, где Михаил Бестужев и князь Щепин-Ростовский были ротными командирами, оба члены Тайного общества; выведя этот полк, Бестужев и Якубович должны были идти с ним в артиллерийские казармы на Литейный, забрать артиллерию и привести все войско на Сенатскую площадь. Между офицерами пешей артиллерии было несколько членов Общества, на содействие которых можно было рассчитывать. Другие члены, бывшие на совещании, должны были отправиться в разные полки с попыткой вывести их. В этот вечер было говорено также, что в случае неудачи можно будет с войсками, выведенными на Сенатскую площадь, отступить к Новгороду и поднять военные поселения. Каховский прежде еще дал слово Рылееву, если Николай Павлович выедет перед войска, нанести ему удар; но Александр Бестужев после, наедине с Каховским, уговорил его не пытаться исполнить данное им обещание Рылееву. Переговоры эти между Каховским и Рылеевым, а потом между Бестужевым и Каховским были совершенно не известны прочим членам, бывшим в этот вечер у Рылеева на совещании...
О самом восстании на Сенатской площади оставил воспоминания другой декабрист, Н. А. Бестужев.
Рано поутру 14 числа я был уже у Рылеева, он собирался ехать со двора.
– Я дожидал тебя, – сказал он, – что ты намерен делать?
– Ехать, по условию, в Гвардейский экипаж, может быть, там мое присутствие будет к чему-нибудь годно.
– Это хорошо. Сейчас был у меня Каховский и дал нам с твоим братом Александром слово об исполнении своего обещания, а мы сказали ему, на всякий случай, что с сей поры мы его не знаем, и он нас не знает, и чтобы он делал свое дело, как умеет. Я же, с своей стороны, еду в Финляндский и Лейб-гренадерский полки, и если кто-либо выйдет на площадь, я стану в ряды солдат с сумою через плечо и с ружьем в руках.
– Как, во фраке?
– Да, а может быть, надену русский кафтан, чтобы сроднить солдата с поселянином в первом действии их взаимной свободы.
– Я тебе этого не советую. Русский солдат не понимает этих тонкостей патриотизма, и ты скорее подвергнешься опасности от удара прикладом, нежели сочувствию к твоему благородному, но неуместному поступку. К чему этот маскарад? Время национальной гвардии еще не настало.
Рылеев задумался.
– В самом деле, это слишком романтически, – сказал он, – итак, просто, без излишеств, без затей. Может быть, – продолжал он, – может быть, мечты наши сбудутся, но нет, вернее, гораздо вернее, что мы погибнем.
Он вздохнул, крепко обнял меня, мы простились и пошли. <...>
Когда я пришел на площадь с гвардейским экипажем, уже было поздно.
Рылеев приветствовал меня первым целованием свободы и после некоторых объяснений отвел меня на сторону и сказал:
– Предсказание наше сбывается, последние минуты наши близки, но это минуты нашей свободы: мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою.
Это были последние слова Рылеева, которые мне были сказаны. Остальная развязка нашей политической драмы всем известна. <...>
Сабля моя давно была вложена, и я стоял в интервале между Московским каре и колонною Гвардейского экипажа, нахлобуча шляпу и поджав руки, повторяя себе слова Рылеева, что мы дышим свободою. Я с горестью видел, что это дыхание стеснялось. Наша свобода и крики солдат походили более на стенания, на хрип умирающего. В самом деле: мы были окружены со всех сторон; бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто в начатом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратились; «ура» солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек.
Митрополит, посланный для нашего увещания, возвратился без успеха; Сухозанету, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокричали подлеца – и это были последние порывы, последние усилия нашей независимости.
Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения – столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.
С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся – между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала.
За нами двинули эскадрон конной гвардии, и когда при входе в узкую Галерную улицу бегущие столпились вместе, я достиг до лейб-гренадеров, следовавших сзади, и сошелся с братом Александром; здесь мы остановили несколько десятков человек, чтобы, в случае натиска конницы, сделать отпор и защитить отступление, но император предпочел продолжать стрельбу по длинной и узкой улице.
Картечи догоняли лучше, нежели лошади, и составленный нами взвод рассеялся. Мертвые тела солдат и народа валялись и валились на каждом шагу; солдаты забегали в домы, стучались в ворота, старались спрятаться между выступами цоколей, но картечи прыгали от стены в стену и не щадили ни одного закоулка. Таким образом, толпы достигли до первого перекрестка и здесь были встречены новым огнем Павловского гренадерского полка.
Более подробно о событиях на Сенатской площади поведал В. И. Штейнгель, один из идеологов декабристского движения.
Наконец настало и роковое 14 декабря – число замечательное: оно вычеканено на медалях, с какими распущены депутаты народного собрания для составления законов в 1776 году при Екатерине II. Это было сумрачное декабрьское петербургское утро, с 8 градусами мороза. До девяти часов весь правительствующий Сенат был уже во дворце. Тут и во всех полках гвардии производилась присяга. Беспрестанно скакали гонцы во дворец с донесениями, где как шло дело. Казалось, все тихо. Некоторые таинственные лица показывались на Сенатской площади в приметном беспокойстве. Одному, знавшему о распоряжении Общества и проходившему чрез площадь, против Сената, встретился издатель «Сына отечества» и «Северной пчелы» господин Греч. К вопросу: «Что ж, будет ли что? » он присовокупил фразу отъявленного карбонария. Обстоятельство не важное, но оно характеризует застольных демагогов: он и Булгарин сделались усердными поносителями погибших – за то, что их не компрометировали. Вскоре после этой встречи, часов в 10, на Гороховом проспекте вдруг раздался барабанный бой и часто повторяемое «ура!». Колонна Московского полка с знаменем, предводимая штабс-капитаном кн. Щепиным-Ростовским и двумя Бестужевыми, вышла на Адмиралтейскую площадь и повернула к Сенату, где построилась в каре. Вскоре к ней быстро примкнул Гвардейский экипаж, увлеченный Арбузовым, и потом батальон лейб-гренадеров, приведенный адъютантом Пановым и поручиком Сутгофом. Сбежалось много простого народа, и тотчас разобрали поленницу дров, которая стояла у заплота, окружающего постройки Исаакиевского собора. Адмиралтейский бульвар наполнился зрителями. Тотчас же стало известно, что этот выход на площадь ознаменовался кровопролитием. Кн. Щепин-Ростовский, любимый в Московском полку, хотя и не принадлежавший явно к Обществу, но недовольный, и знавший, что готовится восстание против вел. кн. Николая, успел внушить солдатам, что их обманывают, что они обязаны защищать присягу, принесенную Константину, и потому должны идти к Сенату. Генералы Шеншин и Фредерикс и полковник Хвощинский хотели их переуверить и остановить. Он зарубил первых и ранил саблею последнего, равно как одного унтер-офицера и одного гренадера, хотевшего не дать знамя, и тем увлек солдат. По счастию, они остались живы. Первою жертвою пал вскоре граф Милорадович, невредимый в столь многих боях. Едва успели инсургенты построиться в каре, как показался он скачущим из дворца в парных санях, в одном мундире и в голубой ленте. Слышно было с бульвара, как он, держась левою рукою за плечо кучера и показывая правою, приказывал ему: «Объезжай церковь и направо к казармам». Не прошло трех минут, как он вернулся верхом перед каре и стал убеждать солдат повиноваться и присягнуть новому императору. Вдруг раздался выстрел, граф зашатался, шляпа слетела с него; он припал к луке, и в таком положении лошадь донесла его до квартиры того офицера, которому принадлежала. Увещая солдат с самонадеянностию старого отца-командира, граф говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором; но что же делать, если он отказался; уверял их, что он сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему. Один из членов Тайного общества, кн. Оболенский, видя, что такая речь может подействовать, выйдя из каре, убеждал графа отъехать прочь, иначе угрожал опасностью. Заметя, что граф не обращает на это внимания, он нанес ему штыком легкую рану в бок. В это время граф сделал вольт-фас, а Каховский пустил в него из пистолета роковую пулю, накануне вылитую. Когда у казарм сняли его с лошади и внесли в упомянутую квартиру офицера, он имел последнее утешение прочитать собственноручную записку нового своего государя, с изъявлением сожаления, и в 4 часу дня его уже не существовало.
Тут выразилась вполне важность восстания, которою ноги инсургентов, так сказать, приковались к занимаемому ими месту. Не имев силы идти вперед, они увидели, что нет уже спасения назади. Жребий был брошен! Диктатор к ним не являлся. В каре было разногласие. Оставалось одно: стоять, обороняться и ждать развязки от судьбы. Они это сделали.
Между тем по повелениям нового императора мгновенно собрались колонны верных войск к дворцу. Государь, невзирая на убеждения императрицы, ни на представления усердных предостерегателей, вышел сам, неся на руках 7-летнего наследника престола, и вверил его охранению преображенцев. Эта сцена произвела полный эффект: восторг в войсках и приятное, многообещающее изумление в столице. Государь сел потом на белого коня и, выехав перед первый взвод, подвинул колонны от экзерциргауза к углу бульвара. Его величавое, хотя несколько мрачное спокойствие обратило тогда же всеобщее внимание. В это время инсургенты минутно были польщены приближением Финляндского полка, симпатии которого еще доверяли. Полк этот шел по Исаакиевскому мосту. Его вели к прочим присягнувшим, но командир 1-го взвода барон Розен, перейдя за половину моста, скомандовал: стой! Полк весь остановился, и ничто уже до конца драмы сдвинуть его не могло. Та только часть, что не взошла на мост, перешла по льду на Английскую набережную и тут примкнула к войскам, обошедшим инсургентов со стороны Крюкова канала.
Вскоре после того, как государь выехал на Адмиралтейскую площадь, к нему подошел с военным респектом статный драгунский офицер, которого чело было под шляпою повязано черным платком, и после нескольких слов пошел в каре; но скоро возвратился ни с чем. Он вызвался уговорить бунтовщиков и получил один оскорбительный упрек. Тут же, по повелению государя, был арестован и понес общую участь осужденных. После его подъезжал к инсургентам генерал Воинов, в которого Вильгельм Кюхельбекер, поэт, издатель журнала «Мнемозины», бывший тогда в каре, сделал выстрел из пистолета и тем заставил его удалиться. К лейб-гренадерам явился полковник Стюрлер, и тот же Каховский ранил его из пистолета. Наконец, подъезжал сам вел. князь Михаил, и тоже без успеха; ему отвечали, что хотят наконец царствования законов. И с этим поднятый на него пистолет рукою того же Кюхельбекера заставил его удалиться. Пистолет был уже не заряжен.
После этой неудачи из временно устроенной в Адмиралтейских зданиях Исаакиевской церкви вышел митрополит Серафим в полном облачении, с крестом, в преднесении хоругвей. Подошед к каре, он начал увещание. К нему вышел другой Кюхельбекер, брат того, который заставил удалиться вел. кн. Михаила Павловича; моряк и лютеранин, он не знал высоких титулов нашего православного смирения и потому сказал просто, но с убеждением: «Отойдите, батюшка, не ваше дело вмешиваться в эти дела». Митрополит обратил свое шествие к Адмиралтейству. Сперанский, смотревший на это из дворца, сказал с ним стоявшему обер-прокурору Краснокутскому: «И эта штука не удалась!» Краснокутский сам был членом Тайного общества и после умер в изгнании. Обстоятельство это, сколь ни малозначащее, раскрывает, однако ж, тогдашнее расположение духа Сперанского. Оно и не могло быть инаково: с одной стороны, воспоминание претерпенного невинно, с другой – недоверие к будущему.
Когда таким образом совершился весь процесс укрощения мирными средствами, приступили к действию оружия. Генерал Орлов с полной неустрашимостью дважды пускался со своими конногвардейцами в атаку, но пелотонный огонь опрокидывал нападения. Не победя каре он, однако ж, завоевал этим целое фиктивное графство. Государь, передвигая медленно свои колонны, находился уже ближе середины Адмиралтейства. На северо-восточном углу Адмиралтейского бульвара появилась ultima ratio – орудия гвардейской артиллерии. Командующий ими генерал Сухозанет подъехал к каре и кричал, чтобы положили ружье, иначе будет стрелять картечью. В него самого прицелились ружьем, но из каре послышался презрительно-повелительный голос: «Не троньте этого... он не стоит пули». Это, естественно, оскорбило его до чрезвычайности. Отскакав к батарее, он приказал сделать залп холостыми зарядами; но не подействовало! Тогда засвистали картечи; тут все дрогнуло и рассыпалось в разные стороны, кроме павших. Можно было этим уже и ограничиться; но Сухозанет сделал еще несколько выстрелов вдоль узкого Галерного переулка и поперек Невы, к Академии художеств, куда бежали более из толпы любопытных!
Так обагрилось кровью и это восшествие на престол. В окраины царствования Александра стали вечными терминами – ненаказанность допущенного гнусного цареубийства и беспощадная кара вынужденного, благородного восстания – явного и с полным самоотвержением.
Войска были распущены. Исаакиевская и Петровская площади обставлены ведетами. Разложены были многие огни, при свете которых всю ночь убирали раненых и убитых и обмывали с площади пролитую кровь. Но со страниц неумолимой истории пятна этого рода невыводимы. Все делалось в тайне, и подлинное число лишившихся жизни и раненых осталось неизвестным. Молва, как обыкновенно, присвояла право на преувеличения. Тела бросали в проруби; утверждали, что многие утоплены полуживыми.
Несколько иную картину происходившего на Сенатской площади и в городе рисуют мемуары случайного очевидца, чиновника министерства финансов И. Я. Телешова.
Утро было ясное и довольно теплое. Я медленно шел в департамент разных податей и сборов, желая более воспользоваться хорошим временем – чрезвычайной редкостью в С.-Петербурге, – как вдруг был поражен словами одного мальчика, который, выбежав из мелочной лавки (в Чернышевом переулке) с газетным листом бумаги, кричал во всю улицу:
– У нас новый государь, у нас царствует Николай Павлович! Вот и указ!..
С каким-то беспокойным чувством я ускорил шаги мои и, пришедши в департамент, точно узнал, что великий князь Николай Павлович вступил на престол всероссийский, потому что император Константин от оного отказался. Вскоре приехал директор, привел всех чиновников к присяге и уехал в другой вверенный ему департамент. Разумеется, тут никто не думал приниматься за дело, и все, разделясь на партии, передавали друг другу свои замечания и чувствования о сем важном и для них нечаянном событии. В сие время приезжает курьер и сказывает, что на площади против Зимнего дворца народ и войско ожидают нового императора, чтоб изъявить ему верноподданническое свое поздравление. Сия весть, как пожар, всех выгнала из департамента; толкая один другого на лестнице, все бежали на улицу и, боясь опоздать на площадь, старались наперерыв занимать извозчиков. Я как не очень проворный уже не мог найти саней и потому отправился туда же пешком.
Идучи Невским проспектом, я не заметил ничего необыкновенного, и мне казалось, что еще немногим была известна столь важная новость столицы. Но, подходя к арке Главного штаба, я увидел множество народа и едва мог пробраться до того места, где государь осматривал лейб-гвардии Преображенский полк; я узнал его по голубой ленте, и как теперь помню, что лицо императора, как полотно, было бледно. Солдаты были в серых шинелях, и это несколько удивило меня; но чувство неизъяснимо приятное заступило место удивления, когда я услышал радостные восклицания народа и милостивое к нему обращение государя; сие чувство овладело мною совершенно, и я готов был плакать от умиления. <...>
Устроив войско, государь сел на лошадь и, сопровождаемый преображенцами, тихо поехал на площадь Адмиралтейскую. Посреди сей площади, против самого шпица адмиралтейского, он остановился и, обратясь к народу, сказал:
– Ну, братцы! Я на все готов: кто прав перед Богом и совестью, тому нечего бояться.
Не зная ничего, я совершенно не понимал слов императора и, не смея что-либо угадывать, стоял в самом неприятном ожидании развязки. Недолго я находился в недоумении: раздался залп из нескольких ружей в стороне Сената, и вся площадь взволновалась; слово «бунт» с громким шепотом было повторяемо в народе, ужас был изображен на лице каждого... Государь смутился, но с твердостью отдал приказ одному из окружающих его генералов узнать, кто стреляет. Генерал поехал по краю площади, и государь сказал ему:
– Ваше превосходительство! Извольте ехать прямо, – прямо и скорее!
Посланный скрылся; перестрелка продолжалась, и вся свита императора была в чрезвычайном смущении: лицо каждого перед глазами государя имело принужденную на себе улыбку; но как скоро государь не мог их видеть, то все их движения выражали не только скорбь, но даже отчаяние, чувства которого они знаками передавали друг другу. Тут-то я увидел в первый раз, как искусно и проворно придворные по обстоятельствам могут переменять наружный вид свой. В сем смятении государь несколько раз обращался к народу и уговаривал всех идти по домам для их безопасности, но никто не думал исполнять сего, жаль только, что не из усердия к монарху, а из одного любопытства, ибо при сильных залпах у Сената все толпами бежали в улицы и, оставляя государя одного в опасности, возвращались к нему тогда лишь, когда пальба делалась меньше. Как не любить государю военных более, – думал я с огорчением, – когда без них некому защищать его в случаях чрезвычайных.
Между тем генералы, штаб– и обер-офицеры, приезжающие от Сената, беспрестанно докладывали императору, и грустный вид его ясно показывал, что нерадостные доходили до него вести. Из числа их один кавалерист сошел с лошади, снял шляпу и, подойдя к государю, довольно долго и тихо с ним разговаривал. По черной на голове повязке я узнал в сем офицере Якубовича, давно с самой дурной стороны по слуху мне известного. Государь выслушал его с великим вниманием и потом, взяв за руку, сказал сперва окружающим:
– Ошибиться может всякий, но он сознался в своем заблуждении, и я свидетельствуюсь всеми вами, что признаю его за человека благородного, – а после Якубовичу:
– Поздравляю вас!
Я стоял не более на сажень от государя, и потому мог хорошо слышать все слова его, когда он говорил, оборачиваясь на мою сторону. Поступок необыкновенно дерзкий удивил меня при сем случае: тогда как государь объявил прощение Якубовичу, стоявший подле меня мужик не мог удержать своего доброго восторга:
– Господи, какой он добрый, батюшка! какой милостивый! Да здравствует, да здравствует Нико...
И в сие мгновение сосед его, одетый в синем кафтане, черноволосый, сурового вида человек, зажал рот мужику и с сердцем насмешливо сказал ему:
– Погоди, брат, погоди! Еще рано кричать!.. что-то будет!
Мужик остолбенел и не знал, что делать; бунтовщик отвел его в сторону, тихо стал говорить с ним на ухо, и потом они оба скрылись. Ужас и негодование овладели мною. Государь показал, что ничего не приметил, тогда как все сие происходило перед его глазами; он продолжал свои распоряжения с видом печальным, но с твердостью необыкновенной. В короткое время он простил еще несколько офицеров; но как они подходили к нему с другой стороны, то я не мог слышать его с ними разговоров.
Уже был третий час за полдень; пальба усиливалась у Сената, и государь непременно требовал, чтобы все шли по домам и не подвергали себя бесполезной гибели, что он надеется и без них усмирить непокорных. Но любопытные трусы оставались на своих местах, а я, желая знать, что происходило внутри города, оставил площадь и, зайдя на минуту в свою квартиру (между Полицейским и Конюшенным мостом в доме Рекети), отправился потом в Итальянскую улицу к двоюродным сестрам моим.
Чем далее отходил я от Адмиралтейства, тем менее встречал народа; казалось, что все сбежались на площадь, оставив дома свои пустыми. Везде ворота были заперты, магазины закрыты, и только одни дворники изредка выглядывали из калиток и узнавали, что делается на улице. Тишина самая печальная и самая беспокойная царствовала повсюду.
Рассказав у сестер, что делается на площади, я тотчас после обеда ушел от них, беспокоясь о брате; но, узнав дома, что он также пошел к сестрам, я захотел еще раз побывать у Адмиралтейства. Это был уже 5-й час, и я только что успел в тесноте дойти до места, где Малая Морская пересекает Невский, как вдруг весь народ побежал от площади Адмиралтейской к Полицейскому мосту; пешие и конные давили друг друга, и гибель была неминуема для того, кто хоть раз не мог удержаться на ногах; пушечные выстрелы увеличивали смятение. Перед глазами моими видя погибающих под лошадьми или экипажами, я каждую минуту находился в величайшей опасности; но господь сохранил меня: влекомый толпой по тротуару Невского, я вырвался из давки в Миллионную улицу, прошел чрез двор известного дома Котомина на Мойку и, перебежав оную по льду, благополучно пришел домой, где ожидал меня брат мой с большим беспокойством. Я не менее рад был его видеть и, рассказав ему все, чему я был свидетелем на площади, куда он как-то не попал, отправился с ним вместе на Невский, где было очень тихо и очень пусто. С Невского мы пришли к Отсолигу, где пили чай, и в разговорах вечер пролетел неприметно.
Тут я узнал, что происшествие у Сената было следствием возмущения в некоторых гвардейских полках: солдаты, обманутые бунтовщиками-офицерами, не хотели присягать новому государю, думая, что Николай Павлович есть похититель престола и что Константин от оного отказался не произвольно; иные из них даже были уверены, что Константин Павлович посажен под стражу. Таким образом, предполагая защищать государя законного, они едва не сделались виновниками бедствия не только столицы, но и всей России. Некто из офицеров, Панов, уже с партией бунтовщиков вошел в Зимний дворец, искал императорской фамилии, и, может быть, бог знает что бы случилось тут, если бы не удачные распоряжения генерала Башуцкого. Он, встретясь с ними в коридоре и узнавши их намерение пробраться в комнаты государя, сказал, что они совсем не туда идут, и, указав на одну маленькую лестницу как на кратчайший путь к их цели, сделал, что они по оной вышли на двор. Между тем у комнат императора верный караул так был увеличен, что бунтовщики уже не могли пройти в оные.
Тут же я слышал, как первоклассные сановники, один светский, а другой духовный, совершенно противуположно отличились на Сенатской площади. Первый – С.-Петербургский военный генерал-губернатор граф Милорадович, в 50 сражениях доказавший свою храбрость, с обыкновенною своею неустрашимостью подъехал к непокорным и стал их уговаривать. Его стращали смертью, он смеялся над угрозами и, наконец, когда начал склонять солдат на свою сторону, был поражен смертельной раной из пистолета (Каховский был его убийцей). Другой – митрополит Серафим, в полном облачении и с крестом в руках подошедший по высочайшему повелению словами веры смирить мятежников, бежал от них, как трус малодушный, при первой насмешке, может быть, такого же храбреца из их партии. Смех сопровождал высокопреосвященного, который, выбившись из сил, на самом скверном извозчике спасал остаток дряхлой и, конечно, непрекрасной своей жизни.
В 12-м часу ночи мы возвратились домой, конвои один за другим беспрестанно нас встречали на улицах, и, хотя везде было видно, что правительство успело принять меры самые действительные для безопасности города, но, верно, никто в эту ночь не ложился в С.-Петербурге спать совершенно покойно.
Чрез несколько дней после сего я имел приятнейшее удовольствие слушать рассуждение о сем происшествии незабвенного Николая Михайловича Карамзина. Он находил в нем особенное милосердие вседержителя, который, как бы желая удивить нас своею благостию, чудесным образом открыл пред нашим отечеством бездну ужаса для того, чтоб чудесно спасти его от гибели.
Провидение, – говорил он, – омрачило умы людей буйных, и они в порыве своего безумия решились на предприятие столь же пагубное, сколько и несбыточное: отдать государство власти неизвестной, злодейски свергнув законную. Бунт вспыхнул мгновенно; обманутые солдаты и чернь ревностно покорились мятежникам, предполагая, что они вооружаются против государя незаконного и что новый император есть похититель престола старшего своего брата Константина. В сие-то ужасное время общего смятения, когда смелые действия злодеев могли бы иметь успех самый блистательный, милосердный погрузил предприимчивых извергов в какое-то странное недоумение и неизъяснимую нерешительность: они, сделав каре у Сената, несколько часов находились в бездействии, а правительство между тем успело взять все нужные противу них меры. Ужасно вообразить, что бы они могли сделать в сии часы роковые, но Бог защитил нас, и Россия в сей день спасена от такого бедствия, которое если не разрушило, то конечно бы истерзало ее.
Всего по «делу декабристов» были арестованы и допрошены 579 человек, из которых 121 посадили в крепость или отправили на каторгу. Пятерых руководителей восстания – П. И. Пестеля, П. Г. Каховского, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина и К. Ф. Рылеева – приговорили к смертной казни через повешение. О допросах, «поруганиях» и казни поведал в своих воспоминаниях И. Д. Якушкин, сосланный на каторгу в Сибирь.
В начале июля меня повели в дом коменданта. Я уже знал через Мысловского, что нас позовут в Верховный уголовный суд для свидетельства всех наших показаний. Меня привели в небольшую комнату, где за столом на председательском месте сидел бывший министр внутренних дел князь Ал. Бор. Куракин; направо и налево от него сидело еще человек 6 членов суда. Бенкендорф присутствовал как депутат от Комитета.
Сенатор Баранов очень вежливо предложил пересмотреть лежащие перед ним бумаги и спросил, мои ли это показания. Прочесть все эти бумаги было невозможно в короткое время, да и к тому ж я очень понимал, что меня не затем призвали, потому что 121 подсудимый должны были в одни или не более как двое суток проверить все свои показания и бумаги. Я перелистал кое-как бумаги, которых Баранов даже не выпускал во все время из рук, и видел на иных листах свой почерк, на других почерк, мне совершенно незнакомый. Баранов предложил мне что-то подписать, и я подписал его листок, не читая. В этом случае Верховный уголовный суд хотел сохранить ежели не самую форму, требуемую в судебных местах, то, по крайней мере, хоть тень этой формы.
12 июля, часу в 1-м, меня опять повели в дом коменданта, и на этот раз я очень был удивлен, когда Трусов, приведя меня в одну проходную комнату, исчез и я очутился с глазу на глаз с Никитой и Матвеем Муравьевыми и Волконским. Тут было еще два лица, мне незнакомые: одно – в адъютантском мундире, это был Александр Бестужев (Марлинский); другое – в самом смешном наряде, какие только можно себе представить, это был Вильгельм Кюхельбекер (издатель «Мнемозины»). Он был в той же одежде, в которой его взяли при входе в Варшаву, – в изорванном тулупе и теплых сапогах.
Свидание с Муравьевыми и в особенности разговор с Никитой были для меня истинным наслаждением. Матвей был мрачен; он предчувствовал, что ожидало его брата. Кроме Матвея, никто не был мрачен. О себе я не могу судить, похудел ли я во время 6-месячного заключения, но я был истинно поражен худобой не только присутствующих товарищей, но и всех подсудимых, которых проводили через нашу комнату. Вскоре явился Мысловский, отозвал меня в сторону и сказал: «Вы услышите о смертном приговоре, не верьте, чтобы совершилась казнь».
Некоторое время мы оставались вшестером в нашей комнате; потом Трусов провел нас через ряд пустых комнат, и мы пришли в Верховный уголовный суд.
Митрополиты, архиереи, члены Государственного совета и генералы сидели за красным столом; за ними стоял Сенат. Все были обращены лицом к подсудимым. Нас 6-х выстроили гуськом. Министр юстиции князь Лобанов очень хлопотал, чтобы все происходило надлежащим образом.
Перед столом стоял пюпитр на одной ножке; на нем лежали бумаги.
Обер-секретарь, пресмешной наружности, первоначально сделал нам перекличку, и когда Кюхельбекер нескоро откликнулся на свое имя, то Лобанов закричал повелительным голосом: «Да отвечайте же, да отвечайте же!» Потом началось чтение приговора. Когда прочли мое имя в числе приговоренных к смертной казни, мне показалось это только смешным фарсом, и в самом деле нам всем 6-м смертная казнь была заменена ссылкою в каторжные работы на 20 лет. После этого меня отвели опять в 1-й номер равелина. Священник обещался зайти ко мне и не зашел. Едва успели меня раздеть, как явился крепостной доктор с вопросом о моем здоровье. Я сказал, что у меня немного зуб болит; он удивился и ушел. Его послали ко всем бывшим в суде, чтобы подать помощь тем, которые занемогли, выслушав приговор.
Ужин подали немного ранее обыкновенного, и я тотчас же крепко заснул. В полночь меня разбудили, принесли платье, одели меня и вывели на мост, который идет от равелина к крепости. Здесь я встретил опять Никиту Муравьева и еще нескольких знакомых. Всех нас повели в крепость; изо всех концов, изо всех казематов вели приговоренных. Когда все собрались, нас повели под конвоем отряда Петропавловского полка через крепость в Петровские ворота. Вышедши из крепости, мы увидели влево что-то странное и в эту минуту никому не показавшееся похожим на виселицу. Это был помост, над которым возвышались два столба; на столбах лежала перекладина, а на ней висели веревки. Я помню, что когда мы проходили, то за одну из этих веревок схватился и повис какой-то человек; но слова Мысловского уверили меня, что смертной казни не будет. Большая часть из нас была в той же уверенности.
На кронверке стояло несколько десятков лиц, большей частью это были лица, принадлежавшие к иностранным посольствам; они были, говорят, удивлены, что люди, которые через полчаса будут лишены всего, чем обыкновенно так дорожат в жизни, шли без малейшего раздумья, с торжеством и весело говоря между собою. Перед воротами всех нас (кроме носивших гвардейские и флотские мундиры) выстроили покоем спиной к крепости, прочли общую сентенцию; военным велели снять мундиры и поставили нас на колени. Я стоял на правом фланге, и с меня началась экзекуция. Шпага, которую должны были переломить надо мной, была плохо подпилена; фурлейт (обозный солдат. – Ред.) ударил меня ею со всего маху по голове, но она не переломилась; я упал. «Ежели ты повторишь еще раз такой удар, – сказал я фурлейту, – так ты убьешь меня до смерти». В эту минуту я взглянул на Кутузова, который был на лошади в нескольких шагах от меня, и видел, что он смеялся.
Все военные мундиры и ордена были отнесены шагов на 100 вперед и были брошены в разведенные для этого костры.
Экзекуция кончилась так рано, что ее никто не видал; вообще перед крепостью не было народа. После экзекуции нас отвели опять в крепость и меня опять в 1-й номер равелина. Ефрейтор, который принес мне обедать, был необыкновенно бледен и шепнул мне, что за крепостью совершился ужас, что 5-х из наших повесили. Я улыбнулся, нисколько ему не веря, но ожидал Мысловского с нетерпением. Наконец вечером он взошел ко мне с сосудом в руках. Я бросился к нему и спросил, правда ли, что была смертная казнь. Он хотел было отвечать мне шуткою, но я сказал, что теперь не время шутить. Тогда он сел на стул, судорожно сжал сосуд зубами и зарыдал. Он рассказал мне все печальное происшествие.
После приговора Пестель, Сергей Муравьев, Рылеев, Михайло Бестужев и Каховский были отведены в особые казематы. Сестра Сергея Муравьева (Кат. Ив. ) Бибикова, узнавши, что брат ее приговорен к смертной казни, поскакала в Царское Село и просила через Дибича о дозволении иметь свидание с братом. Ей позволено увидеться с ним на один час. Свидание их происходило в доме коменданта Сукина и в его присутствии. Сергей Муравьев был очень покоен и просил сестру не оставлять попечениями их брата Матвея. Разлука их навсегда, по словам самого Сукина, была ужасна.
Когда Сергей Муравьев возвратился в каземат, к нему вошел с печальным видом плац-майор Подушкин. Сергей Муравьев предупредил его: «Вы, конечно, пришли надеть на меня оковы». Подушкин позвал людей; на ноги ему надели железа. То же было сделано и с 4-мя товарищами С. Муравьева. Все смотрели совершенно покойно на приготовления казни, кроме Михайлы Бестужева: он был очень молод, и ему не хотелось умирать.
Ночью пришел к ним священник Мысловский с дарами. Кроме Пестеля, который был лютеранин, все они причастились. Когда после экзекуции нас ввели в казематы, их вывели перед собор. Был 2-й час ночи. Бестужев насилу мог идти, и священник Мысловский вел его под руку. Сергей Муравьев, увидя его, просил у него прощения в том, что погубил его.
Когда их привели к виселице, Сергей Муравьев просил позволенья помолиться; он стал на колени и громко произнес: «Боже, спаси Россию и царя». Для многих такая молитва казалась непонятной, но Сергей Муравьев был с глубокими христианскими убеждениями и молил за царя, как молил Иисус на кресте за врагов своих. Потом священник подошел к каждому из них с крестом.
Пестель сказал ему: «Я хоть не православный, но прошу вас благословить меня в дальний путь». Прощаясь в последний раз, они все пожали друг другу руки. На них надели белые рубашки, колпаки на лицо и завязали им руки. Сергей Муравьев и Пестель нашли и после этого возможность еще раз пожать друг другу руку. Наконец, их поставили на помост и каждому накинули петлю. В это время священник, сошедши по ступеням с помоста, обернулся и с ужасом увидел висевших Бестужева и Пестеля и троих, которые оборвались и упали на помост. Сергей Муравьев жестоко разбился; он переломил ногу и мог только выговорить: «Бедная Россия! И повесить-то порядочно у нас не умеют!» Каховский выругался по-русски, Рылеев не сказал ни слова. Неудача казни произошла оттого, что за полчаса перед тем шел небольшой дождь, веревки намокли, палач не притянул довольно петлю, и они, когда он опустил доску, на которой стояли осужденные, соскользнули с их шей. Генерал Чернышев, бывший распорядителем казни, не потерял голову; он велел тотчас же поднять трех упавших и вновь их повесить. Казненные оставались недолго на виселице; их сняли и отнесли в какой-то погреб, куда едва пропустили Мысловского; он непременно хотел прочесть над ними молитвы.
Еще несколько слов о Мысловском. 15 июля на Петровской площади был назначен парад и очистительное молебствие, которое должен был отслужить митрополит со всем духовенством. Протоиерей Мысловский отпустил образ Казанской Божьей Матери на молебствие с другим священником, а сам в то же время надел черную ризу и отслужил в Казанском соборе панихиду по пяти усопшим. Бибикова зашла помолиться в Казанский собор и удивилась, увидав Мысловского в черном облачении и услышав имена Сергея, Павла, Михаила, Кондратия...
Идеи декабристов, как ни удивительно, оказались востребованными – новый император приказал сделать выборку из показаний арестованных, внимательно ее изучил и признал справедливым многое из того, о чем говорили декабристы. Более того, Николай соглашался с необходимостью реформ и отмены крепостного права, однако считал сколько-нибудь решительные перемены преждевременными. (Его вполне устраивало предсказание некогда всесильного, а ныне опального графа А. А. Аракчеева, что крепостное право можно будет отменить через двести лет.)
Нововведения Николая – реформа государственной деревни или финансовая реформа – реализовывались лишь в тех сферах общественной жизни, где сохранение прежних порядков и устоев было невозможно; если же имелась хотя бы малейшая возможность ничего не менять, ею охотно пользовались.
Зато Петербург, а затем и вся страна сполна ощутили перемены в идеологической сфере. В 1826 году императорская канцелярия получила два новых отделения: Второе, которым руководил М. М. Сперанский, занималось составлением свода действующих законов, а Третье, которое возглавил А. Х. Бенкендорф, осуществляло политический сыск, и ему был придан Отдельный корпус жандармов. В том же году был опубликован цензурный устав, который запрещал издание сочинений, подвергающих сомнению устои религии и общества. Впрочем, «опасных разговоров», как указывалось в полицейских отчетах, избежать не удавалось, и «крамола вольнодумства» распространялась все сильнее. Показательной в этом отношении можно считать постановку пьесы А. С. Грибоедова «Горе от ума» в 1831 году. «Пламенное желание просвещенной публики и всех друзей русской словесности исполнилось! Комедия «Горе от ума» будет играна вполне...» – восклицала «Северная пчела». От комедии, правда, «осталось одно только горе: столь искажена она роковым ножом бенкендорфской литературной управы» – такое мнение просвещенной публики записал один из цензоров постановки.
Развлечения в обществе, 1828 год
Александр Никитенко
При всем несомненном общественном значении выступления декабристов, они, как справедливо писал В. И. Ленин, были «страшно далеки от народа». Причем не только от крестьян и рабочих, но и от среднего сословия, которое, ужаснувшись событиям 14 декабря, достаточно быстро вернулось к прежнему образу жизни, о чем свидетельствуют воспоминания журналиста А. В. Никитенко.
Был на репетиции в Музыкальной академии. На меня произвела сильное впечатление «Фантазия» Бетховена, превосходно разыгранная оркестром. В ней невинность поет про свою жизнь, исполненную высокой простоты и тихого, чистого счастья: эти сладостные звуки точно вызывают перед тобой дни золотого века. Какая нежность в этом соло флажиолета под аккомпанемент фортепиано или в сем адажио скрипок! Сколько милого и трогательного в хоре дискантов, который довершает очарование, сливаясь с звуками мастерски управляемого оркестра.
Я уехал домой, не слушая других пьес: мне хотелось в целости унести впечатление, полученное от божественной «Фантазии».
Март 4. Опять на репетиции в так называемой нарышкинской музыкальной академии, которая учредилась почти в одно время с львовскою. Последнюю составляют отличнейшие по талантам аматеры столицы, без разбора их положения в свете. Первая состоит из блестящей знати или так называемого «бонжанра». В ней принимают также участие артисты, тогда как в львовскую академию они не допускаются даже в качестве слушателей во время концертов. Естественно, эти два музыкальных учреждения соперничают между собой. Львовская академия берет перевес талантами своих членов, особенно самих господ Львовых. Немало блеска сообщают ей также придворные певчие, которыми управляет старик Ф. П. Львов.
Академия нарышкинская называется так потому, что дает свои концерты в великолепной зале обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина. Ее отличительные черты: знатность членов, блестящее освещение, многочисленный оркестр и роскошное угощение, которое совсем отсутствует в первой академии.
Но и в нарышкинской есть несколько хороших певцов, например господин Пашков, отличный тенорист, девицы Медянские и т. д.
Мы отправились на репетицию с камер-юнкером Штеричем, заехав первоначально к портному, которому я заказал себе сделать новое платье к празднику, ибо по обстоятельствам я должен теперь щеголять в кургузом фраке, цветном жилете и белом галстуке с циммермановскою шляпою в руках.
Зала академии поразила меня размерами и великолепием: везде мрамор и позолота. Оркестр уже гремел, когда мы вошли: играли какую-то увертюру. Впереди других музыкантов стоял небольшой толстячок: он весь трясся, подпрыгивал, размахивал руками и по временам пронзительно вскрикивал: «пиано». Это известный К. А. Кавос, дирижирующий в здешней академии оркестром.
Вышли две сестры Медянские, прекрасные как ангелы, и ангельскими голосами запели арию, которая, как тогда «Фантазия» Бетховена, унесла меня в светлый, идеальный мир. Голоса у этих прелестных созданий чистые, нежные, проникающие прямо в душу. Слушая их, я понял, как Улисс мог забыть все, забыть самого себя, упоенный звуками песен сирены.
Насладившись пением, мы со Штеричем пошли осматривать комнаты Нарышкина. Какое богатство, какая роскошь и сколько во всем вкуса и изящества! Зеркала, вазы, картины, бронза, бархат и штоф расположены самыми живописными группами и узорами. По маленькой, обитой роскошными коврами, лестнице мы сошли в баню: в ней пристало купаться грациям. У стены обитый штофом диван, или, вернее, широкое ложе, вдоль стен зеркала.
На обратном пути в залу музыки мы встретили самого хозяина, который очень вежливо нам ответил на наш поклон. Его седая голова на фоне богатых занавесей с розовыми фигурами – вся эта блистательная пышность и вид старости, которая уже, очевидно, у порога могилы, внезапно омрачили для меня всю картину: мне невольно пришла в голову мысль, что все это не больше как пыль, и, может быть, в самом близком будущем...
Между тем в зале пели итальянскую арию: ее исполнял неаполитанский посланник, граф Лудольф. И голос, и фигура почтенного лысого графа вызвали во мне далеко не поэтическое представление о козле.
Затем было исполнено оркестром и спето разными лицами и хором еще несколько пьес, и все кончилось в пять часов.
Сегодня состоялся у Нарышкина самый концерт, на репетиции которого я на днях присутствовал. Я приехал ровно в шесть часов. Несколько дам уже расхаживали по богато убранным комнатам. В первой из них стояли, выстроясь в два ряда, лакеи и арапы в блестящих ливреях. Мало-помалу комнаты наполнялись знатью Петербурга. Здесь были графы, князья, первые чины двора и правительственные лица с супругами и дочерьми. Они рассыпались по комнатам и жужжали, как рои пчел. Надо было осторожно двигаться в толпе, чтобы не толкнуть какую-нибудь статс-даму или красавицу. Последних было немало – по крайней мере многие казались такими под блеском огней и своих роскошных нарядов. И надо отдать справедливость светским дамам высшего круга: их внешнее воспитание так утонченно, что весьма успешно скрывает недостаток в них внутреннего содержания. Если они, в сущности, не больше, чем куклы, то все же прелестные куклы, которые весьма ловко и непринужденно движутся и говорят по твердо заученным правилам искусства. Наряды их вообще пристойны и красивы, за исключением чепцов замужних женщин, которые имеют вид мешка, горизонтально растянутого поверх головы.
Я, между прочим, видел здесь одну из первых красавиц столицы, графиню Н. Л. Соллогуб: она поистине очаровательна.
Часа полтора уже ходил я по комнатам, любуясь и наблюдая, а зала концерта все еще не отворялась. Наконец двери ее распахнулись: из них хлынули целые потоки света. Концерт довольно долго продолжался. Я был опять до глубины души тронут пением девиц Медянских. Ребенок лет тринадцати, Мартынов, превосходно играл на фортепиано и возбудил всеобщее удивление.
Быт, Александринский театр и холера, 1831–1832 годы
Виссарион Белинский, Матильда Кшесинская, Александр Никитенко
Так или иначе, жизнь в столице налаживалась, а сам город постепенно приобретал тот лоск, за который и удостоился позднее эпитета «блистательный».
Одним из таких «блистательных» явлений стали маскарады у В. В. Энгельгардта, который начал сдавать свой большой дом на Невском проспекте (Невский, 30) под общественные и увеселительные мероприятия. Первый маскарад прошел в 1830 году, один из журналистов, хотя и в рекламных целях, писал о них в «Северной пчеле»: «Вот храм вкуса, храм великолепия, открыт для публики! Все, что выдумала роскошь, что приобрела утонченность общежития, соединено здесь. Тысячи свеч горят в богатых бронзовых люстрах и отражаются в зеркалах, в мраморах и паркетах. Отличная музыка гремит в обширных залах...» Заплатив за билет, в маскарад мог прийти любой желающий, поэтому на нем присутствовали как представители высшего света, так и достаточно широкой части городских слоев, что также вносило в стиль общения определенную долю вольности, при этом, скрываясь под маской и костюмом, обязательными атрибутами маскарада, его участники могли совершать поступки, никак не соответствующие светскому кодексу поведения. Маскарады у Энгельгардта запечатлены в драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад».
О городском петербургском быте, сопоставляя последний с московским, поведал литературный критик и общественный деятель В. Г. Белинский.
Широкие улицы Петербурга почти всегда оживлены народом, который куда-то спешит, куда-то торопится. На них до двенадцати часов ночи довольно людно, и до утра везде попадаются то там, то сям запоздалые. Кондитерские полны народом: немцы, французы и другие иностранцы, туземные и заезжие, пьют, едят и читают газеты; русские больше пьют и едят, а некоторые пробегают «Пчелу», «Инвалид» и иногда пристально читают толстые журналы, переплетенные для удобства в особенные книжки, по отделам: это охотники до литературы; охотников до политики у нас вообще мало. Рестораны всегда полны; кухмистерские заведения тоже. Тут то же самое: пьют, едят, читают, курят, играют на бильярде, и все большей частью молча. Если и говорят, то тихо, и то сосед с соседом; зато часто случается слышать прегромкие голоса, которые нимало не женируются говорить о предметах, нисколько для посторонних не интересных, например, о том, как Иван Семенович вчера остался без двух, играя семь в червях, или о том, что Петр Николаевич получил место, а Василий Степанович произведен в следующий чин, и тому подобных литературных и политических новостях. Дома в Петербурге, как известно, огромные. Петербуржец о погребе не заботится: если не женат, он обедает в трактире; женатый, он все берет из лавочки. Дом, где нанимает он квартиру, сущий Ноев ковчег, в котором можно найти по паре всяких животных. Редко случается узнать петербуржцу, кто живет возле него, потому что и сверху, и снизу, и с боков его живут люди, которые так же, как и он, заняты своим делом и так же не имеют времени узнавать о нем, как и он о них. Главное удобство в квартире, за которым гонится петербуржец, состоит в том, чтобы ко всему быть поближе – и к месту своей службы, и к месту, где все можно достать и лучше, и дешевле. Последнего удобства он часто достигает в своем Ноевом ковчеге, где есть и погребок, и кондитерская, и кухмистер, и магазины, и портные, и сапожники, и все на свете. Идея города больше всего заключается в сплошной сосредоточенности всех удобств в наиболее сжатом круге: в этом отношении Петербург несравненно больше город, чем Москва, и, может быть, один город во всей России, где все разбросано, разъединено, запечатлено семейственностью. Если в Петербурге нет публичности в истинном значении этого слова, зато уж нет и домашнего или семейственного затворничества: Петербург любит улицу, гулянье, театр, кофейню, вокзал, словом, любит все общественные заведения. Этого пока еще немного, но зато из этого может многое выйти впереди. Петербург не может жить без газет, без афиш и разного рода объявлений; Петербург давно уже привык, как к необходимости, к «Полицейской газете», к городской почте. Едва проснувшись, петербуржец хочет тотчас же знать, что дается сегодня на театрах, нет ли концерта, скачки, гулянья с музыкой; словом, хочет знать все, что составляет сферу его удовольствий и рассеяний, – а для этого ему стоит только протянуть руку к столу, если он получает все эти известительные издания, или забежать в первую попавшуюся кондитерскую. В Москве многие подписчики на «Московские ведомости», выходящие три раза в неделю (по вторникам, четверткам и субботам), посылают за ними только по субботам и получают вдруг три нумера. Оно и удобно: под праздник есть свободное время заняться новостями всего мира... Кроме того, по неимению городской почты и рассыльных, надо посылать своего человека в контору университетской типографии, а это не для всякого удобно и не для всех даже возможно. Для петербуржца заглянуть каждый день в «Пчелу» или «Инвалид» – такая же необходимость, такой же обычай, как напиться поутру чаю... В противоположность Москве, огромные дома в Петербурге днем не затворяются и доступны и через ворота, и через двери; ночью у ворот всегда можно найти дворника или вызвать его звонком, следовательно, всегда можно попасть в дом, в который вам непременно нужно попасть. У дверей каждой квартиры видна ручка звонка, а на многих дверях не только номер, но и медная или железная дощечка с именем занимающего квартиру. Хотя в Москве улицы не длинны, каждая носит особенное название и почти в каждой есть церковь, а иногда еще и не одна, почему легко бы, казалось, отыскать кого нужно, если знаешь адрес; однако ж отыскивать там – истинное мучение, если в доме есть не один жилец. Обыкновенно, входите вы там на довольно большой двор, на котором, кроме собаки или собак, ни одного живого существа; спросить некого, надо стучаться в двери с вопросом: не здесь ли живет такой-то, потому что в Москве дворники редки, а звонки еще и того реже. Нет никакой возможности ходить по московским улицам, которые узки, кривы и наполнены проезжающими. Надо быть москвичом, чтобы уметь смело ходить по ним, так же, как надо быть парижанином, чтобы, ходя по Парижу, не пачкаться на его грязных улицах. Впрочем, сами москвичи ходить не любят; оттого извозчикам в Москве много работы. Извозчики там дешевы, но на плохих дрожках и прескверных санях; дрожки везде скверны, по самому их устройству; это просто орудие пытки для допроса обвиненных; но саней плохих в Петербурге не бывает: здесь самые скверные санишки сделаны на манер будто бы хороших и покрыты полостью, из теленка, но похожего на медведя, а полость покрыта чем-то вроде сукна. В Петербурге никто не сел бы на сани без медведя!.. Впрочем, в Петербурге мало ездят; больше ходят: оно и здорово, ибо движение есть лучшее и притом самое дешевое средство против геморроя, да притом же в Петербурге удобно ходить: гор и косогоров нет, все ровно и гладко, тротуары из плитняка, а инде и из гранита, широкие, ровные и во всякое время года чистые, как полы.
Театральная жизнь, несмотря на цензуру, тоже кипела: в частности, в 1831 году состоялась уже упоминавшаяся премьера комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», а год спустя в столице открылся Александринский театр. В. Г. Белинский вспоминал:
Есть русская пословица: что город, то норов, что село, то обычай. В самом деле, во всяком городе есть что-нибудь особенное, собственно ему одному принадлежащее, короче: во всяком городе есть свой «норов». Петербургу ли быть без норова? Много родовых особенностей в физиологической жизни Петербурга; но Александринский театр едва ли не есть одна из самых характеристических примет ее, едва ли это не главнейший «норов» нашей огромной и прекрасной столицы. Описывать Петербург физиологически – и не сказать ни слова или не обратить особенного внимания на Александринский театр, – это все равно что, рисуя чей-нибудь портрет, забыть нарисовать нос или только слегка сделать некоторое подобие носа. Кто хочет видеть Петербург только с его внешней стороны, как великолепный и прекрасный город, столицу России и один из важнейших в мире портовых городов, тому, разумеется, достаточно только взглянуть на Александринский театр, который, с его прелестным сквером впереди, садом и арсеналом Аничкина дворца с одной стороны, и императорской Публичной библиотекой – с другой, составляет одно из замечательнейших украшений Невского проспекта. Но кто хочет узнать внутренний Петербург, не одни его дома, но и тех, кто живут в них, познакомиться с его бытом, тот непременно должен долго и постоянно посещать Александринский театр преимущественно перед всеми другими театрами Петербурга. Тогда-то привыкшему и опытному взгляду откроется вся тайна особенности петербургской жизни. Один древний мудрец имел обыкновение говорить встречному и поперечному: «Скажи мне, с кем ты дружен, – и я скажу тебе, каков ты сам». Не имея чести принадлежать не только к древним, но и к новейшим мудрецам, мы тем не менее имеем привычку одним говорить: «Если хотите узнать Петербург, как можно чаще ходите в Александринский театр», а другим: «Скажите нам, часто ли вы ходите в Александринский театр, – и мы скажем вам, что вы за человек». У всякого свой взгляд на вещи – у нас тоже свой! При рассматривании какого бы то ни было театра представляются две стороны, из которых составляется, так сказать, существование театра: это – его актеры и его публика, ибо театр невозможен ни с актерами без публики, ни с публикой без актеров. Эти две стороны так тесно связаны между собою, что по актерам всегда можно безошибочно судить о публике, а по публике – об актерах. Важную также сторону жизни театра составляет и его репертуар, говоря о котором нельзя не коснуться современных драматических писателей. Во всех этих трех отношениях Александринский театр удивительно самостоятелен: у него так же точно своя публика и свои драматурги, как и свои актеры. И во всех этих трех отношениях Александринский театр вполне оправдывает собою многозначительную русскую поговорку: «По Сеньке шапка»...
Не такова публика Александринского театра. Это публика в настоящем, в истинном значении слова: в ней нет разнородных сословий – она вся составлена из служащего народа известного разряда; в ней нет разнородных направлений, требований и вкусов: она требует одного, удовлетворяется одним; она никогда не противоречит самой себе, всегда верна самой себе. Она индивидуум, лицо; она – не множество людей, но один человек, прилично одетый, солидный, ни слишком требовательный, ни слишком уступчивый, человек, который боится всякой крайности, постоянно держится в благоразумной середине, наконец, человек весьма почтенной и благонамеренной наружности. Она то же именно, что самые почтенные сословия во Франции и Германии: bourgeoisie (буржуа) и филистеры. Публика Александринского театра в зале этого театра – совершенно у себя дома; ей там так привольно и свободно; она не любит видеть между собою «чужих», и между нею почти никогда не бывает чужих. Люди высокого круга заходят иногда в Александринский театр только по поводу пьес Гоголя, весьма нелюбимых и заслуженно презираемых тонким, изящным, исполненным хорошего светского тона вкусом присяжной публики Александринского театра, не любящей сальностей и плоскостей. Люди, не принадлежащие к большому свету, к чему бы то ни было, не симпатизирующие с публикой Александринского театра и чувствующие себя среди ее «чужими», ходят в Михайловский театр, и если не могут туда ходить по незнанию французского языка, то уже никуда не ходят... Это самое счастливое обстоятельство для публики Александринского театра: оно не допускает ее быть пестрой и разнообразной, но дает ей один общий цвет, один резко определенный характер. Зато, если в Александринском театре хлопают, то уже все; если недовольны, то опять все. Ни драматический писатель, ни актер, если они люди сметливые, не рискуют попасться впросак; один пишет, другой играет всегда наверняка, зная, чем угодить своей публике. Признательность к заслуге – это свойство благородных душ – составляет одну из отличнейших черт в характере александринской публики: она любит своих артистов и не скупится ни на вызовы, ни на рукоплескания. Она встречает громом рукоплесканий всех своих любимцев, от Каратыгина до Григорьева 1-го включительно. Но тут она действует не опрометчиво, не без тонкого расчета и умеет соразмерять свои награды соответственно с заслугами каждого артиста, как следует публике образованной и благовоспитанной. Так, например, больше пятнадцати раз в один вечер она не станет вызывать никого, кроме Каратыгина; некоторых же артистов она вызывает за одну роль никак не больше одного раза; но среднее пропорциональное число ее вызовов постоянно держится между пятью и пятнадцатью; по тридцати же раз она очень редко вызывает даже самого Каратыгина. Аплодирует же она беспрестанно; но это не от нерасчетливости, а уж от слишком очевидного достоинства всех пьес, которые для нее даются, и всех артистов, которые трудятся для ее удовольствия. Но если, что очень редко, артист не сумеет сразу приобрести ее благосклонности – не слыхать ему ее рукоплесканий. <...>
В заключение нашей статьи повторим, что в Петербурге есть театральная публика, а в Москве ее пока еще нет. Это важное преимущество со стороны Петербурга, потому что вкус его публики может и даже необходимо должен со временем измениться, и, когда настанет этот благодетельный перелом, петербургский театр будет иметь публику не только образованную, но и единственную публику, которая будет как бы одно лицо, один человек. Но что касается до пишущего эти строки – в ожидании этого вожделенного времени он желал бы ходить в московский Петровский театр, где больше артистов, нежели гениев, где актеры богаче чувством, нежели искусством, – отчего и играют тем с большим искусством и успехом, – где актеры с особенной любовью участвуют в пьесах Гоголя и где публика требует от пьес больше творчества и смысла, а от актеров больше одушевления и искусства, нежели «высшего тона»; где каждый судит по-своему, а все, никогда не соглашаясь друг с другом об одном и том же предмете, несмотря на то, очень часто равно бывают близки к истине. <...>
За три года до открытия театра появилась Дирекция императорских театров и открылось Театральное училище. Одна из выпускниц этого училища, знаменитая балерина М. Ф. Кшесинская, позднее вспоминала:
За Императорским Александринским театром, со стороны входа для артистов, шла широкая, короткая Театральная улица, ведшая к Чернышеву мосту. Этот ансамбль петербургского стиля империи, желто-белого цвета, был одним из красивейших в Петербурге. Театральная улица была целиком занята казенными зданиями. С правой стороны от Александринского театра было министерство, где помещалась театральная цензура, а вся левая сторона была занята великолепным зданием Императорского театрального училища с лепными барельефами на стенах.
Александринский театр со своими знаменитыми конями на крыше был повернут фасадом к Невскому проспекту. Театральная улица была всегда тиха, и только изредка из широких ворот здания училища выезжала закрытая карета, в которой вывозили будущих балерин на репетиции и на спектакли. Даже на самое маленькое расстояние и во все времена года воспитанницы училища выезжали в этих огромных, старомодных, наглухо закрытых каретах, которые, конечно, вызывали любопытство и желание разглядеть тех, кто прятался за окнами.
Оба театральных училища, петербургское и московское, были подчинены министерству Императорского двора и состояли в ведении Дирекции императорских театров.
Каждую осень в балетное училище принимались дети от девяти до одиннадцати лет, после медицинского осмотра и признания их годными к изучению хореографического искусства. Жюри было строгое, и лишь часть записавшихся на экзамен попадала в школу, в которой училось около шестидесяти-семидесяти девочек и сорока-пятидесяти мальчиков. Ученики и ученицы были на полном казенном иждивении и отпускались домой только на летние каникулы. Во время своего пребывания в школе они иногда выступали на сцене.
По окончании балетной школы в семнадцать-восемнадцать лет ученики и ученицы зачислялись в труппу императорских театров, где оставались на службе двадцать лет, после чего увольнялись на пенсию или оставались на службе по контрактам. В балетной школе преподавали не только танцы, но и общие предметы наравне с нормальными школами – было пять классов с семилетним курсом.
Хотя в Москве и в Петербурге были отдельные две труппы и два отдельных училища, но они входили в общий состав Министерства императорского двора, управлялись директором императорских театров и составляли как бы одно целое. Артисты петербургского и московского императорских театров выступали в обеих столицах.
По правилам все воспитанники и воспитанницы должны были жить в школе на казенном иждивении, но иногда разрешалось некоторым из них обучаться в школе, продолжая жить дома. Таким исключением были мы трое. Обычно стремились попасть в школу интернами, на полном казенном содержании, так как тогда не надо было ничего платить, но мои родители были против этого и не хотели отдавать нас в закрытое заведение, желая иметь нас дома возле себя и давать нам общее образование сами. Они не хотели, чтобы мы теряли связь с домом, считая семейную обстановку главным условием воспитания детей. Конечно, это требовало от нас дополнительной работы. Кроме уроков в училище еще каждый день уроки дома, но мы были счастливы, что живем в семье, видим родителей и не лишены общения с ними, как «пепиньерки» – воспитанницы училища. <...>
Императорское театральное училище помещалось в огромном казенном здании в Санкт-Петербурге на Театральной улице, которая шла от Александринского театра к Чернышеву мосту. Училище занимало два верхних этажа этого трехэтажного здания. Во втором этаже, или бельэтаже, помещались воспитанницы, а в третьем – воспитанники. В каждом были свои обширные репетиционные залы, классы и дортуары с высокими потолками и огромными окнами. Во втором этаже помещался маленький школьный театр, отлично оборудованный, с всего несколькими рядами кресел. Там происходили школьные выпускные спектакли, которые позже были перенесены в Михайловский театр.
Между тем в 1831 году Петербург постигло очередное испытание – эпидемия холеры, которая свирепствовала в столице все лето. А. В. Никитенко описал царившие в городе настроения.
Наконец холера со всеми своими ужасами явилась и в Петербурге. Повсюду берутся строгие меры предосторожности.
Город в тоске. Почти все сообщения прерваны. Люди выходят из домов только по крайней необходимости или по должности.
20 июня. Мы учреждаем для своих чиновников лазарет. Сего дня я целый день хлопотал с попечителем об этом. Ездил к Кайданову просить совета о докторе.
В столице мало докторов, и теперь их трудно достать.
В городе недовольны распоряжениями правительства; государь уехал из столицы. Члены Государственного совета тоже почти все разъехались. На генерал-губернатора мало надеются. Лазареты устроены так, что они составляют только переходное место из дома в могилу. В каждой части города назначены попечители, но плохо выбранные, из людей слабых, нерешительных и равнодушных к общественной пользе. Присмотр за больными нерадивый. Естественно, что бедные люди считают себя погибшими, лишь только заходит речь о помещении их в больницу. Между тем туда забирают без разбора больных холерою и не холерою, а иногда и просто пьяных из черни, кладут их вместе. Больные обыкновенными болезнями заражаются от холерных и умирают наравне с ними. Полиция наша, и всегда отличающаяся дерзостью и вымогательствами, вместо усердия и деятельности в эту плачевную эпоху только усугубила свои пороки. Нет никого, кто бы одушевил народ и возбудил в нем доверие к правительству. От этого в разных частях города уже начинаются волнения. Народ ропщет и по обыкновению верит разным нелепым слухам, как, например, будто доктора отравляют больных, будто вовсе нет холеры, но ее выдумали злонамеренные люди для своих целей, и т. п. Кричат против немцев лекарей и поляков, грозят всех их перебить. Правительство точно в усыплении: оно не принимает никаких мер к успокоению умов.
21 июня. На Сенной площади произошло смятение. Народ остановил карету, в которой везли больных в лазарет, разбил ее, а их освободил. Народ явно угрожает бунтом, кричит, что здесь не Москва, что он даст себя знать лучше, чем там, немцам-лекарям и полиции. Правительство и глухо, и слепо, и немо.
Мы с попечителем осматривали наши учебные заведения; благодаря судьбе в них еще не появилась холера. Мы деятельно озабочены скорейшим окончанием лазарета.
Был сегодня у ученого секретаря Медико-хирургической академии, Чаруковского, просить его о докторе и о двух студентах из академии для нашей больницы. Он отослал меня к главному доктору Реману. Здесь также наслышался о бездеятельности правительства. Больные отданы на жертву холеры. Все делается только для виду.
22 июня. В час ночи меня разбудили с известием, что на Сенной площади настоящий бунт. Одевшись наскоро, я уже не застал своего генерала: он вместе с Блудовым пошел на место смятения. Я прошел до Фонтанки. Там спокойно. Только повсюду маленькие кучки народу. Уныние и страх на всех лицах.
Генерал вернулся и сказал, что войска и артиллерия держат в осаде Сенную площадь, но что народ уже успел разнести один лазарет и убить нескольких лекарей.
23 июня. Три больницы разорены народом до основания. Возле моей квартиры чернь остановила сегодня карету с больными и разнесла ее в щепы.
– Что вы там делаете? – спросил я у одного мужика, который с торжеством возвращался с поля битвы.
– Ничего, – отвечал он, – народ немного пошумел. Да не попался нам в руки лекарь, успел, проклятый, убежать.
– А что же бы вы с ним сделали?
– Узнал бы он нас! Не бери в лазарет здоровых вместо больных! Впрочем, ему таки досталось камнями по затылку, будет долго помнить нас.
Завтра Иванов день; его-то чернь назначила, как говорят, для решительного дела.
Полиция, рассказывают, схватила несколько поляков, которые подстрекали народ к бунту. Они были переодеты в мужицкое платье и давали народу деньги.
Государь приехал. Он явился народу на Сенной площади. Нельзя добиться толку от вестовщиков: одни пересказывают слова государя так, другие иначе.
Известно только, что взяты меры к водворению спокойствия.
Вот и возле нас холера сразила несколько жертв. Профессор физики Н. П. Щеглов, прострадав около шести часов, умер. Кастелянша в пансионе сегодня занемогла и через пять часов тоже умерла. Умер и профессор истории Т. О. Рогов.
Поутру в семь часов. Тяжел был вчерашний день. Жертвы падали вокруг меня, пораженные невидимым, но ужасным врагом. Попечитель до того растревожился, что сделался болен: а теперь болезнь и смерть синонимы. По крайней мере так думают все. В сердце моем начинает поселяться какое-то равнодушие к жизни. Из нескольких сот тысяч живущих теперь в Петербурге всякий стоит на краю гроба – сотни летят стремглав в бездну, которая зияет, так сказать, под ногами каждого.
28 июня. Болезнь свирепствует с адскою силой. Стоит выйти на улицу, чтобы встретить десятки гробов на пути к кладбищу. Народ от бунта перешел к безмолвному глубокому унынию. Кажется, настала минута всеобщего разрушения, и люди, как приговоренные к смерти, бродят среди гробов, не зная, не пробил ли уже и их последний час.
30 июня. Вчера умерших было 237 человек.
Июль 1. Хотелось бы мне узнать, что происходит в институте. Я просил Анну Петровну Дель написать к г-же Штатниковой. Она, верно, уведомит ее, если холера и туда проникла. В Смольном монастыре, говорят, уже умерло три девицы.
3 июля. Вчера был у меня доктор Гассинг. Он говорит, что холера начинает несколько ослабевать. Третьего дня умерших было 277 человек, вчера 235.
Сейчас получил записку от Деля, в которой он извещает меня, что в институте умерли от холеры четыре девицы, из них две моего класса – одна Львова, другая Якубовская из второго отделения.
30 августа. Давно уже не писал я ничего в моем дневнике. Между тем холера почти прошла. Меня судьба пощадила – для чего? Я об этом так же мало знаю, как мало размышляла она, выдергивая наудачу имена тех, которым надлежало погибнуть.
Александровская колонна, 1834 год
Астольф де Кюстин, Иван Бутовский
Год 1834 ознаменовался для города введением нумерации зданий по улицам, открытием императорской Николаевской детской больницы, публикацией «Пиковой дамы» А. С. Пушкина – и установкой на Дворцовой площади, которую полностью реконструировал К. И. Росси, Александровской колонны в честь победы над Наполеоном. Идею колонны («Александринского столпа», по выражению Пушкина) архитектору О. де Монферрану подал тот же Росси, заметив, что колонна дополнит ансамбль площади с триумфальной аркой в здании Главного штаба (при этом император Николай I первоначально собирался установить на площади памятник Петру Великому).
Французский путешественник маркиз де Кюстин присутствовал при торжественном открытии колонны.
В один прекрасный день семьдесят тысяч солдат и бесчисленная толпа народа во главе с императором залила огромную площадь, чтобы в благоговейном молчании присутствовать при водружении колонны, выполненной по проекту француза господина Монферрана (французы еще необходимы русским). Замысловатые машины действуют отлично, и в ту минуту, когда колоссальная колонна словно оживает и, освобожденная от пут, подымается все выше и выше, войска, и вся толпа, как один человек, и сам император падают на колени, чтобы возблагодарить бога за такое чудо и за те великие дела, которые он позволяет совершать своему народу.
Куда более подробно и поэтично описал это событие литератор И. Г. Бутовский.
Как современник славных дел императора Александра и очевидец торжественного поднятия и открытия памятника Благословенному, я потщусь передать вашему благоговению сие великое празднество российской империи; я опишу его так, как оно было, с тем восторгом, которым одушевлялись и русский царь, и народ его, и все те из иностранцев, кои стекались в Петрополь с отдаленнейших пределов земного шара оплакать память Незабвенного и проликовать вместе с нами для вечной его славы и благоденствия его России!..
Еще в исходе июля столица очень заметно начала наполняться приезжими из отдаленных мест России и чужих земель. Все пути, ведущие в Санкт-Петербург, не исключая даже морского, покрылись путешественниками, алкавшими из благоговения к памяти Александра Первого насладиться зрением торжественного открытия его монумента. С 20 августа стали появляться в стенах Северной Пальмиры вновь прибывшие войска, назначенные для большого парада. Но за пять дней до празднества народное стечение до того увеличилось, что обширный Петрополь некоторое время казался даже тесным. От вельможи до простого работника, всякий готовился быть свидетелем чудного зрелища, и эти дни уже носили на себе резкий отпечаток всеобщего народного празднества. Ни с чем нельзя сравнить той поспешности, той жадности, с которой всякий желал приобрести билет для присутствия при открытии памятника. Раздача оных по министерствам почти остановила на несколько дней течение дел, но число желающих с каждым днем возрастало, и многие десятки тысяч билетов с трудом могли удовлетворить удивительному стечению лучшей петербургской публики, превышавшему далеко за двести тысяч, вся народность Петербурга простиралась в это время почти до полутора миллионов.
К довершению великолепия картины наступающего дня около десяти часов вечера, в ночь на 30 августа, атмосфера над Петербургом, угрожавшая несколько дней ненастьем, пришла в необыкновенное движение. Жесточайшая буря по направлению с юго-запада, с частыми беспрестанно усиливающимися ударами молнии, страшно бушевала над городом в течение трех часов; проливной дождь освежил землю и воздух, постоянно пожигаемый все лето до 24 августа чрезвычайными жарами, столь редкими на севере.
Наконец наступило 30 августа! Лучезарное солнце, сей вестник Божий, первое пробудило столицу, которая торопливо воспрянула с восхищением, с шумом радостным, необыкновенным. Тысячи глаз приветствовали и ласкали это прекрасное солнце, которое недавно еще светило на Александра, которое озаряло его пред нами в полном свете его неописанного блеска и величия, которое за двадцать лет пред сим так же величественно освещало его в Париже, когда он, в день Воскресения Господня, 10 апреля 1814 года, молился Предвечному под открытым небом на площади Людовика XV и, повергшись со всем своим многочисленным воинством на колени, торжественно приносил Всевышнему благодарение за спасение Европы и счастливое окончание достопамятных войн 1812, 1813 и 1814 годов.
В семь часов утра вожделенный звук пушечного выстрела возвестил нам о наступлении торжества. В это время я взял моих шестерых сыновей и пошел с ними на Дворцовую площадь, на дороге мы встретили государя императора, государя наследника и великого князя Михаила Павловича, едущих в Невский монастырь для отслушания обедни. Невский проспект уже покрыт был экипажами, и народ, можно сказать, не шел, а плыл рекою по широким тротуарам и частью по улице от чрезмерной тесноты. Подобное движение происходило и по всем другим направлениям, ведущим к площади. Указанные для публики места наводнялись зрителями с невероятной быстротою, в порядке и тишине беспримерной. К восьми часам все крыши зданий, прилегавших к площади, не исключая и самого дворца, увенчались бесчисленными толпами зрителей. В 9-м часу пространный амфитеатр и шестирядные по стенам эстрады уже пестрели отборной публикой, и бульвар сильно тучнел народом. Но в 10 часов боковые отделения Зимнего дворца, домы Главного штаба и министерств, Адмиралтейство и все здания по карнизу всей обширной площади расцвели на балконах и во всех раскрытых окнах нарядными дамами и кавалерами. Во ожидании прибытия государя публика кипела радостью, огромные беседы зрителей везде оживлены были воспоминаниями о любимом Александре; на всех лицах везде видно было полное удовольствие, смешанное с тем терпеливым ожиданием, которое обнаруживается в одних только важных и торжественных случаях, скоро показались на опустевших площадях жалонеры и линейные унтер-офицеры и заняли места для своих полков.
В 11 часов государь император появился на Дворцовой площади, раздался первый пушечный выстрел; все стихло, и величественная сцена приготовилась принять еще новых зрителей. При третьем подобном сигнале на всех входах площадей вдруг показались головы колонн с барабанным боем и звуками волшебной музыки; в короткое время вся пространная равнина из конца в конец залита была блестящим русским воинством, которое своим бодрым, мужественным и грозным видом изумило бы Александра Македонского и Ганнибала, которому позавидовали бы Цезарь, даже Наполеон. Движение войск распределялось на пять военных моментов. Стройное и прекрасное появление колонн на площадях был 2-й момент. Когда вся масса войск установилась, государь император, в сопровождении многочисленной блестящей свиты, объехал колонны, так как император Николай относил всю честь в Бозе почивающему Александру I, войска не делали ему на караул, а только, по команде своих начальников, взяли ружья и палаши на плечо. По осмотре войск император остановился против памятника; сопутствовавший ему принц Вильгельм Прусский находился при нем.
Начался 3-й момент: молебствие. Крестный ход показался в великолепном павильоне. Войска, дотоле безмолвствовавшие, вдруг оживились бряцанием оружия, звуками музыки и барабанов; они приветствовали духовенство, которое немедленно приступило к молебствию и поминовению за упокой души почившего Александра I. Тогда среди многочисленного воинства, покрывавшего площади, воцарилась торжественная тишина; очам нашим представилось зрелище умилительное и в то же время поучительное: государь император, в единодушии со всем своим воинством, со всеми своими подданными, с благоговением обнажив свою венценосную главу, возносил мольбы ко Всевышнему о великой душе своего предшественника; смиряясь пред владыкою царей земных, он пал на колени, и примеру его последовали все войска. По окончании коленопреклонения протодиакон возгласил вечную память в Бозе почивающему Александру Благословенному! – Багряновидная шелковая завеса, скрывавшая пьедестал памятника, вдруг упала, и золотые двуглавые орлы, поддерживавшие завесу, поверглись пред колонною; в это мгновение явственно раздался голос всероссийского самодержца, который достиг нашего слуха и потряс священным трепетом сердца всех зрителей: его императорское величество сам и один скомандовал всей массе войск на караул и отдал честь монументу с барабанным боем, музыкой и криком ура! Вслед за сим, с быстротою молнии, загорелась пальба из 248 орудий, находившихся при войсках и занимавших Разводную площадь и набережные Дворцовую, Английскую и Биржевую; также из всех орудий с Петропавловской крепости и с судов, поставленных на реке Неве. Гром пушек слился с непрерывавшимися криками ура, с безумолкным барабанным боем и музыкой и длился около пятнадцати минут, как некое грозное сновидение, оставляющее в памяти человека неизгладимый отпечаток. Во все это время народ крестился со слезами умиления и не сводил глаз с монумента Александра Первого и императора Николая, стоявшего пред колонной с уклоненным мечом. При сих торжественных кликах и громе орудий крестный ход величественно выступил из павильона на площадь, обошел вокруг памятника и, окропив его святой водою, возвратился в том же порядке на прежнее место. Государыня императрица с их императорскими высочествами шествовала за крестным ходом, за высочайшей фамилией следовали по четыре в ряд дамы и придворные кавалеры, члены Государственно Совета, сенаторы, предводители дворянства и депутаты от купечества. В минуты сего великолепного шествия налетело едва приметное облако и, приосенив памятник и площадь, оросило слабыми каплями дождя присутствовавших под открытым небом.
4-й момент представил для глаз наших новое зрелище: каждый и не воин мог понимать всю красоту точности и единства сего огромного движения. Это было перестроение войск к церемониальному маршу: оно произведено в величайшем порядке с неимоверной скоростью. Большая часть кавалерии скрылась на рысях в назначенных улицах и на набережных Английской и Адмиралтейского канала. Пехотные дивизии Старой императорской гвардии, занимавшие во время молебствия Дворцовую площадь, отступили до бульвара и образовали голову всей грозной массы войск.
Церемониальный марш составил 5-й и последний момент, самый продолжительный и вместе с тем пленивший всех зрителей. Государь император шествовал впереди, провел роту дворцовых гренадер мимо памятника и, введя в ограду, сам лично поставил ее в караул вокруг колонны, отдав честь монументу. Он остановился потом подле памятника с правой стороны против Дворцового павильона, где было совершено молебствие и где присутствовала государыня императрица Александра Федоровна со всем высочайшим Двором. Казалось, что Николай I, отдавая памяти императора Александра высокую почесть, отдавал и отчет ему в своем мудром девятилетнем управлении, повергая также его святому воззрению и представителей России, и войска свои с присутствовавшими там же представителями Прусской армии, присланными для этого торжества его величеством королем Фридрихом Вильгельмом, неизменным августейшим другом покойного императора Александра. Церемониальное шествие ста двадцати воинов, направленное между дворцом и колонною, заняло времени около трех часов; оно не утомило бы нас, если бы продлилось и гораздо долее: так картина эта была величественна, обворожительна! Смотря на государя императора и его августейшее семейство, смотря на войска, смотря на благочестивое духовенство и на сановитых мужей, сии твердые опоры престола, смотря на колоссальную колонну, этот священный предмет настоящего торжества, в коем столь живо отразилось могущественное отечество наше, кто из предстоявших не убедился, что великий Бог, великий русский царь и народ его, что Всевышний, видимо, благословляет православную Россию и ведет ее еще к вящему величию путями, доселе неисповедимыми для света!
Следующий за установкой Александровской колонны год был отмечен в городе сильнейшей вьюгой, случившейся в первый день Пасхи; есть свидетельства, что «десятки людей погибли на улицах, занесенные снегом».
«Жизнь за царя» и Невский проспект, 1836 год
Михаил Глинка, Николай Гоголь
Год 1836 потряс театральный Петербург: две премьеры – и какие! В Александринском театре поставили комедию Н. В. Гоголя «Ревизор», которая за год выдержала 272 представления, а в Большом театре состоялась премьера первой русской оперы – «Жизнь за царя» М. И. Глинки. Газета «Северная пчела» откликнулась на постановку следующей рецензией: «27 ноября открыт здесь в Санкт-Петербурге новый храм изящных искусств, новый, говорим, потому что от прежнего здания остались одни наружные стены. Большой каменный театр, построенный в 1783 году Тишбейном, возобновленный в 1812 Томоном, а в 1817 Модюи, ныне совершенно перестроен молодым гениальным Кавосом, перестроен с большим уменьем, вкусом и успехом. <...> Возобновленный театр открыт новым произведением оригинального русского таланта М. И. Глинки: «Жизнь за царя» на слова барона Е. Ф. Розена. <...> По окончании оперы единогласно был вызван автор музыки и удостоился всемилостивейшего изъявления благоволения венценосного покровителя изящных искусств в отечестве, сопровождаемого громогласными рукоплесканиями всей публики». Сам композитор первоначально дал опере название «Иван Сусанин», но по совету В. А. Жуковского изменил название и посвятил свое произведение императору Николаю. Глинка позднее вспоминал:
Решено было дать мою оперу на открытие театра по возобновлении, и потому начали производить пробы на сцене Большого театра. В это время отделывали ложи, прибивали канделябры и другие украшения, так что несколько сот молотков часто заглушали капельмейстера и артистов. Незадолго до первого представления я имел счастье встретить государя на одной из репетиций; молотки умолкли, и Петров с Воробьевой пели дуэт Es-dur, и, естественно, очень недурно. Государь подошел ко мне и ласково спросил: доволен ли я его артистами? – «В особенности ревностью и усердием, с которым они исполняют свою обязанность», – отвечал я. Этот ответ понравился государю, и он передал его актерам. Чрез содействие Гедеонова я получил позволение посвятить оперу мою государю императору, и вместо «Ивана Сусанина» названа она «Жизнь за царя».
На последней репетиции я не был за болезнью; эта проба была, как водится, в костюмах, с декорациями и освещением. Так как многие слышали отрывки из оперы моей и публика ею интересовалась, то театр был полон. Князь Одоевский по окончании пробы письмом успокоил меня, уверяя, что успех первого представления не подлежит никакому сомнению. Наконец в пятницу 27 ноября 1836 года назначено было первое представление оперы «Жизнь за царя».
Невозможно описать моих ощущений в тот день, в особенности пред началом представления. У меня была ложа во втором этаже, первый весь был занят придворными и первыми сановниками с семействами. Жена с родными была в ложе, не знаю наверное, была ли и матушка.
Первый акт прошел благополучно, известному трио сильно и дружно аплодировали.
В сцене поляков, начиная от польского до мазурки и финального хора, царствовало глубокое молчание, я пошел на сцену, сильно огорченный этим молчанием публики, и Иван Кавос, сын капельмейстера, управляющего оркестром, тщетно уверял меня, что это происходило оттого, что тут действуют поляки; я оставался в недоумении.
Появление Воробьевой рассеяло все мои сомнения в успехе; песнь сироты, дуэт Воробьевой с Петровым, квартет, сцена с поляками C-dur и прочие номера акта прошли с большим успехом. В 4-м акте хористы, игравшие поляков, в конце сцены, происходящей в лесу, напали на Петрова с таким остервенением, что разорвали его рубаху, и он не на шутку должен был от них защищаться.
Великолепный спектакль эпилога, представляющий ликование народа в Кремле, поразил меня самого; Воробьева была, как всегда, превосходна в трио с хором.
Успех оперы был совершенный, я был в чаду и теперь решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес.
Меня сейчас после того позвали в боковую императорскую ложу. Государь первый поблагодарил меня за мою оперу, заметив, что нехорошо, что Сусанина убивают на сцене; я объяснил его величеству, что, не быв на пробе по болезни, я не мог знать, как распорядятся, а что по моей программе во время нападения поляков на Сусанина занавес должно сейчас опустить, смерть же Сусанина высказывается сиротою в эпилоге. После императора благодарила меня императрица, а потом великие князья и княжны, находившиеся в театре.






