Санкт-Петербург. Автобиография Федотова Марина
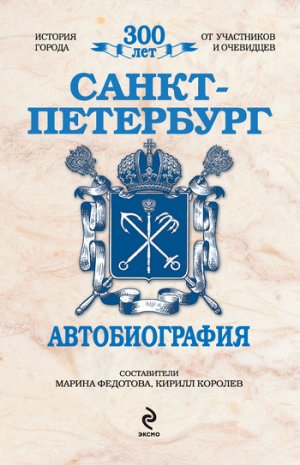
Лавочка – нечто вроде местного клуба. Встретившиеся соседки заводят разговор о соседях и сплетничают в полное удовольствие сколько угодно времени. Хозяин отнюдь не прерывает их, а даже поддерживает разговор, не без выгоды для себя. Во-первых, таким образом, он узнает нужные ему сведения и может сообразить размер кредита, допускаемого тому или иному лицу. Во-вторых, операцию взвешивания он норовит произвести в минуту крайнего увлечения разговором, чтобы сбалансировать весы не без пользы для себя. В-третьих, он привлекает покупательниц, знающих, что в мелочной лавочке они всегда узнают самую свежую сплетню. Для обвеса пользовались еще таким приемом: около весов укреплялось зеркало. Покупательница обязательно заглянет в зеркало проверить свою внешность; в этот момент товар бросается на весы, снимается и с профессиональной быстротой производится подсчет – «фунт три четверти, с вас семь копеек». Прозевавшая момент взвешивания покупательница машинально платит деньги. По мелочам набегают порядочные деньги.
Хозяин знает всех жителей своей округи, кто чем занимается, сколько зарабатывает, как живет: это нужно ему для того, чтобы оказывать кредит с расчетом. Он в дружбе со старшим дворником и постовым городовым, для которых у него во внутренней комнате всегда найдется рюмка водки и закуска. Если полиции нужно негласно собрать о ком-либо справки, она обращается к хозяину; он-то уж знает, кто пьет, кто кутит и кто с кем живет. Обычно хозяин из ярославцев: борода, волосы под скобку, расчесанные на пробор, смазанные лампадным маслом, хитрые глаза, любезная улыбка и разговор с прибауточкой. Но работает хозяин, как каторжник, – торгует с утра до ночи, и в праздники, не покидая своей лавочки, как цепной пес – конуры.
Должное мелочным лавкам воздавал и А. Н. Бенуа.
Запах русской мелочной [лавки] нечто нигде больше не встречающееся, и получался он от комбинации массы только что выпеченных черных и ситных хлебов с запахом простонародных солений – плававших в рассоле огурцов, груздей, рыжиков, а также кое-какой сушеной и вяленой рыбы. Замечательный, ни с чем не сравнимый это был дух, да и какая же это была вообще полезная в разных смыслах лавочка; чего только нельзя было в ней найти, и как дешево, как аппетитно в своей простоте сервировано.
Валаам, 1850-е годы
Анонимный источник, о. Игнатий Брянчанинов
С середины XIX остров Валаам стал приобретать статус туристической достопримечательности. Туда все чаще отправлялись, чтобы не только припасть к святыням, но и насладиться природными красотами Ладожского озера и самого острова. Показательны в этом смысле описания пути на Валаам в «духовном путеводителе» 1852 года под названием «Остров Валаам и его окрестности».
Остров Валаам лежит в северо-западной части Ладожского озера. Сюда отправляется пароход «Петр Великий», обыкновенно по пятницам из г. Шлиссельбурга; на пути он заходит к Коневцу и оставляете этот остров поутру. Утро на озере свежее и дольше, чем на суше, но влажность воздуха легко перенести, после долгого плавания накануне. Северо-западные воды представляют взорам путника одну круглую равнину, окайменную только с западной стороны зеленой полосой Финляндского берега или островов его, из которых Хвощаной (попросту Вощаной, отстоящий на 40 верст от Коневца) встречается заметнее других. Но под влиянием впечатлений Коневской обители, осмотренной в то же утро, однообразие вод менее чувствительно. Внимательный и любопытный взор может найти развлечение и в пустынной природе...
На здешних бурных водах и природа подает большую помощь пловцу: она обилует здесь каменистыми островами, которые только и служат для причала судов на время бури, и кроме того хранит постоянную и самую удобную пристань на озере – о. Валаам. Напротив, осенью, до глубокой зимы, свирепствуют здесь юго-западные ветры. Тогда нередко наступают вдруг раньше морозы, которые сводят лед при берегах озера, и судно, запоздав по какой-либо крайней необходимой причине, подвергается опасности другого рода. Эти ветры разбивают прибрежный лед и носят льдины с такою силою, что они подрывают, в полном смысле слова, судно, попадающееся между ними. <...>
Во время установления льда сообщение между Валаамом и прибрежным г. Сердоболь прекращается более чем на месяц, и Валаамская обитель только в половине января может расчищать дорогу для проезда на санях в г. Сердоболь. Кроме этого, по словам прибрежных рыболовов, известно, что юго-западная часть озера не замерзает иной год до февраля и марта месяцев, а юго-восточная остается раскрытою всю зиму, так что в сильные морозы здесь видят исходящие водяные пары. <...> Зато Валаам придает всю занимательность Ладожскому озеру. Он появляется дымчатой полосою на краю безбрежных вод, блистающих солнцем. Бывалый путник, усмотрев ее, равнодушно проговаривает: «Вот и Валаам»; а небывалые, – с вестыо этой, думая увидеть главы церквей тамошнего монастыря, тщетно собираются толпою на передовом краю парохода. Из той полосы становится потом темный, лесистый остров. Перед ним, будто из воды, выходит островок Мигорки, который издали кажется в виде нескольких деревянных строений; а встречаясь справа парохода, представляет гранитную глыбу, поросшую мхом и многими сосновыми кустами. Вслед за этим островком и прародитель eго, о. Валаам, обнаруживает каменный берег, покрытый хвойным лесом.
Этот юго-западный берег Валаама содержит перерыв в виде ворот и круглый, пространный водоем, наподобие двора. Пароход устремляется в перерыв, когда может доставить удовольствие путникам видами здешней природы; иначе – он идет слева острова. Но кому случилось быть на этом водоеме, тот сохраняет на всю жизнь первое приятное впечатление от Валаама. Здесь глубокая тишина, воздух насыщен запахом зелени, воды гладки; среди вод, под влиянием сияющего солнца, играет рыба; а в тени берегов, между судами, бесстрашно плещутся утки. Кого не поразит этот внезапный вид тихих вод, после шумной и пустынной равнины озера? На мысе правого берега возвышается крест, под красивым круглым навесом, с фонарем вверху, указывающий гавань. Прямо, у высокого лесистого берега, галиоты, соймы и другие озерные суда, укрывшиеся от бурного ветра, выжидают попутного. На подошве того же берега, рассеянные пустые избы занимают временно рыбаки, приплывающие осенью, с разных берегов озера, ловить рыбу вокруг острова, в помощь инокам. В двухэтажном домике, стоящем левее этих изб на вершине берега, меж темных елей, пристают сами иноки и изготовляют рыбу впрок; а поодаль возвышается остроглавая часовня, в которой рыболовы непременно начинают и оканчивают свой труд молитвою. Часовня эта во имя Св. Андрея Первозванного. <...>
Малолюдство и бедность Валаамской обители побудило преосвященного митрополита Новгородского и С.-Петербургского Гавриила искать способы к приведению ее в прежнее благолепие. Узнав о добродетелях старца Назария, жившего в Capoвской пустыни (Тамбовской губернии), Преосвященный вызвал его на Валаам. Старец Назарий, прибыв на Валаам в 1785 г., водворил прежде всего Саровское общежитие, установленное по примеру строгой Цареградской обители Св. Маркелла. Валаамский устав подтвержден был впоследствии митрополитом Амвросием в 1803 г. и митрополитом Михаилом в 1812 г., которым разрешено в следующем году избирать настоятеля из среды братства. Потом игумен Назарий начал заботиться о внешнем устройстве обители, пользуясь пособиями Преосвященного. Уже в 1785 году, по словам очевидца ак. Озерецковского, здесь выделывали кирпич 42 человека ярославцев... пережигали известь из мраморного щебня, братого на о. Ювен, и клали из кирпича соборную церковь и четырехсторонние кельи, расширенные с каждой стороны на 62 сажени. Тогда было до 20 иноков; все они, вместе со старцем Назарием, пололи, косили и жали, а в зимнее время точили кленовые ложки, четки и вырезывали кресты из кипариса; и пользуясь, кроме пожертвований, рыбными ловлями, жили не только сами без нужды, но и помогали бедным. <...>
До сих пор на Валааме бывает наибольшее стечение простого народа, по-прежнему, около Петрова дня... О благочестии иноков того времени свидетельствует скит, основанный старцем Назарием, для искавших строгого поста и постоянной молитвы; равно многие кельи построены самими иноками в лесах, для совершенного уединения и безмолвия. Сам игумен Назарий, изнеможенный бременем лет и трудов, жил в уединенной келье... Иеросхимонах Никон около 20 лет кряду, бывши 73 лет, жил в пещере, собственноручно изуроченной в утесе на берегу озера. Инок Никита, быв 60 лет, скитался в пещере в лесу, в двух верстах от монастыря, а до 1815 г. считалось 6 отшельников на острове.
Епископ Игнатий Брянчанинов, побывав на Валааме в 1846 году, оставил описание монастыря и природных условий острова.
Остров Валаам, бесспорно, живописнейшее место старой Финляндии. Он находится на северной оконечности Ладожского озера. Подъезжаете к нему – вас встречает совершенно новая природа, какой не случилось видеть путешествовавшему лишь по России: природа дикая, угрюмая, привлекающая взоры самою дикостию своею, из которой проглядывают вдохновенные, строгие красоты. Вы видите отвесные, высокие, нагие скалы, гордо выходящие из бездны: они стоят, как исполины, на передовой страже. Вы видите крутизны, покрытые лесом, дружелюбно склоняющиеся к озеру. Тут какой-нибудь пустынник вышел с водоносом в руке почерпнуть воды и, поставив на землю водонос, загляделся на обширное озеро, прислушивается к говору волн, питает душу духовным созерцанием. Вы видите огражденные отовсюду гранитными, самородными стенами заливы, в которых спокойно дремлют чистые, как зеркало, воды, в то время как в озере бушует страшная буря, здесь спрятался галиот или сойма от крушения, ждет в затишьи попутного ветра, а хозяин судна уже с равнодушным любопытством смотрит на яростные, ревущие волны озера, недавно хотевшие разрушить его судно, в которое он вложил все достояние, всю судьбу свою и своего семейства. Вы плывете по излучистым проливам, где часто две противоположные стены сходятся так близко, что оставляют лишь тесный проход для одного галиота. Вы опускаете лот, измеряете глубину в этой узине: глубина тут – многие сажени. Вы входите с северной стороны в губу, далеко вдавшуюся во внутренность острова; плывете по этой губе: с правой стороны – дремучий лес на каменных, громадных уступах, выходящих отвесно и навесно из темных вод. Этот лес и эти камни отражаются густою тенью в водах губы, отчего тут воды особенно мрачны и ландшафт принимает самый грозный вид. Губа постепенно расширяется и наконец образует овал значительного размера. Вы отторгаете взоры от этой картины необыкновенной, наводящей на душу невольный ужас, но ужас приятный, с которым не хочется расстаться; обращаетесь к противоположной стороне: пред вами – обширный монастырь на высокой, длинной, гранитной скале, как легкое бремя на плечах гиганта. Скала прежде покрывалась беловатым мхом. Монахи очистили мох; теперь гранит свободен от седин, висевших на смуглом челе его; он величествен и грозен в обновленной юности и наготе своей. Из трещин скалы выросли липы, клены, вязы; по скале вьется плющ, а под скалой разведен фруктовый сад, над которым колеблются и шумят зеленеющие вершины дерев, как бы готовых низринуться на сад, но удерживаемых далеко ушедшими в скалу корнями. Разительная, великолепная картина! Как приятно видеть селение человека, его руку, клочек земли, политый его потом, украшенный его трудами, среди огромных масс дикой, могучей природы! Пристаете к гавани, выходите на берег: по крутому скату горы устроена гранитная лестница; по ней поднимаетесь к монастырю, стоящему на вершине горы на обширной площади. На эту площадь с южной стороны ведет крутая отлогость; к западу, к губе, площадь образовывается отвесною скалою.
План монастырских зданий состоит из двух четвероугольников, из которых один помещается в другом. Поднявшись по гранитной лестнице на площадь, вы идете по аллее к святым вратам, находящимся в наружном четвероугольнике; против этих ворот – другие, во внутреннем четвероугольнике. Входите в них: перед вами на правой стороне – соборная церковь Преображения Господня, в верхнем этаже; в нижнем – Валаамских чудотворцев Сергия и Германа, где и почивают их мощи под спудом. Собор соединяется посредством галереи с теплою церковию Успения Божией Матери; в галерее помещается ризница. На другой оконечности, составляющей собою юго-восточный угол – церковь Святителя Николая. На левой стороне, противоположной той линии, на которой стоят храмы, – келий настоятеля и некоторые братские. Против вас – братская трапеза и кухня; а в той линии, в которой врата, и где, предполагаю, вы стоите, – келий чредных иеромонахов. Над святыми вратами наружного четвероугольника – церковь Петра и Павла. В линии этой, с левой стороны – гостиница; с правой – келия духовника и обширная рухольня (так в монастырях называется кладовая) монастыря. В противоположной линии – больница монастыря со значительным числом келий, в которых помещаются все престарелые и увечные. При больнице – церкви: в верхнем этаже – Пресвятой Троицы, в нижнем – Живоносного Источника. В линии, обращенной к губе, с одной стороны – продолжение гостиницы, с другой – канцелярия монастыря. В восточной линии, с одной стороны – продолжение рухольни, с другой – монастырская библиотека, сравнительно с другими монастырями богатая, имеющая довольно рукописей, почти исключительно состоящих из творений святых отцов, писавших о монашеской жизни. Для истории Валаамского монастыря не найдется в этой библиотеке обильных материалов. Она собрана в конце прошедшего и начале нынешнего столетий; древние рукописи уничтожены, как и все древнее в Валаамском монастыре, пожарами и шведами. Нет здания на всем острове, ни даже часовни, которым исполнилось бы хотя бы сто лет.
Начало 1850-х годов было омрачено в истории города событием, которое произвело на горожан самое тяжелое впечатление: 22 декабря 1849 (по старому стилю, 3 января 1850 года – по новому) рано утром на Семеновском плацу состоялась гражданская казнь членов кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Петрашевцам прочли смертный приговор, надели предсмертные рубахи. Осужденные не знали, что они были накануне помилованы, поэтому прощались с жизнью. Смертная казнь была заменена каторгой и ссылкой в Сибирь. Среди переживших это испытание был Федор Михайлович Достоевский.
Петербург Достоевского и белые ночи, 1860-е годы
Федор Достоевский, Аполлон Григорьев, Виктор Билибин, Всеволод Крестовский
Наряду с «окаянным городом» к Петербургу со временем приклеился еще один ярлык – город «униженных и оскорбленных», или, что можно услышать чаще, «Петербург Достоевского». Этим ярлыком город обязан своим образам в произведениях Ф. М. Достоевского и галерее персонажей писателя, действующих на фоне петербургских декораций. Классический пример «Петербурга Достоевского» находим в романе «Преступление и наказание».
В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту.
Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.
Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.
Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу...
На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.
Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться... А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромною ломовою лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во все горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.
«Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа... Смешная, потому и приметная... К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят... главное, потом запомнят, ан и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее... Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все...» <...>
С замиранием сердца и нервною дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одною стеной на канаву, а другою в...-ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками – портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, «черная», но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?..» – подумал он невольно, проходя в четвертый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвертом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остается, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо... на всякой случай...» – подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул, слишком уже ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку: жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная, сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость...
Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трех грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто: и мебель, и полы были оттерты под лоск; все блестело. «Лизаветина работа», – подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», – продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую, крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат...
Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в темном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностию выпил первый стакан. Тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. «Все это вздор, – сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, – и вот, в один миг, крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная.
В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла еще разом целая ватага, человек в пять, с одною девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прищелкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнею частию корпуса, не вставая с лавки, причем подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи...
Но никто не разделял его счастия; молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо, перед своею посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.
В то же время отношение самого Достоевского к Петербургу гораздо шире того содержания, которое принято вкладывать в понятие «Петербург Достоевского». В этом отношении присутствовали и любование, и недоумение, и сарказм. Чтобы убедиться в этом, достаточно процитировать отрывок из «Петербургской летописи».
Когда петербуржец узнает какую-нибудь редкую новость и летит рассказать ее, то заране чувствует какое-то духовное сладострастие; голос его ослаб и дрожит от удовольствия; и сердце его как будто купается в розовом масле. Он, в эту минуту, покамест еще не сообщил своей новости, покамест стремится к приятелям через Невский проспект, разом освобождается от всех своих неприятностей; даже (по наблюдениям) излечивается от самых закоренелых болезней, даже с удовольствием прощает врагам своим. Он пресмирен и велик. А отчего? Оттого, что петербургский человек в такую торжественную минуту познает все достоинство, всю важность свою и воздает себе справедливость. Мало того. Я, да и вы, господа, вероятно, знаем много господ, которых (если б только не настоящие хлопотливые обстоятельства) уж ни за что не пустили бы вы в другой раз в переднюю, в гости к своему камердинеру. Скверно! Господин сам понимает, что он виноват, и очень похож на собачонку, которая опустила хвост и уши и ждет обстоятельств. И вдруг настает минута; этот же самый господин звонит к вам бодро и самодовольно, проходит мимо удивленного лакея, непринужденно и с сияющим лицом подает вам руку, и вы познаете тотчас, что он имеет полное право на то, что есть новость, сплетня или что-нибудь очень приятное; не смел же бы войти к вам без такого обстоятельства такой господин. И вы не без удовольствия слушаете, хотя, может быть, совсем не похожи на ту почтенную светскую даму, которая не любила никаких новостей, но с приятностию выслушала анекдот, как жена, учившая детей по-английски, высекла мужа.
Сплетня вкусна, господа! Я часто думал: что, если б явился у нас в Петербурге такой талант, который бы открыл что-нибудь такое новое для приятности общежития, чего не бывало еще ни в каком государстве, – то, право не знаю, до каких бы денег дошел такой человек. Но мы все пробиваемся на наших доморощенных занимателях, прихлебателях и забавниках. Есть мастера! Чудо как это создана человеческая натура!..
И все эти полезные размышления пришли мне на ум в то самое время, когда Петербург вышел в Летний сад и на Невский проспект показать свои новые весенние костюмы.
Боже! об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. Но вы так хорошо знаете обо всем этом по приятному опыту, господа, что книги, по-моему, не нужно писать. Мне пришла другая идея: именно то, что в Петербурге ужасно мотают. Любопытно знать, много ли таких в Петербурге, которым на все достает, то есть людей, как говорится, совершенно достаточных? Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург (если позволят сравнение) младшим, балованым сынком почтенного папеньки, человека старинного времени, богатого, тороватого, рассудительного и весьма добродушного. Папенька наконец отказался от дел, поселился в деревне и рад-рад, что может в своей глуши носить свой нанковый сюртук без нарушения приличия. Но сынок отдан в люди, сынок должен учиться всем наукам, сынок должен быть молодым европейцем, и папенька, хотя только по слухам слышавший о просвещении, непременно хочет, чтобы сынок его был самый просвещенный молодой человек. Сынок немедленно схватывает верхи, пускается в жизнь, заводит европейский костюм, заводит усы, эспаньолку, и папенька, вовсе не замечая того, что у сынка в то же самое время заводится голова, заводится опытность, заводится самостоятельность, что он, так или не так, хочет жить сам собою и в двадцать лет узнал даже на опыте более, нежели тот, живя в прадедовских обычаях, узнал во всю свою жизнь; в ужасе видя одну эспаньолку, видя, что сынок без счету загребает в родительском широком кармане, заметя наконец, что сынок немного раскольник и себе на уме, – ворчит, сердится, обвиняет и просвещенье и Запад и, главное, досадует на то, что «курицу начинают учить ее ж яйца». Но сынку нужно жить, и он так заспешил, что над молодой прытью его невольно задумаешься. Конечно, он мотает довольно резво.
Вот, например, кончился зимний сезон, и Петербург, по крайней мере по календарю, принадлежит весне. Длинные столбцы газет начинают наполняться именами уезжающих за границу. К удивлению своему, вы тотчас замечаете, что Петербург гораздо более расстроен здоровьем, чем карманом. Признаюсь, когда я сравнил эти два расстройства, на меня напал панический страх до того, что я начал воображать себя не в столице, а в лазарете. Но я тотчас рассудил, что беспокоюсь напрасно и что кошелек провинциала-папеньки еще довольно туг и широк.
Вы увидите, с каким неслыханным великолепием заселятся дачи, какие непостижимые костюмы запестреют в березовых рощицах и как все будут довольны и счастливы. Я даже совершенно уверен, что и бедный человек сделается немедленно доволен и счастлив, смотря на общую радость. По крайней мере увидит даром такое, чего ни за какие деньги не увидишь ни в каком городе нашего обширного государства.
А кстати, о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных бедностей самая гадкая, самая отвратительная, неблагородная, низкая и грязная бедность – светская, хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последнюю копейку, но по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галстуках и в белых перчатках. Это нищета, стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым наглым и бессовестным образом. Но довольно об этой грязи! Мы искренно желаем петербуржцам веселиться на дачах и поменьше зевать. Уж известно, что зевота в Петербурге такая же болезнь, как грипп, как геморрой, как горячка, болезнь, от которой еще долго не освободятся у нас никакими лечениями, ни даже петербургскими модными лечениями. Петербург встает зевая, зевая исполняет обязанности, зевая отходит ко сну. Но всего более зевает он в своих маскарадах и в опере. Опера между тем у нас в совершенстве. Голоса дивных певцов до того звучны и чисты, что уже начинают приятно отзываться по всему пространному государству нашему, по всем городам, городкам, весям и селам. Уже всякий познал, что в Петербурге есть опера, и всякий завидует. А между тем Петербург все-таки немножко скучает, и под конец зимы опера ему становится так же скучна, как... ну, как например последний зимний концерт...
Вы не можете себе представить, господа, какая приятная обязанность говорить с вами о петербургских новостях и писать для вас петербургскую летопись! Скажу более: это даже не обязанность, а высочайшее удовольствие. Не знаю, поймете ли вы всю мою радость. Но, право, преприятно этак собраться, посидеть и потолковать об общественных интересах. Я даже иногда готов запеть от радости, когда вхожу в общество и вижу преблаговоспитанных, солидных людей, которые собрались, сидят и чинно толкуют о чем-нибудь, в то же время нисколько не теряя своего достоинства. Об чем толкуют, это второй вопрос, я даже иногда забываю вникнуть в общую речь, совершенно удовлетворяясь одной картиной, приличною общежитию. Сердце мое наполняется самым почтительным восторгом.
Но вникнуть в смысл, в содержание того, об чем у нас говорят общественные светские люди, люди – не кружок, я как-то до сих пор не успел. Бог знает, что это такое! Конечно, бесспорно что-нибудь неизъяснимо прелестное, затем что все это такие солидные и милые люди, но все как будто непонятно. Все кажется, как будто начинается разговор, как будто настраиваются инструменты; часа два сидишь, и все начинают. Слышится иногда, что все будто говорят о каких-то серьезных предметах, о предметах, вызывающих на размышление; но потом, когда вы спросите себя, об чем говорили, то никак не узнаете об чем именно: о перчатках ли, об сельском ли хозяйстве, или о том, «продолжительна ли женская любовь»? Так что признаюсь, иногда как будто нападает тоска...
На днях был семик. Это народный русский праздник. Им народ встречает весну, и по всей безбрежной русской земле завивают венки. Но в Петербурге погода была холодна и мертва. Шел снег, березки не распустились, к тому же град побил накануне древесные почки. День был ужасно похож на ноябрьский, когда ждут первого снега, когда бурлит надувшаяся от ветру Нева и ветер с визгом и свистом расхаживает по улицам, скрыпя фонарями. Мне все кажется, что в такое время петербуржцы ужасно сердиты и грустны, и сердце мое сжимается, вместе с моим фельетоном. Мне все кажется, что все они с сердитой тоской лениво сидят по домам, кто отводя душу сплетнями, кто празднуя день ссорой зуб за зуб с женой, кто смиряясь над казенной бумагой, кто отсыпая ночной преферанс, чтоб прямо проснуться на новую пульку, кто в сердитом, одиноком угле своем стряпая кухарочный кофе и тут же засыпая под фантастический клокот воды, закипевшей в кофейнике. Кажется мне, что прохожим на улице не до праздников и общественных интересов, что там мокнет лишь одна костяная забота, да бородатый мужик, которому, кажется, лучше под дождем, чем под солнцем, да господин с бобром, вышедший в такое мокрое и студеное время разве только для того, чтоб поместить капитал... Одним словом, нехорошо, господа!..
Одному из самых знаменитых петербургских туристических «аттракционов», белым ночам, которые по сей день привлекают в город множество туристов, Достоевский посвятил восторженную оду в прозе – повесть «Белые ночи».
Была чудная ночь, такая ночь, которая разве только и может быть тогда, когда мы молоды, любезный читатель. Небо было такое звездное, такое светлое небо, что взглянув на него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это тоже молодой вопрос, любезный читатель, очень молодой, но пошли его вам господь чаще на душу!.. Говоря о капризных и разных сердитых господах, я не мог не припомнить и своего благонравного поведения во весь этот день. С самого утра меня стала мучить какая-то удивительная тоска. Мне вдруг показалось, что меня, одинокого, все покидают и что все от меня отступаются. Оно, конечно, всякий вправе спросить: кто же эти все? потому что вот уже восемь лет, как я живу в Петербурге, и почти ни одного знакомства не умел завести. Но к чему мне знакомства? Мне и без того знаком весь Петербург; вот почему мне и показалось, что меня все покидают, когда весь Петербург поднялся и вдруг уехал на дачу. Мне страшно стало оставаться одному, и целых три дня я бродил по городу в глубокой тоске, решительно не понимая, что со мной делается. Пойду ли на Невский, пойду ли в сад, брожу ли по набережной – ни одного лица из тех, кого привык встречать в том же месте, в известный час целый год. Они, конечно, не знают меня, да я-то их знаю. Я коротко их знаю; я почти изучил их физиономии – и любуюсь на них, когда они веселы, и хандрю, когда они затуманятся. Я почти свел дружбу с одним старичком, которого встречаю каждый божий день, в известный час, на Фонтанке. Физиономия такая важная, задумчивая; все шепчет под нос и махает левой рукой, а в правой у него длинная сучковатая трость с золотым набалдашником. Даже он заметил меня и принимает во мне душевное участие. Случись, что я не буду в известный час на том же месте Фонтанки, я уверен, что на него нападет хандра. Вот отчего мы иногда чуть не кланяемся друг с другом, особенно когда оба в хорошем расположении духа. Намедни, когда мы не видались целые два дня и на третий день встретились, мы уже было и схватились за шляпы, да благо опомнились вовремя, опустили руки и с участием прошли друг подле друга. Мне тоже и дома знакомы. Когда я иду, каждый как будто забегает вперед меня на улицу, глядит на меня во все окна и чуть не говорит: «Здравствуйте; как ваше здоровье? и я, слава богу, здоров, а ко мне в мае месяце прибавят этаж». Или: «Как ваше здоровье? а меня завтра в починку». Или: «Я чуть не сгорел и притом испугался» и т. д. Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его господи!.. Но никогда не забуду истории с одним прехорошеньким светло-розовым домиком. Это был такой миленький каменный домик, так приветливо смотрел на меня, так горделиво смотрел на своих неуклюжих соседей, что мое сердце радовалось, когда мне случалось проходить мимо. Вдруг, на прошлой неделе, я прохожу по улице и, как посмотрел на приятеля – слышу жалобный крик: «А меня красят в желтую краску!» Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повидаться с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет поднебесной империи.
Итак, вы понимаете, читатель, каким образом я знаком со всем Петербургом. <...>
Простите за тривиальное словцо, но мне было не до высокого слога... потому что ведь все, что только ни было в Петербурге, или переехало, или переезжало на дачу; потому что каждый почтенный господин солидной наружности, нанимавший извозчика, на глаза мои, тотчас же обращался в почтенного отца семейства, который после обыденных должностных занятий отправляется налегке в недра своей фамилии, на дачу, потому что у каждого прохожего был теперь уже совершенно особый вид, который чуть-чуть не говорил всякому встречному: «Мы, господа, здесь только так, мимоходом, а вот через два часа мы уедем на дачу». Отворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые как сахар пальчики, и высовывалась головка хорошенькой девушки, подзывавшей разносчика с горшками цветов, – мне тотчас же, тут же представлялось, что эти цветы только так покупаются, то есть вовсе не для того, чтоб наслаждаться весной и цветами в душной городской квартире, а что вот очень скоро все переедут на дачу и цветы с собою увезут. Мало того, я уже сделал такие успехи в своем новом, особенном роде открытий, что уже мог безошибочно, по одному виду, обозначить, на какой кто даче живет. Обитатели Каменного и Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими летними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где подальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова отличался невозмутимо-веселым видом. Удавалось ли мне встретить длинную процессию ломовых извозчиков, лениво шедших с возжами в руках подле возов, нагруженных целыми горами всякой мебели, столов, стульев, диванов турецких и нетурецких и прочим домашним скарбом, на котором, сверх всего этого, зачастую восседала, на самой вершине воза, тщедушная кухарка, берегущая барское добро как зеницу ока; смотрел ли я на тяжело нагруженные домашнею утварью лодки, скользившие по Неве иль Фонтанке, до Черной речки иль островов, – воза и лодки удесятерялись, усотерялись в глазах моих; казалось, все поднялось и поехало, все переселялось целыми караванами на дачу; казалось, весь Петербург грозил обратиться в пустыню, так что наконец мне стало стыдно, обидно и грустно: мне решительно некуда и незачем было ехать на дачу. Я готов был уйти с каждым возом, уехать с каждым господином почтенной наружности, нанимавшим извозчика; но ни один, решительно никто не пригласил меня; словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!
Я ходил много и долго, так что уже совсем успел, по своему обыкновению, забыть, где я, как вдруг очутился у заставы. Вмиг мне стало весело, и я шагнул за шлагбаум, пошел между засеянных полей и лугов, не слышал усталости, но чувствовал только всем составом своим, что какое-то бремя спадает с души моей. Все проезжие смотрели на меня так приветливо, что решительно чуть не кланялись; все были так рады чему-то, все до одного курили сигары. И я был рад, как еще никогда со мной не случалось. Точно я вдруг очутился в Италии, – так сильно поразила природа меня, полубольного горожанина, чуть не задохнувшегося в городских стенах.
Есть что-то неизъяснимо трогательное в нашей петербургской природе, когда она, с наступлением весны, вдруг выкажет всю мощь свою, все дарованные ей небом силы, опушится, разрядится, упестрится цветами... Как-то невольно напоминает она мне ту девушку, чахлую и хворую, на которую вы смотрите иногда с сожалением, иногда с какою-то сострадательною любовью, иногда же просто не замечаете ее, но которая вдруг, на один миг, как-то нечаянно сделается неизъяснимо, чудно прекрасною, а вы пораженный, упоенный, невольно спрашиваете себя: какая сила заставила блистать таким огнем эти грустные, задумчивые глаза? что вызвало кровь на эти бледные, похудевшие щеки? что облило страстью эти нежные черты лица? отчего так вздымается эта грудь? что так внезапно вызвало силу, жизнь и красоту на лицо бедной девушки, заставило его заблистать такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? Вы смотрите кругом, вы кого-то ищете, вы догадываетесь... Но миг проходит, и, может быть, назавтра же вы встретите опять тот же задумчивый и рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы какой-то мертвящей тоски и досады за минутное увлечение... И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами, – жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени.
Белыми ночами восторгались многие писатели и поэты, среди них, в частности, А. А. Григорьев.
Бывает в Петербурге время, за которое можно простить ему и его мостовую, и дождь, и все. Ни под небом Италии, ни средь развалин Греции, ни в платановых рощах Индии, ни на льяносах Южной Америки не бывает таких ночей, как в нашем красивом Петербурге. Бездна поэтов восхваляла и описывала наши северные ночи, но выразить красоту их словами так же невозможно, как описать запах розы и дрожание струны, замирающей в воздухе. Не передать никакому поэту того невыразимого таинственного молчания, полного мысли и жизни, которое ложится на тяжело дышащую Неву, после дневного зноя, при фосфорическом свете легких облаков и пурпурового запада. Не схватить никакому живописцу тех чудных красок и цветов, которые переливаются на небе, отражаются в реке, как на коже хамелеона, как в гранях хрусталя, как в поляризации света. Не переложить музыканту на земной язык тех глубоко проникнутых чувством звуков, поднимающихся от земли к небу и снова, по отражении их небесами, падающих на землю.
Но вот прозаик В. В. Билибин составил о белых ночах такой экспромт:
Говорят, иностранцы нарочно приезжают в Петербург, чтобы любоваться белыми ночами.
Белые ночи – одна из достопримечательностей Северной Пальмиры (извините за выражение). В Париж ездят смотреть канкан, в Венецию – гондольеров, в Мадрид – бой быков, в Рим – папу и развалины, в Нью-Йорк – страховые общества, занимающиеся тонтинным страхованием, в Лондон – туманы, а в Петербург – белые ночи.
Какой-нибудь англичанин, мистер Плумпуддинг или мистер Пиквик, приедет в Петербург, займет номер в гостинице и ляжет спать, наказав разбудить, «когда начнется белая ночь». Его разбудят в половине второго, он посмотрит в окно на белесоватое небо, равнодушно скажет «а-о», выпьет виски из собственной походной фляжки, заснет – и на другой день уедет в Египет смотреть пирамиды и крокодилов (если только все крокодилы уже не выловлены из Нила для зоологических садов Европы).
Любите вы белые ночи?
Мнения петербуржцев насчет белых ночей расходятся. Одни от белых ночей в восторге, другие их ненавидят.
Говорят, белая ночь поэтична: заря с зарей целуется. Но что же хорошего, если заря с зарей целуется? Точно поцелуй двух женщин – или холодный, или коварный.
Белая ночь – усталая ночь. «Белая ночь – анемия природы», как выразился один мой знакомый врач, специалист по части женских болезней.
Белая ночь – циничная ночь. В белую ночь во всей наготе видим безобразия, обыкновенно скрытые покровом мрака. Вот шатаются пьяные фигуры мужчин и женщин. Вот оборванец крадется по стенке. Вот лежит у забора не то мертвецки-пьяное, не то не на шутку мертвое тело. Пьянство, разврат, преступление, разгул, нищета – все наружу... Белая ночь становится все прозрачнее и светлее, заря начинает целоваться с зарею холодным и лицемерным поцелуем.
Ужасны белые ночи для тяжко-больных, физически или душевно.
Белая ночь беспощадно глядит в глаза и не дает заснуть измученному телу и усталой душе.
Белая ночь, бессонная белая ночь будит тяжелые воспоминания, угрызения совести, сомнения, тревоги, заботы, страдания.
Несчастный ворочается на постели с боку на бок, напрасно призывая благодетельный сон.
Белая ночь страшнее привидения...
У белой ночи есть свои приведения, те приведения, которые видит усталая, больная, слабая душа. Приведения белой ночи не дают сомкнуть глаз. Они действуют не страхом, а душевным измором, истощают мозг, кипятят кровь, сушат нервы.
И когда измученный человек забывается, наконец, чутким, тревожным сном, тогда заря с зарею целуется – все тем же холодным, злым поцелуем.
Хороши белые ночи для влюбленных.
Будем же точны.
Есть влюбленные – влюбленные.
Для одних влюбленных – все ночи хороши. Другие влюбленные предпочитают белые ночи.
Это те влюбленные, которые читают еще только первые страницы первого тома того сочинения, которое называется «Любовь», и не торопятся заглянуть вперед, чтобы узнать, чем все кончится.
Этим влюбленным надо смотреть в глаза друг другу, долго смотреть, молча смотреть...
Чу! Поцелуй!
Это заря с зарей целуется?
Нет, тут другой поцелуй, которому завидует заря с зарей.
Но – то воробьи всполошились и залепетали, точно передавая друг другу самую интересную новость.
Этакие сплетники – эти воробьи!
Что еще сказать о белых ночах?
Поэты во время белых ночей усиленно пишут стихи, выгадывая на керосине. И не думайте, что они пишут в белые ночи непременно белые стихи: нет, стихи у них выходят и зеленые, и пестрые, и пегие, и даже серые в яблоках. Уж это кому какой Пегас попадется. Нынче, заметно, Пегасы все больше какие-то гнедые пошли. Иной поэт выезжает даже не на одном Пегасе, а на целой паре гнедых.
Купцы, находясь в подпитии, едут белой ночью непременно на тоню. Иному удается выловить тоней, на счастье, чиновника XIV класса, хотя уговор был только насчет стерляди и осетра.
Белые девы (блондинки), сидя белой ночью в белой кофточке под белой шторой окна, уныло глядят на двор и гладят белой рукой белую кошку.
Бывшие члены общества трезвости допиваются белой ночью до белой горячки.
Молодые жены старых мужей, страдая бессонницей, успешно ловят блох, а старые мужья в это время отрезают купоны от конверсированных и не конверсированных процентных бумаг.
К развитию образа «Петербурга Достоевского» в значительной степени причастен и В. В. Крестовский, автор первого русского криминального романа «Петербургские трущобы». В его романе Петербург представал городом униженных, отчаявшихся и готовых на все.
Продолжением Разъезжей улицы служит Чернышев переулок. Поэтому и та и другой – не что иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка, с одной стороны, и с другой – Глазов кабак, находящийся на Лиговке, по Разъезжей же улице, в тех первобытных странах, известных под именем Ямской, где обитает преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Туда же тянется и татарская.
Странное, в самом деле, явление представляют осадки петербургской оседлости. В Мещанских, на Вознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный, цеховой слой, с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесенья, особенно на Канаве, и в Подьяческих лепится население еврейское, – тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо-озабоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров – это своего рода status in statu – отличается совсем особенной, пустынно-чистоплотной внешностью с негоциантски-коммерческим и как бы английским характером. Окраины городского центра, как, например, Английская, Дворцовая и Гагаринская набережные, и с другой стороны Сергиевская и параллельно с нею идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему, как паразитное растение, элемент quasi-аристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического, имеет еще характер отчасти военный, и именно учено-военный, с артиллерийским оттенком. Но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, – все это осело в юго-восточной окраине города, все это как-то невольно тянет к Москве и даже, по преимуществу, сгруппировалось в части, которая и название-то носит Московской.
Загородный проспект и особенно Разъезжая улица с Чернышевым переулком являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части.
Мы уже сказали, что Разъезжая с Чернышевым соединяют два такие пункта, как Толкучка и Глазов кабак. Поэтому они вечно кишат снующим взад и вперед народом. Но это не народ Невского проспекта, – «чистой публики» вы здесь не встретите. Изящный экипаж, и модный джентльмен, и изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение (мы не говорим о Загородном проспекте). Публика Чернышева и Разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер, с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под тряпицею. Тут все народ, заботящийся о черствых повседневных нуждах, о работишке да куске насущного хлеба.
На всем пространстве этих двух улиц, от Толкучки до Глазова, вы встретите отчасти странные личности, то в чуйках, то в холуйских пальтишках, то отставных солдат с ворохом разного старого платья, перекинутого на руку. Эти странные личности, с пытливым, бойким и нагло-беспокойным, как бы вечно ищущим, взглядом, называются «маклаками» или «барышниками-перекупщиками». Место действия их не один Чернышев и Разъезжая, – Щербаков переулок, двор мещанской гильдии, Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и площадки театров во время спектаклей служат им постоянно ареною деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а в накладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно находятся в тесных и непосредственных сношениях с тем теплым людом, к которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люд самым бесчеловечным образом. У тех и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случайностей.
Пожар, 1862 год
Николай Лейкин
В 1862 году город едва не сгорел дотла. О том, как все происходило, оставил воспоминания купец Н. А. Лейкин.
1862 год был обилен громадными пожарами. Петербург горел каждый день. Приписывали их поджогам. Простой народ говорил, что это – поляки. На поляков тогда валились все невзгоды. В мае месяце, в Духов день, был ужасающий пожар двух рынков. Сгорели Апраксин и Щукин дворы с тысячами лавок. Горело несколько дней подряд. Пожарная команда и войска бессильны были остановить пожар. Кроме рынков, сгорели торговые заведения в доме Пажеского корпуса, в Чернышевом переулке от Садовой до площади, сгорело здание министерства внутренних дел у Чернышева моста. Огонь перекинуло через Фонтанку, горели барки на Фонтанке с вынесенными из рынков в начале пожара товарами, пылали костры с привезенными из рынка товарами даже на углу Щербакова переулка, на дворе государственного банка на Садовой горел вынесенный из рынков товар, и угрожала опасность загореться даже самому банку. Горели лавки в Мучном переулке. В народе была неописуемая паника. Были и народные зверские расправы с будто словленными поджигателями. Пожар на всех произвел потрясающее впечатление. Он разорил тысячи торговцев.
Я помню этот пожар. Начался он в Духов день, под вечер. Когда загорелось, то добрая половина хозяев-рыночников была на гулянье в Летнем саду, где в те времена ежегодно устраивалось гулянье в Духов день с несколькими оркестрами военной музыки. Гулянье это тогда в просторечии звалось смотром купеческих невест. И в самом деле, низшее и среднее купечество вывозило и выводило на гулянье в Летний сад невест-дочерей, племянниц, в летних модных обновках. Расфранченные женихи из купечества стояли шпалерами по бокам главной аллеи сада и смотрели на целый поток двигавшихся по аллее купеческих невест. Да двигались в этом потоке невесты и не из одних купеческих семей, а и из чиновничьих. Мелкое чиновничество жило почти той же жизнью, что и купцы. Стояли в шеренгах и женихи-чиновники. Свахи, которых тогда в Петербурге было множество, шныряли от женихов к невестам и обратно, и сообщали о приданом невест, о положении женихов. Островский с фотографической точностью в своих пьесах изобразил быт и сватовство и этого купечества и этого чиновничества, хотя и писал из московских и провинциальных нравов, а Петербург того времени очень мало в этой жизни рознился от Москвы и провинции.
Гулянье в этот день в Летнем саду было особенно многолюдно. Я был на нем. Погода была прекрасная, солнечная, жаркая. На аллеях было тесно. Двигались буквально плечо в плечо. Вдруг в самый разгар гулянья пришло известие, что Апраксин двор горит, лавки горят. Трудно описать, какая свалка произошла в это время в Летнем саду. Пожары тогда были повальные и не ограничивались малыми жертвами. Перед этим пожаром только что выгорела треть улиц в Семеновском полку, которые тогда так же звались ротами, как ныне в Измайловском полку, был громадный пожар на Песках, уничтожена половина построек на Черной речке. «Рынок горит! Апраксин горит!» – повторялось повсюду, и одни бросились к выходам из сада, другие к Лебяжьему каналу как к открытому месту, чтобы посмотреть на дым, который валил тремя столбами, ибо загорелось сразу в нескольких местах. Бежавшие сшибали друг друга с ног, перескакивали через них, сами падали, давили друг друга. Те, которые старались подняться, ухватывались за чужую одежду, рвали ее. Раздавались стоны, крики, вопли. Многие женщины лежали в обмороке. Я находился во время известия о пожаре с моим двоюродным братом на аллее на берегу Лебяжьего канала. В не огражденный ничем канал с крутыми берегами напиравшая толпа стала сталкивать публику. Люди скатывались по крутому берегу. Мой двоюродный брат полетел в воду одним из первых. К счастью, что вода была неглубока. Упавшие поднимались и ходили в воде по пояс, перебираясь на противоположный берег к Царицыну лугу. Я каким-то чудом удержался на берегу и, уж спустя добрых полчаса, вышел в ворота к Инженерному замку. Помню, что на аллеях сада продолжали еще лежать женщины. Около них суетились мужчины, приводя их в чувство. Рассказывали, что во время паники и свалки появились злоумышленники, которые срывали часы, брильянтовые украшения с купеческих дам, браслеты, рвали даже серьги из ушей. Помню, полиция, которой тогда было вообще мало, совсем отсутствовала. Очень может быть, что она вся бросилась на пожар. Извозчиков у выхода сада не было никаких, да и на Фонтанке, по которой я шел, направляясь к себе домой на Владимирскую, их всех расхватали. Помню бегущих, раскрасневшихся дам и девиц в помятых и разорванных нарядах. Некоторых женщин вели мужчины в исковерканных шляпах, цилиндрах. И на Невском не было извозчиков. Оказалось, что они все бросились к горевшему рынку, чтобы вывозить из огня товар. Потом говорили, что извозчики брали по три и по пяти рублей за конец. На Фонтанке, близ Аничкина моста, уже увидел перевозчицкие ялики и ялботы, везущие грузы вытащенного из горевших лавок товара. Столбы дыма, носившегося над рынком, уже слились. Летал пепел крупными хлопьями от горевшего товара и черными пятнами покрывал тротуар и улицу. На углу Графского переулка, сворачивая к себе на Владимирскую, я увидел барки с дровами, а сверху дров были набросаны куски товаров, готовое платье, шубы. Барки волокли канатами по направлению к Аничкину мосту. Тут же я услышал страшный взрыв, и густой столп черного дыма высоко взвился в воздухе, выделяясь от общего дыма. Это взорвало порох: в Апраксином рынке, вместе с оружием, торговали и порохом. Когда я явился домой, на дворе разгружались две четырехместные кареты, привезшие с пожара ситцы, шелковую и шерстяную материи, куски полотна. В нашем доме жил рыночный торговец Петров, и это был его товар. Даже на крышах карет были привязаны куски товара.
Когда я явился домой, обо мне страшно беспокоились. Мать плакала. Хоть и довольно далеко мы жили от горевшего рынка, но на открытом окне, обращенном к пожару, мать выставила образ Неопалимой Купины. Хлопья пепла горевшей материи, впрочем, летели и к нам на двор, наносимые ветром. Домой к нам кто-то принес известие, что на улицах около горевших рынков, кроме того, бунт, что уж даже стреляют из пушек. Прислуга на всякий случай связывала в узлы свои пожитки, приготовляясь с ними бежать. Дядя Василий отправился в Гостиный двор охранять кладовую. Велено было и мне идти туда же как служащему, но мать не пускала. Я ушел, невзирая на все просьбы. Путь я избрал ближайший по Графскому, Троицкому, Чернышеву переулкам, но по Чернышеву дойти можно было только до моста, и то лавируя мимо груд всевозможных товаров. Навстречу мне бежали ларьковые торговцы и торговки, с головы до ног нагруженные товарами из своих ларьков. Женщины при этом плакали и вопили: «Беда! погибаем!» У моста стоял взвод солдат, и через мост никого не пускали. В домах у моста на окнах везде виднелись иконы. Мне хотелось пробраться на угол Садовой и Чернышева к лавке А. Ф. Иванова, дабы узнать, в каком положении находится он, но пришлось повернуть по Фонтанке к Невскому. На месте рынка за мостом среди дыма виднелись сотни огненных языков, но огонь еще не перекинуло через Фонтанку, не горело еще и здание министерства внутренних дел. На набережной Фонтанки вплоть до Графского переулка лежал в грудах и валялся утерянный товар. Я хотел переехать от Графского переулка к существовавшему тогда Толмазову переулку, на том месте, где теперь находятся хозяйственные постройки Аничкова дворца, но перевоза уже не было. Каменные спуски и деревянные плоты с обеих сторон были завалены товаром, привезенным на лодках. Я направился к Невскому проспекту. По Невскому дилижансы Щапина, ходившие от Гостиного двора в Лесной и в Новую деревню, также везли товар, направляясь к Литейной.
Вот и Гостиный двор. По случаю Духова дня половина торговцев не отворяли лавок, а кто отворял их, те, как только начался пожар в Апраксином дворе, сейчас же заперли свои лавки. Но все торговцы были в сборе, стояли на галереях около запертых лавок вместе с своими приказчиками и гостинодворскими сторожами и охраняли, боясь, что может загореться и Гостиный двор. Рассказывали ужасы. Все в один голос говорили, что это – поджог, так как загорелось сразу в нескольких местах, что подожгли поляки, говорили, что поймали даже кого-то с бутылкой жидкости, которой он брызгал на деревянный забор лесного склада на Фонтанке, говорили, что в Апраксином переулке разбиты кабаки, что и подтверждалось тем, что вечером на Садовой было много пьяных. Да пьяных и вообще по случаю праздника было много.
Спустилась майская серая ночь, а пожар не только не прекращался, но свирепствовал еще с большей силой. Потухая в одном месте, огонь шел дальше и захватывал новую пищу. Громадное зарево висело над всем городом. Горело уж то, что было вытащено и вывезено на улицы. Пожарные выбились из сил и отступали, уступая на жертву огню захваченные и не захваченные еще им постройки. Да и не везде можно было приступиться. Два горевшие рынка представляли собою лабиринт лавок, лавчонок и ларьков. Проезды были так узки, что бочки и пожарные насосы не могли въехать в лабиринт, да было это и опасно. Огонь быстро окружал со всех сторон не горевшие еще площадки. Были случаи, когда приходилось бросать на жертву ввезенные пожарные инструменты и только самим спасаться и спасать лошадей. Гостинодворцы остались ночевать у своих лавок. Некоторые вошли в свои торговые заведения и разлеглись на прилавках. Дядя и я ушли ночевать домой, оставив артельщиков у запертых кладовых на карауле.
На другой день пожар продолжался, продолжался он и на третий день и догорал целую неделю. На улицах, прилегающих к пожарищу, стояла цепь солдат, ездили конные патрульные казаки. Торговцы отыскивали и разбирали на улицах свой товар, который не успел сгореть. Все, что было вынесено из каменных корпусов на Садовую улицу в пределах от Апраксина до Чернышева переулка, сгорело. Огонь был настолько силен, что железная решетка государственного банка на Садовой согнулась, а каменный цоколь дал трещины и обсыпался. Испорчена была вся набережная на Фонтанке против рынков, а булыжная мостовая, накалившаяся и поливаемая водой, превратилась в дресву. На площади у Чернышева моста лежали груды дел, выброшенных из окон обгоревшего дома министерства внутренних дел. На той стороне Фонтанки выгорел лесной двор и прилегавшее к нему большое каменное здание. Много товару было в дворах полицейских зданий. Квартальные, производя допросы, возвращали торговцам товар. Они же были посредниками при дележе товара с улиц. Доказать, что действительно свое, что чужое, было трудно. Еще труднее было это решить постороннему человеку, хотя бы и полицейскому. Две трети торговцев потеряли все, что имели, но были и такие ловкие, которые захватили после пожара то, чего у них и наполовину не было. Разумеется, таких было немного. Ничего не успели спасти посудники, мебельщики, бакалейщики, книжники, торговцы металлическими изделиями. Впрочем, торговцы медной посудой, когда пожар окончательно потух, отрывали кое-что из своего товара в угольях и пепле, но металл был в слитках. Огонь до того был силен, что расплавил металлические изделия. Расплавились даже медные золоченые кресты часовен, находившихся внутри рынков. Некоторые большие иконы от въездов в рынки были спасены, и еще на третий и четвертый день после пожара стояли на тротуаре на Чернышевой площади, прислоненные к стене дома, рядом с строениями театральной дирекции. А сколько драгоценных старинных редких книг погибло у рыночных букинистов! Были в рынке торговцы старинными редкими книгами, как, например, Федоров, которые некоторыми экземплярами в своих книгохранилищах могли похвастаться перед казенными библиотеками. Какая масса была там редких старопечатных книг, столь ценимых нашими старообрядцами, и погибла прахом, сделавшись жертвою огня! Погибла и добрая половина старинных книг склада Терского в Чернышевом переулке. Так как Чернышев переулок стал гореть во второй день пожара и его все еще надеялись отстоять, то некоторые книги были перенесены во двор Пажеского корпуса, но и там при переноске они были растеряны, многотомные сочинения разрознены. Терского приказчик В. И. Рыкушин был ушиблен пожарными и лежал больной. Сгорела суконная лавка поэта А. Ф. Иванова (Классика) в Чернышевом переулке; кое-как суконный товар успели спасти, вынеся его тоже на двор Пажеского корпуса, но спасенного было немного, да и это немногое подверглось расхищению во время переноски. Поэт-бессребреник, однако, не упал духом вконец и написал несколько стихотворений по поводу этого небывалого в летописях Петербурга пожара.
Товара сгорело на многие миллионы. Образовавшийся после пожара комитет собирал сведения, старался подвести настоящую цифру потерь, но, кажется, так и не смог. Официально ничего опубликовано не было. Застраховано не было и сотой доли. Страховые общества не принимали на страх товар в лабиринтах деревянных лавок внутри Апраксина и Щукина дворов. Почти все погоревшие торговцы были разорены. Был крупный торговец, В. К. Вантурин, имевший несколько лавок, у которого одних ситцев погибло более чем на полмиллиона. Говорили, что более чем на такую ж сумму сгорело у крупного торговца галантерейными товарами Аверьянова. На огромную сумму сгорело шелкового товара у Коровина, фирма которого существует и поныне. <...>
Весь рынок перестал платить по торговым обязательствам. Векселя протестовались, но ни у кого из кредиторов, делавших с погоревшими торговцами дела, не хватало на первое время духа подавать векселя ко взысканию. Напротив, торговцы-оптовики, в особенности иностранцы, измышляли средства как-нибудь скорее прийти на помощь к погоревшим своим клиентам, соглашались взять постольку копеек за рубль долга, по скольку те предлагали, и сулили им дальнейший кредит товаром, только бы те скорее открывали где-нибудь торговлю. Ведь в Петербурге в этот пожар погорело более половины петербургских торговцев. Кому же было продавать кладовщикам-оптовикам, если бы они поступили иначе? Первое время после пожара почти не было несостоятельностей торговцев-погорельцев, объявленных через коммерческий суд.
И вот погоревшие торговцы, ободренные своими кредиторами, стали открывать лавки в домах, строить временные торговые балаганы на Семеновском плацу.
На не расчищенных еще от мелкого угля пепелищах рынков также начали строить шалаши для торговли. Первыми заторговали торговки старым платьем, торговки-еврейки в шелковых париках, затем лоскутники, и мало-помалу образовался так называемый «развал». К развалу примкнули мелкие бакалейщики и торговцы фруктами, башмачники и сапожники, и уж после них стали возникать шалаши с суровскими и галантерейными товарами. Помню, что экономные люди сейчас же пошли к ним покупать за бесценок обгорелые и залитые водой коленкор, ситцы и другие материи. А вокруг шли раскопки в пепле. Вынимали слившийся металл, монеты.
Собирались пожертвования для погорельцев, устраивались в пользу их гулянья, зимой – музыкальные и литературные вечера, спектакли, но все это дало впоследствии пустяки. Погорельцев в их временных шалашах посетил государь Александр II, принял от них хлеб-соль, говорил речь со словами утешения и повелел образовать комитет для постройки каменного рынка на месте Щукина двора, где каждый погоревший торговец мог под постройку лавки занять то место, на котором он торговал до пожара. Впоследствии это определение мест, где кто торговал, повело к великим спорам и раздорам среди торговцев. Да и комитет по постройке упрекали в халатности расходования сумм по постройке...
Консерватория, 1871 год
Николай Римский-Корсаков
В сентябре 1862 года открылась Санкт-Петербургская консерватория (современное здание построено в 1896 году на месте Большого каменного театра на Театральной площади). В речи на торжественном открытии первый артистический директор консерватории, пианист и композитор А. Г. Рубинштейн, восхвалял музыку как «искусство, которое возвышает душу и облагораживает человека... обязывает стремиться к высшему совершенству».
Консерватория как учебное заведение выдавала дипломы на звание «свободного художника», а лица, ее окончившие, получали право на причисление к почетным гражданам. Первым выпускником-композитором, окончившим консерваторию с Большой серебряной медалью, был П. И. Чайковский (1865).
В 1871 году на должность профессора кафедры теории композиции и инструментовки был назначен Н. А. Римский-Корсаков, человек, стараниями которого Санкт-Петербургская консерватория завоевала мировой авторитет. Сегодня эта старейшая консерватория России носит имя Н. А. Римского-Корсакова.
Летом 1871 г. случилось важное событие в моей музыкальной жизни. В один прекрасный день ко мне приехал Азанчевский, только что вступивший в должность директора СПб-й консерватории... К удивлению моему он пригласил меня вступить в консерваторию профессором практического сочинения и инструментовки, а также руководителем оркестрового класса... Сознавая свою полную неподготовленность к предлагаемому занятию, я не дал положительного ответа Азанчевскому и обещал подумать. Друзья мои советовали мне принять приглашение... Настояния друзей и собственное заблуждение восторжествовали. <...>
Если бы я хоть капельку поучился, если бы я хоть на капельку знал более, чем знал в действительности, то для меня было бы ясно, что я не могу и не имею права взяться за предложенное мне дело, что пойти в профессора было с моей стороны и глупо, и недобросовестно... Я был дилетант и ничего не знал... Я был молод и самонадеян, самонадеянность мою поощряли, и я пошел в консерваторию. <...>
Взявшись руководить консерваторскими учениками, пришлось притворяться, что все мол, что следует, знаешь, что понимаешь толк в их задачах. Приходилось отделываться общими замечаниями, в чем помогал личный вкус, способность к форме, понимание оркестрового колорита и некоторая опытность в общей композиторской практике, а самому хватать на лету сведения от учеников. <...>
Из времен моего дирижерства в оркестровом классе у меня сохранилось одно недурное воспоминание – устройство музыкального вечера (кажется, в 1873 г.) в память умерших русских композиторов, в день смерти Глинки, 2 февраля. Затеянный по инициативе А. И. Рубца, который приготовил хор учеников консерватории, вечер этот прошел под моим управлением. В первый раз ученический оркестр играл недурно при публике. Мы исполняли между прочим «Ночь в Мадриде», «Рассказ Головы», интродукцию из «Жизни за царя», «Гопак» Серова, «Девицы-красавицы», дуэт Даргомыжского с женским хором... Впечатление было самое благоприятное. С тех пор на несколько лет установился обычай: ежегодно 2 февраля устраивать подобные публичные вечера. <...>
Среди учеников Римского-Корсакова около 200 композиторов и дирижеров, в том числе А. К. Глазунов, М. Ф. Гнесин, А. К. Лядов, С. С. Прокофьев, И. Ф. Стравинский, О. Респиги.
Следует упомянуть, что Н. А. Римский-Корсаков входил в объединение русских композиторов, известное как «Могучая кучка» (выражение критика В. В. Стасова), иначе «Балакиревскийкружок». В это объединение входили М. А. Балакирев, А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргский и Н. А. Римский-Корсаков; как писал тот же Стасов, «товарищество Балакирева победило и публику, и музыкантов. Оно посеяло новое благодатное зерно, давшее вскоре роскошную и плодовитейшую жатву».
Самый известный выпускник консерватории советского периода – Д. Д. Шостакович, который в мае 1926 года дебютировал своей Первой симфонией (концерт состоялся в филармонии). Последняя также является старейшим в России музыкальным учреждением в своей категории: ее история начинается с 1802 года, когда было основано Петербургское филармоническое общество. Большой зал филармонии на Михайловской улице с середины XIX столетия стал центром музыкальной жизни Петербурга: здесь выступали Ф. Лист и Г. Берлиоз, здесь впервые звучали многие произведения русских композиторов. Здание Большого зала построено в 1839 году.
Из «музыкальных мест» Петербурга необходимо отметить и сказать несколько слов о Капелле, с 1810 года располагающейся в здании на набережной реки Мойки (в конце 1860-х годов перестроено Л. Н. Бенуа). Первоначально труппу Капеллы составлял хор «государевых певчих». После революции 1917 года в мужской хор Капеллы были включены женские голоса, а в 1944 году часть эвакуированных выпускников Капеллы перебралась в Москву, в Московское хоровое училище.
Благодаря соседству с певческой Капеллой получил свое название Певческий мост через Мойку.
Цирк Чинизелли, 1875 год
Павел Соколов, Александр Никитенко, журнал «Всемирная иллюстрация», Евгений Расторгуев, Сергей Светлов
История петербургского цирка восходит к 1822 году, когда в «Ведомостях» появилось следующее сообщение: «В понедельник 22 и во вторник 23 мая Рудольф Меке с компанией будет иметь честь представлять во вновь устроенном на Крестовском острову для гимнастических упражнений здании Иосифа Габита разные штуки верховой езды, скачки, танцы по веревкам и прекрасный фейерверк. Начало будет в половине 7-го часа». После этого в городе гастролировала «труппа танцовщиков на канате», выступал «цирк Турниера», на Фонтанке открылся Олимпийский цирк; особой популярностью у публики пользовался «балаган» Христиана Лемана (даже в конце столетия цирковых артистов в народе называли «лейманами»). Как писала газета «Северная пчела»: «...балаганы наши отличаются числом, просторностью, наружным и внутренним изяществом, которое возвышается с каждым годом. Числом их восемь. Первое место принадлежит Леману... У нас идея о масленице неразрывно соединена с идеею о Лемане. Спросить у кого-нибудь “скоро ли будет масленица?” значит то же, что сказать: “Скоро ли Леман начнет представления?”». При этом «балаган» Лемана сочетал в себе цирк, пантомиму и театр (так называемые арлекинады).
Известный художник П. П. Соколов был завсегдатаем представлений Лемана.
Центром целой массы построек и балаганов был пантомимный театр Лемана... Этот развеселый театр был битком набит и отборным обществом, и народом – хохот в нем стоял неумолкаемый. Игралась постоянно итальянская комедия, и Леман играл Пьеро так, как после него никто не играл. Этот Леман был преоригинальная личность и при этом природный комик; по мне, он ужасно походил на Живокини, которого я поздней видел в Москве. Надо быть человеком чрезвычайно тонкого ума, чтобы уметь так рельефно изобразить совершенного дурака и выставить так сильно весь комизм его непроходимой глупости. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что этот Леман – человек, получивший очень большое образование и весьма начитанный.
Кроме «балаганов», Х. Леман открыл в Петербурге и зверинец, где публике демонстрировали экзотических животных: «Особенно поражал публику... редкий зверь Вальрос (морж. – Ред.), обитатель Северного Ледовитого океана. Он был необычайно громадной величины, имел большие здоровые зубы, кожа на нем была неимоверной толщины. Публика битком наполняла зверинец, когда это чудовище показывалось».
В феврале 1836 года в «балагане» на Адмиралтейской площади произошел сильнейший пожар. О том, как все происходило, вспоминал А. В. Никитенко.
Вчера в Петербурге случилось ужасное происшествие. В числе масленичных балаганов уже несколько лет первое место занимает балаган Лемана, знаменитого фокусника, от которого публика всегда была в восторге. В воскресенье, то есть вчера, он дал свое первое представление. Балаган загорелся. Народ, сидевший в задних рядах, ринулся спасаться к дверям: их было всего двое. Те, которые сидели ближе к выходу, то есть в креслах или тотчас за ними, действительно спаслись. Но скоро толпа, нахлынувшая к двери, налегла на них так, что не было возможности их открывать. Огонь между тем с быстротою молнии охватил все здание и в несколько мгновений превратил его в пылающий костер, где горели живые люди. Никакой помощи не успели подать. Через четверть часа все превратилось в уголья и в пепел; крики умолкли, и среди дымящихся развалин открылись кучи обгорелых трупов.
Это было в половине пятого пополудни. Государь сделал все, что мог, для спасения несчастных, но было уже слишком поздно. Согласно «Северной пчеле», погибло 126 человек; по частным, неофициальным слухам – вдвое больше. Да сверх того, многие видели еще огромный ящик, наполненный костями, собранными в местах, где всего сильнее свирепствовал пожар. Ради теплоты Леман обил большую часть балагана смоляною клеенкой, и, сверх того, все доски тоже были обмазаны смолой: немудрено, что пламя так быстро распространилось.
Пожар, говорят, произошел от лампы, которая была поставлена слишком близко к стене и зажгла клеенку. Я сегодня проезжал мимо и не видел уже ничего, кроме черного пятна, на котором еще продолжают сгребать золу. В золе этой люди: они в четверть часа превратились в золу.
Оказывается, что сотни людей могут сгореть от излишних попечений о них полиции. Это покажется странным, но оно действительно так. Вот одно обстоятельство из пожара в балагане Лемана, которое теперь только сделалось известным. Когда начался пожар и из балагана раздались первые вопли, народ, толпившийся на площади по случаю праздничных дней, бросился к балагану, чтобы разбирать его и освобождать людей. Вдруг является полиция, разгоняет народ и запрещает что бы то ни было предпринимать до прибытия пожарных: ибо последним принадлежит официальное право тушить пожары. Народ наш, привыкший к беспрекословному повиновению, отхлынул от балагана, стал в почтительном расстоянии и сделался спокойным зрителем страшного зрелища. Пожарная же команда поспела как раз вовремя к тому только, чтобы вытаскивать крючками из огня обгорелые трупы. Было, однако ж, небольшое исключение: несколько смельчаков не послушались полиции, кинулись к балагану, разнесли несколько досок и спасли трех или четырех людей. Но их быстро оттеснили. Зато «Северная пчела», извещая публику о пожаре, объявила, что люди горели в удивительном порядке и что при этом все надлежащие меры были соблюдены. Государь, говорят, сердился, что дали стольким погибнуть, но это никого не вернуло к жизни.
Этот пожар нанес Леману серьезный урон, и два года спустя немец покинул Петербург, однако и после его отъезда «балаганы» продолжали привлекать зрителей. В середине 1840-х годов в городе выступали несколько заезжих цирков, в том числе цирк А. Гверры на Театральной площади, где позднее давал представления Мариинский «театр-цирк» (сгорел в 1859 году, и на его месте год спустя открылся Мариинский театр). А в 1877 году на Фонтанке распахнуло двери каменное здание, построенное специально для цирковых выступлений. Это был цирк Гаэтано Чинизелли, ныне – Большой Санкт-Петербургский государственный цирк.
Журнал «Всемирная иллюстрация» посвятил цирку и его зданию большую статью.
В конце 1875 года последовало наконец решение вопроса о каменном цирке на месте первого деревянного, цирка Олимпийского, у Семионовского моста, на Фонтанку, в садике, который при существовании серенького деревянного здания цирка еще не был разведен.
Новое здание, несравненно обширнейшее, чем первый цирк на этом месте, проектировано архитектором В. П. Кенелем и, как могут усмотреть наши читатели из сообщаемого фасада, сделало бы честь даже не столько скромной и скучной местности, как уголок к Семионовскому мосту и на Фонтанку, – обычное место стоянки извозчичьих экипажей, да гулянья нянек. Можно было бы возразить против убавки Инженерного сквера отрезкою места под цирк, если бы с переводом его сюда не предполагалось развести сквер на месте существующего цирка на Караванной площади. Сквер на ней займет даже место большее, чем цирк теперь, так что дети и няньки останутся в большем выигрыше, чем прежде, когда правого инженерного садика, представленного публике, никто не трогал. Остается поэтому только радоваться, что все устроится с общею выгодою и с прибавлением нового красивого здания в столице.
Действительно, наружность нового цирка, особенно со стороны главного подъезда – от моста, с Караванной улицы больше, чем красивая. Наружный эллипсис главного здания служит как бы террасою, обставленною балюстрадою, между выступами входов, соединяющимися с двухэтажным внутренним зданием цирка, покрытым плоскою, в три подъема (с отступами) кровлею, над центром которой развевается флаг. Выступ главного входа декорирован прилично и в высшей степени изящно. В трех больших открытых (двухсаженных) арках его (во втором этаже) помещены статуи, а по сторонам арок, с боков – группы атлантид. На фризе надпись «Цирк Чинизелли». Под атлантидами закругленные фронтоны с группами детей, держащих здешний городской герб. Над срединою же выступа вместо фронтона конная группа «Слава гения». Высота двухэтажного цирка 10 сажень: большая ось эллипса 26 сажень, а меньшая 16 сажень.
Особенность нового здания цирка от всех зданий этого рода заключается в выгадывании строителем прекрасного фойе над главным входом, сзади царской ложи. Одиннадцать рядов мест и два ряда лож, настолько же, как и фойе, доказывают умение строителя умно распорядиться местом для сообщения цирку большей вместимости. Достигнув ее, строитель озаботился еще дать помещение и для большей части лошадей в главном корпусе цирка, заняв пристройку сзади его, кроме конюшни, конторами и квартирами служащих.
Расчет устойчивости стен вполне надежный и выведение всего здания (даже с покрышкою и оштукатуркою внутренних стен, не только фасадов, кроме отделки залы) вчерне, – что должно быть кончено к 1 сентября текущего года, – не должно представлять никаких затруднений и не внушать никаких опасений за прочность.
Работы вчерне сданы одному антрепренеру за 160 тысяч рублей, а на чистую отделку по смете положено 90 тысяч рублей; так что стоимость постройки определяется в 250 тысяч рублей – сравнительно с величавостью самого здания, размерами его, хотя и не очень громадными – очень экономное назначение.
Город отдал Чинизелли место под цирк с правом пользования зданием в течение сорока лет, по истечении которых цирк обращается в собственность столицы.
Зала цирка будет одна из красивейших. Освещаться она должна частью из верхних окон, прорезанных в аттике, между малыми выступами, сообщающими прочность наружным стенам. Ниже фриз между устоями-выступами должен заключать лепные барельефы олимпийских состязаний, разбивающие собою монотонию эллиптического фасада здания; сообщая ему в своем роде нарядность, если не пышность, по размеру затраты на сооружение, разумеется немыслимую. Тем более чести строителю, с малыми средствами сбирающемуся достигнуть эффекта, поражающего и величием, и изяществом. Счастливое сочетание этих качеств в новом проекте г. Кенеля должно, по нашему мнению, тем сильнее поражать нас, избалованных еще роскошью публичных зданий, чем ограниченнее покуда число их и, особенно, когда приходится невольно проводить параллель с предшественником, вроде теперь посещаемого публикою цирка на Караванной площади.
Пожелаем от души, чтобы скорее наступило время исчезновения этого мало удовлетворяющего инстинктивным требованиям благообразия здания. Пусть, хотя бы в первое время и жиденькие кусты сквера, яркою зеленью, сколько-нибудь разобьют скуку Караванной площади с ее манежами, изгладив из памяти неприглядные формы балагана-цирка.
Разновидностью цирка, помимо многочисленных шапито, являлись также бродячие труппы, дававшие представления на улицах и во дворах. Литератор Е. И. Расторгуев вспоминал:
Многочисленные оркестры музыкантов, тирольские певцы в блузах, певицы в капотах и шляпках, виртуозы с кларнетом и флейтою, немецкий бас с шарманкою, приютятся везде, чтобы дать концерт, вроде музыкантов Крылова. Фокусники, эквилибристы, вольтижеры, разные мусьи и мадамы с учеными собаками и обезьянами, с учеными лошадьми, медведями и даже с ученою козою, взрослые крикуны в красных куртках, в шляпах с перьями и в сапогах без подошв, с органчиками, с дудками, с волынками, поют и свистят, несмотря на дождь и холод, щелкают и прыгают, не разбирая ни грязи, ни пыли. Все это начинается ежедневно с десяти часов утра до позднего времени. Все это насильно лезет на дворы, становится где бы ни было, посередине улицы, перед окнами, перед балконами, подставляет шляпы, требует награды или просто кричит: «Коспода! Дафай тенга!»
Более подробно о бродячих труппах писал чиновник-театрал С. Ф. Светлов.
Двор был полон всяких звуков. Приходили всевозможные бродячие музыканты и певцы; по одному, по два, по три. То раздавалась музыка без пения, то пение без музыки, а то и пение, и музыка вместе. По большой части это были самородные, необученные артисты, но иногда появлялся настоящий профессиональный музыкант, опустившийся до самой крайней нужды. Музыкальные инструменты сочетались иногда в самых нежданных ансамблях: скрипка с турецким барабаном, флейта с балалайкой, гармошка с тарелками. Репертуар отличался, по большей части, пошлостью и исполнялся очень громко, чтобы музыка достигала всех закоулков двора.
Пели тоже с особенным пошибом, в расчете на вкус кухарок. Исполнялись блатные и уличные песни, жестокие и псевдоцыганские романсы, звучала музыка из модных оперетт, модные вальсы и польки. Часто своим враньем музыканты прямо раздирали уши. Настоящая русская народная песня звучала очень редко. Но на простой народ какие-нибудь «Хризантемы» действовали сильно. Растроганные швейки в умилении бросали через форточку свой последний медяк, завернутый в бумажку.
Иногда заходил во двор «человек-оркестр». За плечами на ремнях у него висел большой турецкий барабан с литаврами наверху. В руках он держал корнет-а-пистон. На левой руке у него на локтевом сгибе были приделаны палка с колотушкой, а от левой ноги к тарелкам шла бечевка.
Играя на корнет-а-пистоне, он одновременно ухитрялся при помощи палки на локте ударять в барабан, а дергая левой ногой, извлечь звук из тарелок.
Шарманщики часто появлялись с попугаем в клетке, который умел вытаскивать из коробки сложенные конвертиком листочки с напечатанными на них предсказаниями судьбы. Иногда шарманку сопровождали бродячие артисты – танцовщица с бубном, акробат. Скинув верхнее платье, они представали в ярких цирковых костюмах. Танцовщица плясала на булыжниках, ударяя в бубен, а потом, разостлав на земле потертый коврик, выступал со своими номерами акробат, а танцовщица в это время обходила зрителей, собирая деньги в бубен.
Аплодировать было не в обычае.
По двое, по трое появлялись тирольцы в национальных костюмах и выпевали свои переливчатые рулады. Женщина аккомпанировала пению на арфе, которую нес мужчина.
Летом появлялись бродячие немецкие духовые оркестры, приезжавшие на заработок из Германии или из прибалтийского края.
Немцы, числом от пяти-шести до десяти, были одинаково и довольно опрятно одеты: черные пиджаки и черные галстуки-бабочки, белые жилеты и черные фуражки с лакированными козырьками; на околышах золотой галун, вроде как у швейцаров. Они исполняли трескучие военные марши и немецкие вальсы, которые до утомительности похожи друг на друга. Иногда вдруг немцы, как по команде, опускали трубы и плохими голосами исполняли хором какую-нибудь музыкальную фразу, а потом вновь начинали трубить.
Больше всего оживления вызывал бродячий театр Петрушки. На легкой переносной ширме разыгрывался классический вариант комедии о Петре Петровиче Уксусове с немцем-лекарем, из-под Каменного моста аптекарем, с Марфушкой, городовым, цыганом, собакой и чертом, в сопровождении шарманки. Очарованные ребятишки следовали за Петрушкой из двора во двор и не могли досыта наглядеться.
Заметим, что Петербург привлекал не только бродячих артистов; так, в 1879 году открылся первый Всероссийский шахматный турнир, участниками которого были девять ведущих шахматистов страны, победителем турнира стал 28-летний Михаил Чигорин.
Электрическое освещение и уличная жизнь, 1880-е годы
Сергей Светлов
Первые фонари – разумеется, масляные – появились на улицах Санкт-Петербурга еще в 1723 году; столетие спустя, в 1839 году, в центре города установили 204 газовых фонаря – прежде всего на Невском проспекте, на Большой Морской улице и на Дворцовой площади. В 1863 году фонари начали заливать керосином, а 1879 году были произведены первые опыты по электрическому освещению улиц. Новые фонари разработал П. Н. Яблочков, изобретатель дуговой свечи; эти фонари установили на плавучем Дворцовом мосту и у Александринского театра, а затем на Литейном мосту. На Невском электрические фонари установили в 1884 году.
С. Ф. Светлов вспоминал:
Освещаются улицы газовыми фонарями. Электрическое освещение прививается плохо, чему причиной, как говорят, порядочное количество акционеров газовых компаний среди гласных Думы.
Электричество горит на Невском (от Адмиралтейства до Знаменья), на Дворцовой набережной (от Дворцового моста до Мошкова переулка), по всей Большой Морской от Главного штаба до Поцелуева моста и отсюда до Мариинского театра; на Дворцовой площади, около памятника Александру I. Кроме того, встречаются немногочисленные электрические фонари при входах в некоторые магазины.
Отдаленные местности освещаются еще керосином (на Васильевском острове все линии между Средним проспектом и Черной речкой, некоторые улицы на Песках, Невский проспект от Исидоровской богадельни до Лавры и пр.). Фонари газовые и керосиновые расставлены сбоку тротуаров на расстоянии сажен двадцать друг от друга.
На Невском проспекте и на Морской электрические фонари поставлены посереди улицы; они очень высоки, сажени в три с небольшим. Машины для электричества стоят на Мойке (у Синего моста), на Екатерининском канале (у Казанского моста) и на Фонтанке (у Аничкина моста).
Тот же автор набросал «портрет» повседневной жизни городских улиц.
Сигналом к пробуждению спящего Петербурга служат гудки бесчисленных заводов и фабрик, начинающих свою музыку в шесть часов утра. Поэтому первыми прохожими, в фабричных местностях, появляются фабричные, бегущие в своих невзрачных одежонках на работу. Около этого же времени открываются мелочные лавочки. Но на других улицах еще тихо: тут, кроме городовых, спящих ночных извозчиков и дворников, кое-где подметающих улицу, никого еще нет.
В восьмом часу начинается оживление: едут конки, идут в магазины приказчики и сидельцы, открываются магазины и лавки; в восемь часов и начале девятого бегут гимназисты и школьники с ранцами за плечами, в десятом часу шествуют чиновники на службу с портфелями и без оных.
В девять часов город уже на полном ходу – всюду движение. На каждой улице можно встретить почтальонов, бегущих с газетами; учеников, запоздавших в классы; чиновников; кухарок с корзинками и кульками; лавочных мальчишек-подручных с корзинами на головах и пр. и пр. На рынках и в лавках, торгующих провизией, идет бойкая и оживленная торговля.
Часов в одиннадцать движение несколько затихает на второстепенных улицах и усиливается на главных: Невском проспекте, Большой Морской, Литейном, Владимирской, Гороховой. На Невском начинают появляться: фланеры русские и иностранные; гувернеры и бонны с ребятами, отправляющиеся в какой-нибудь ближайший сквер или сад (Александровский, Екатерининский).
В двенадцать часов в крепости палит пушка и по городу раздаются гудки, возвещающие рабочим фабрик и заводов время обеда. Все прохожие в это время вынимают свои карманные часы и проверяют их.
Через час опять гудки, зовущие фабричных на работу. Невский проспект и Б. Морская к этому времени уже запружены народом и экипажами. Здесь в это время в полном смысле слова смесь одежд, наречий, лиц.
Часа в два и в третьем часу опять появляются гимназисты, гимназистки и школьники, а в пятом часу – чиновники.
В семь часов раздаются фабричные гудки на шабаш и прилегающие к фабричным местностям улицы, доселе пустынные, оживляются: рабочие гуляют, направляются в портерные лавки и кабачки или просто собираются у ворот своих домов.
На Невском образуется гулянье, причем среди толпы попадается много девиц легкого поведения (которые ходят также по Литейной, Владимирской, по бульварам).
В девятом часу магазины мало-помалу закрываются, вследствие чего на улицах делается темнее.
В одиннадцать часов все магазины уже закрыты и торгуют только трактиры, пользующиеся особыми правами и торгующие до двенадцати, часу и двух часов ночи («Палкин», «Москва» Ротина, «Лейнер», «Лежен» – на Невском проспекте, «Золотой якорь» и «Лондон» на Васильевском острове и пр.), некоторые табачные лавочки и мелочные лавочки, которые закрываются часов в двенадцать.
В полночь город затихает и только на бойких улицах (например, на Невском, Литейной) еще много народа; во втором часу затихают и эти улицы; остаются дворники, сидящие у ворот в своих овчинных тулупах, городовые, приткнувшиеся где-нибудь у уголка, да спящие ночные извозчики.
Зимой улицы Петербурга, считающиеся главными, несравненно оживленнее и люднее, чем летом; напротив, летом оживленнее улицы второстепенные, в фабричных местах, и прилегающие к загородным увеселительным местностям. Так, например, Каменноостровский проспект с семи часов вечера до двух часов ночи запружен конками и экипажами, везущими гуляк в «Аркадию» и «Ливадию» (она же «Кинь-грусть» и «Эрмитаж») и обратно.
Ранней весной, как только Нева и взморье очистятся от льда, здесь также большое движение, ибо питерцы ездят на Елагин остров, «на пуан» – смотреть закат солнца...
Неотъемлемую часть жизни улиц составляли трактиры и рестораны.
Рестораны в Петербурге могут быть подразделены на несколько рубрик:
а) аристократические и дорогие: «Кюба», бывший «Борель» (Б. Морская), «Контан» (Мойка, у Певческого моста);
б) средней руки: «Лейнер», «Лежен», «Палкин» (на Невском); «Медведь» (Большая Конюшенная), «Малоярославец» (Б. Морская, близ арки Главного штаба), «Доминик» (Невский проспект), «Вена» (Малая Морская), «Золотой якорь» (Васильевский остров, 6-я линия, близ Большого проспекта), «Бельвю» (Средняя Невка, против Новой деревни), «Самарканд» (Черная речка, Языков переулок); рестораны в «Аквариуме» и «Аркадии»;
в) многочисленные трактиры разных наименований, подразделенные каждый на две половины: чистую и черную (для простонародья).
Рестораны, означенные в пунктах а) и б), торгуют до двух и трех часов ночи; трактиры закрываются в одиннадцать часов вечера и лишь немногие из них имеют льготу закрываться на один час позднее.
Во всех ресторанах и трактирах можно получать завтраки, обеды и ужины как по menu, так и порционно. Цены зависят, понятно, от ресторана, но можно определить, средним числом, что без вин и водки обед обойдется в ресторанах аристократических от двух до трех рублей, в ресторанах средней руки – один рубль и в трактирах – от пятидесяти копеек до одного рубля. Обыкновенно обеды бывают двух сортов: подороже (блюд больше и они роскошнее) и подешевле. Дорогой обед состоит из пяти блюд, дешевый – из четырех. Завтраки и ужины обходятся от пятидесяти копеек до одного рубля, не считая выпивки и закуски.
Что касается черных половин трактиров, то в них торгуют преимущественно водкой, пивом, чаем и закусками, ибо для простонародья обеды даже и в черной половине трактира не по карману.
Рестораны и трактиры отличаются друг от друга как роскошью обстановки, так и составом публики. У «Кюба», «Контана», «Лейнера», «Леженя», «Доминика» не имеется, например, органа и сюда ходят исключительно завтракать, обедать и ужинать, да еще поиграть на биллиарде.
Во всех других ресторанах и трактирах орган обязательно помещается в самой лучшей и большой комнате...
В некоторых ресторанах, особенно шикарных, прислуживают татары; но большинство трактирной прислуги – из русских, и главнейшим образом из ярославцев...
Внешний вид ресторанов и обстановка их почти во всех одинакова. При входе – швейцарская, из которой посетитель попадает в буфетную комнату, вдоль одной из стен которой расположена буфетная стойка с винами, закусками, рюмками и т. п. Затем идут общие комнаты со столами и отдельные кабинеты. В трактирах в общем зале стоит орган. На тарелках, стаканах, рюмках и на салфетках сделаны метки (инициалы содержателя ресторана или название ресторана). Ложки, ножи и вилки мельхиоровые или из польского серебра...
По свидетельству М. И. Пыляева, многие трактиры заманивали посетителей броскими вывесками (при этом лучшие трактиры «вывесок с надписями не имели вовсе»).
На Сенной была пивная лавка, на вывеске которой было изображение бутылки, из которой пиво переливалось шипучим фонтаном в стакан. Под этим рисунком была лаконичная надпись: «Эко пиво!» Над простыми трактирами рисовали мужиков, чинно сидящих вокруг стола, уставленного чайным прибором или закускою и штофиками; живописцы обращали особое внимание на фигуры людей: они заставляли их разливать и пить чай в самом грациозном положении, совсем непривычном для посетителей таких мест. На вывесках иногда людские фигуры были заменены предметами: чайный прибор, закуски и графин с водкой, – последнее изображение еще красноречивее говорило за себя... На вывесках винных погребов изображали золотые грозди винограда, а также нагих правнучат и потомков Бахуса верхом на бочках, с плющевыми венками на голове, с чашами, с кистями винограда в руках. Также рисовали прыгающих козлов, полагая, что греки этому четвероногому приписывали открытие вина.
Политический террор: убийство Александра II, 1881 год
Анонимный источник, Александр Бенуа
Во второй половине XIX столетия, особенно после отмены крепостного права (1861) и европейских революций 1868 года, в России усилилось либеральное движение, причем оно охватило широкие слои населения, в отличие от по-прежнему памятного выступления декабристов. Многие образованные люди «пошли в народ» (отсюда – «народники»), появлялись различные общественные организации; одни, как «Земля и воля», ратовали за реформы, другие прибегали к «революционному террору». В 1866 году член террористической группы «Ад» Д. В. Каракозов стрелял в Летнем саду в императора, но промахнулся; в 1878 году было совершено покушение на петербургского генерал-губернатора Ф. Ф. Трепова; боевики «Народной воли» дважды минировали железную дорогу на пути царского поезда, в 1880 году в столовой Зимнего дворца взорвалась бомба, подложенная столяром С. Н. Халтуриным, а 1 марта 1881 года императора Александра, который возвращался домой с развода войск, на набережной Екатерининского канала подстерегли «бомбисты».
В 1912 году в Штутгарте была опубликована книга «Правда о кончине Александра II. Из записок очевидца».
Уже шесть раз покушались на жизнь Александра II: из них 4 раза в последние два года. Сам Александр II до того разуверился в своем народе, что и не ожидал другой смерти, как от руки убийцы. Невольно приходится улыбнуться при воспоминании о тех мерах, коими пряталась особа монарха от народа, не выезжавшего иначе как под сильным конвоем, – когда в то же время предпринимались покушения не только на жизнь, но и на самый дворец, в коем жил монарх. Охрана очень хорошо знала, где враги монарха, и члены оной чуть ли не сами находились на стороне заговорщиков.
Зимой 1881 года полиция узнала, что готовится новое покушение на жизнь Александра II, и все в Петербурге ожидали его со дня на день. И не только в Петербурге все были как-то особенно настроены, в ожидании предстоящей грозы, но и в Москве, этом азиатском центре России, где к Александру II уже давно не питали никакой любви и преданности. <...>
Замечательно однако, что покушение совершено было – к великому несчастью оно было успешно – в тот день, когда монарх вез с собою выработанную программу конституции, которою он имел в виду осчастливить свой народ и завершить все свои реформы.
Эта мера могла бы, может быть, изгладить все ошибки иностранной политики Александра II – и дворянство могло ожидать неожиданной потери всех результатов своих дурных посевов, народ мог бы опять вернуться к своему монарху и возлюбить его – необходимо было, чтобы что-нибудь совершилось – и оно совершилось. <...>






