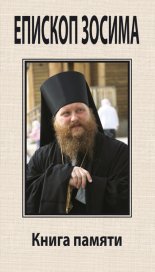Ветлужцы Архипов Андрей
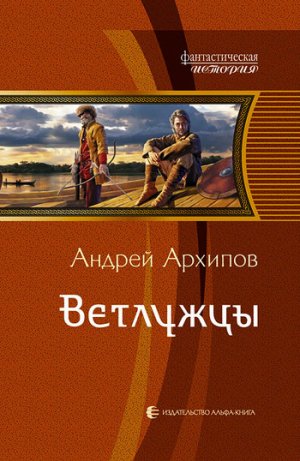
— Как, как… каком кверху! В точности стоеросовая ты башка! — возмущенно проговорил Кокша. — Он ведь сначала за плечо меня потрепал, удивился, как я столько продержался, вот так-то!
— Ну да, если бы не малец…. Ты вроде бы зуб на него точил прежде, а?
— Что было, то быльем поросло, — поглядел исподлобья на рассказчика Кокша. Потом он скосил глаза на Микулку, начавшего уже тихонько посапывать на своей лежанке, и продолжил: — Коли нет у него гнилого нутра, то это завсегда выплывет на белый свет. А за жизнь свою я с ним сполна рассчитаюсь… Будет мне вместо младшего брата, а то у меня в семье все больше сестренки нарождались. Давай, Одинец, продолжай свои небылицы…
— Да чего ж не продолжить, — ответил тот и, отхлебнув из передаваемой по кругу чаши, предложил ее соседу. Тот с сожалением мотнул головой и сослался на то, что ему скоро идти в дозор, однако Одинец так просто от него не отстал. — Да что ж ты какой! Согрейся чуток, взбодрись! Вон как с лица спал! Две битвы да почти без сна вторую ночь!
— Не привыкать, да и сам я вызвался. А учует хмельное Пельга — так живо кишки выпустит, солью пересыплет и обратно через задницу засунет. Давай уж лучше ты… развлекай.
— Ну что ж… Сижу я в своем уголке, стараюсь не шуметь, а тут как вдарит! Как пошло молотить железо друг о дружку, как посыпались на ушкуй разбойнички… Понял я, что пришел мой смертный час, готовиться начал. Однако жду-пожду, а грохот все не кончается — дай, думаю, гляну в последний раз на белый свет… Выглянул из-под укрытия своего, а там Пельга скачет, как тот козел у Сидора.
— Коза у него, Одинец, коза, — зевнул, глядя на Микулку, Кокша. — Откуда знаю? Да не впервой уже полусотник грозится нас как ее гонять. А ту, мол, Сидор так шпынял, что у нее в вымени молоко прямо в масло сбивалось. Брешет, поди…
— Как же, брешет! — раздалось с другой стороны костра. — Полусотник наш может и козла заставить бегать так, что тот будет масло из себя по капле давить.
— И пусть, лишь бы толк был, — не стал ничего возражать на это замечание Кокша. — Коли не учил бы он нас все эти три седмицы, не продержался бы я так долго. Просто сомлел бы от страха и сам выю под меч подставил.
— Это точно… Одинец! Не спи!
— А? Ну да… Про Пельгу я сказ свой вел. Ох и вертлявый он! Так и крутился, так и прогибался… да разве на таком пятачке против двоих устоишь? Даже я понял, что недолго ему осталось, высунул тихонько стружие из-под палубы да одного разбойничка как ткну в сапог! Я еще подумал, что надо бы засапожником под коленкой ему жилу подрезать, да испугался не на шутку…
— Верно ты поступил, живого человека резать… опыт немалый нужен, — донеслось от кого-то из ратников. — Чуток бы промахнулся — и не ушел тогда от его удара.
— Вот-вот! От такого живчика никто не ушел бы! Как он кинулся за стружием! Я едва успел в свой закуток нырнуть, а тать этот как начал рубить в щепки настил! И раз, и два, и… нет, насчет третьего он не сподобился, к Пельге повернулся и опять мне спину показал. Ну я грешным делом снова высунул сулицу, да как размахнусь, да как засуну ее под кольчугу ему! То ли в ногу она воткнулась, то ли прямо в задницу… я уж не разобрал! Боязно мне стало дальше подсматривать. А вдруг я его проткнул и он с моим копьем так и скачет по палубе, а? Страх, как на кровушку не люблю смотреть…
— Вот оно как оказалось… — Тихие смешки сами собой затихли, и все обратили свои взоры на десятника, пробиравшегося поближе к костру. — А я все гадал — кто это помог мне? А оно вон как… Благодарствую, Одинец! То ты оружия нашего чурался, а то… Рассчитывай на меня в любой миг, если понадобится помощь какая. Кхм… Так, а остальные чего пригорюнились? Дозор — на смену, свободным от него — спать! Или думаете, что утром учений не будет?
— А что, будут? — Чей-то неосторожный возглас прервал Пельгу.
— А кто его знает, — неожиданно улыбнулся тот, поскреб в затылке и отошел от костра. — Все равно спать!
— Ну что, Одинец! Решил в храбрецы податься? — Расходящиеся воины одобрительно хлопали рассказчика по плечу, слегка ухмыляясь в усы. — Ишь как перед Пельгой выслужился! Теперь он тебя в свой десяток запишет — и будет гонять… пока сметаны давать не станешь!.. — Негромкий смех затих в той стороне, куда ушла очередная смена дозора.
— Так… это, — негромко кивнул самому себе Одинец, косясь на стоящую рядом чашу. — Может, еще по глоточку?
— Твое дело. — Кокша подкинул дров в костер и начал укладываться рядом на лапнике, плотнее укрывая себя и Микулку теплым покрывалом. — Только помни про Пельгу: кишки выпустит и засунет… А-у-ох. Ложись…
Одинец выразительно посмотрел на недопитый до конца хмельной мед, печально вздохнул и тоже отправился спать, не замечая, как за ним из темноты наблюдает и слегка ухмыляется десятник. Постояв еще немного, Пельга пробормотал что-то одобрительное и вернулся к своему костру, где еще никак не мог закончиться дележ утренней добычи. Не подходя к огню, он встал чуть поодаль, но так, чтобы его было видно полусотнику, а затем начал вслушиваться в продолжающийся спор.
— Ох, не разумеет твоих доводов наш воевода вовсе, Иван сын Михайлов, — попытался передать возмущение Овтая его толмач.
— А что не так? — устало повернулся другим боком к костру ветлужский полусотник. — Я же сказал, что если ему кажется это справедливым, то пусть забирает все остальное.
Не дождавшись, когда Андяс начнет переводить следующую часть размеренной речи главы эрзянского войска, вмешался Мокша. Он решил шепотом донести до полусотника и нескольких его соратников, что не стоит прерывать таким неожиданным предложением веками сложившийся ритуал по дележу добычи. Торговаться надо степенно, уступая понемногу, тем более что ветлужцы и так уже забрали себе почти все самое ценное. Тогда обе спорящие стороны сохранят лицо и останутся довольными друг другом. Тем не менее Овтай прервал свой монолог и попытался цыкнуть на сородича, возмутившись, что тот влез в разговор. Мокша стал оправдываться, и их оживленная перепалка немного затянулась.
— Так их мы по праву взяли, — решил прервать спорщиков Иван, объясняя свою позицию в очередной раз. — Я про брони толкую… Первая лодья полностью наша, полтора десятка кольчуг и полагающихся к ним доспехов с нее мы забираем себе, однако некоторую часть другой добычи по доброй воле отдаем в общий котел. Рассчитывая при этом, что внакладе не останемся… И про общую нашу сечу вот что скажу: одоспешенные вои почти все на нас поперли, именно мы их натиск сдержали да на копья вздели. А по древним исконным обычаям всегда было положено — что в бою взято, то свято.
— В тех лихоимцах было немало стрел эрзянских лучников… — вмешался через Андяса Овтай.
— Да уж, — согласился полусотник. — Нашпигованы многие разбойники были не хуже ежиков, но сейчас не разберешься, кто кого поразил… Все эти стрелы, заметьте, были нашими. Теми самыми, которыми мы поделились перед боем с вами. У вас же бронебойных почти не было, большинство ваших наконечников, увы, оставляют желать лучшего. Так что я считаю, что все брони по справедливости следует забрать нам, но вот все остальное можешь поделить, как пожелаешь…
— Ты хочешь забрать себе самое лучшее, а нас заставляешь делить жалкие остатки? — За спокойным голосом эрзянского воеводы можно было уловить, что его терпение иссякает.
— Овтай… я просто донес до тебя свое мнение, а разбираться будем вместе, — решил больше не играть на его нервах ветлужский полусотник, получив одобрительные кивки от своих десятников. — У нас в дележе от совместной битвы три десятка доспехов с лишним. Скажи, сколько тебе кольчуг надо, и покончим на этом. Я уступлю. Главное, чтобы итог казался справедливым нам обоим. Только при этом учти, что остальное железо ну… за небольшим исключением, мы можем оставить тебе. Признаюсь, что нам не с руки таскать с собой все эти окованные щиты и нашлепки на кожаных доспехах, предстоит неблизкий путь…
— А если я захочу большую часть? — задумчиво произнес Овтай.
— А вдруг я соглашусь? — наклонил голову Иван и хитро ухмыльнулся. — В любом случае мы будем знать, что такова твоя справедливость.
— Тогда я возьму десять кольчуг. И, конечно, одну лодью.
— Хорошо, — без промедления наклонил голову полусотник. — И в знак уважения мы хотим преподнести еще два доспеха. Из нашей доли. Один в подарок твоему великому князю. У вас он зовется инязором, так? Мы ее сняли с того татя на первой лодье, который щеголял в красном мятле.[79] Твои же люди его, кажется, и вытащили из воды… Знатная кольчуга. А второй доспех — для тебя, надеюсь, что его качество ты тоже оценишь. И еще… Я хотел бы попросить тебя сохранить для нас две остальные лодьи и помочь починить нашу. А из остальной общей добычи выделить нам десяток крепких секир и побольше хороших ножей. Договорились?
— Да! — перевел наклон головы эрзянского воеводы Андяс и продолжил переводить его речь, потому что тот и не думал останавливаться. — Странный ты воин, Иван. Не купец, как положено быть доброму ратнику. То рьяно торгуешься, то предлагаешь решать самому… Да и после боя лично за сбором добычи не следил, отдав сие дело на откуп мне, ушел своими ранеными заниматься. А если бы я тебя обманул, а? С другой стороны, ты сразу же после сражения расставил окрест дозоры, и ныне твои вои вместе с моими ходят. С одной стороны — доверие, а с иной… Отчего не доверишься совсем моим людям на нашей земле? Измотались вы в битве побольше нашего… Да, раненые ваши как?
— Отвечу сначала на последний вопрос, — помотал головой Иван, чтобы показать эрзянину, что уже начал забывать начало его речи. — Один мой воин так и умер, не приходя в сознание. Второй, думаю, выживет, но еще плох… сутки отлежится — тогда будет видно. У остальных ратников раны не смертельные, если, конечно, не воспалятся. Из них двое неходячих, но надеюсь, что через пару месяцев бегать начнут: жилы не перебиты. Лекарством травяным запаслись мы вдоволь, да и лекарь наш ветлужский троих моих воев учил, как раны обрабатывать. Кроме того, сам я тоже кое-что умею. Выкарабкаются.
— Добрые вести… А я не премину тебя отблагодарить за помощь моим пострадавшим — со сноровкой твои люди с лечением управились. Травы все знакомые, иной раз и мы их пользуем, однако все больше внутрь, если кто животом мается или иной болью. А уж то, что рану шить можно шелковыми нитями, так это я в первый раз увидел…
— Вполне можешь потом применять такое лечение на своих воях. Помни только, что нужна чистота в таких делах, воду надо кипятить, иголки и нитки в нее окунать. То же самое с тряпицами. А отвар надо готовить отдельно, остужать и процеживать. Шелковые же нитки вполне у булгарцев найти можешь, другие в ранах не рассасываются, а загнивают. А по поводу моих дозоров не обижайся: приучаю я своих воинов, чтобы службу несли, не расслабляясь даже после битвы. Кто знает, когда враг новый подойдет?
— Хочешь сказать, что твои вои еще обучение проходят? Не похоже на то, да и не все из них неоперившиеся юнцы…
— Правильно. Но учиться можно всю жизнь, а они со мной всего лишь с начала лета, некоторые даже меньше месяца. Большинство из них были в недавнем прошлом охотниками, однако пришлось им и за мечи взяться…
— Мокша рассказывал про ваши беды, хоть сам и не все видел… — Андяс перевел дух, еле успевая толмачить в обе стороны, отхлебнул из чаши с хмельным медом, пущенной по кругу, и продолжил: — После его сказаний о вашей земле у нас прибавилось к вам веры. Знаем ныне, что не просто так вы к нам шли.
— Значит, не всю головушку ему отбили, еще помнит что-то? — улыбнулся Иван, скосив глаза на эрзянского умельца. — Это хорошо, уж больно мастер он хороший. А насчет того, зачем к вам шли… это и есть ответ на твой первый вопрос, про торговлю. Брони из добычи нам сильно пригодятся. Да ты сам видел, что мы, имея добрые доспехи, почти не получили ранений. Однако нужны они нам не ценой ругани с тобой и твоим князем. Я и торговался лишь потому, что иначе ты меня просто не понял бы.
— Может, все тогда отдашь? — улыбнулся Овтай.
— Ну уж нет, сговорились так сговорились! Да и три с половиною десятка кольчуг на дороге не валяются. А насчет нашего дела… Что знаешь ты о нас?
— Что? — Овтай крепко задумался, достал из-за спины глиняную бутыль, оплетенную ивовой лозой для сохранности, налил в довольно большую расписную братину остро пахнущий летом и травами напиток и поднялся на ноги. — В честь дележа честного добычи воинской! Да пребудет с нами Инешкипаз, Вере Чипаз![80] Отпейте, гости дорогие, настоящего медового пуре.[81] Это не чета вашему хмельному меду. Напиток сей силу набирает несколько лет, выдерживается в закопанных в землю дубовых бочках.
Братина пошла по кругу, и каждый воин после внушительного глотка счел либо одобрительно крякнуть, либо удивленно покачать головой. Даже полусотник, имевший в прошлом немалый опыт в приготовлении разных ягодных настоек, с наслаждением закрыл глаза, перекатывая во рту хмельной нектар.
— Знаем мы о вас мало… — продолжил тем временем Овтай с помощью своего толмача. — Весть о вас дошла в конце лета. Есть, мол, такой народец на Ветлуге, что булгар побил, защищаясь… А как Мокша поведал, так и с новгородцами не побоялись схватиться.
— Перебью тебя, Овтай, извини, — вскинул руку Иван. — Дабы не возникло потом кривды в пересказе… Не булгар мы побили, а разбойников, что на нас напали. И были они из племени буртасов, хоть и служили многие на службе Великого Булгара прежде. А с булгарскими купцами было у нас лишь недоразумение на Оке, но не стали после этого мы распалять вражду с ними, добром расстались…
— Про последнее нам Мокша подробно изложил, похваляясь, как он к засеке речной руку свою приложил. Знаем мы ныне, да и подтверждение нашли в рати вашей, что не только из Переяславля у вас людишки, но и из иных племен. Как вышло, что одним целым вы стали, одним названием зоветесь?
— Ветлужцами? Не все так лепо, как кажется, Овтай. Черемисы от нас еще немного наособицу, хотя вместе с нами ратятся и в других делах помогают. Да и потерялись бы мы среди этого народа, не так уж нас и много… А соединились мы по одной простой причине: вместе от врага отбиваться легче и дела делать сподручнее. Поэтому и ищем мы на просторах окских друзей для себя… тех, кто на подмогу придет в случае надобности и в делах наших верным товарищем будет.
— И к нам придете, если позовем? — скептически изогнул бровь эрзянский воевода.
— Почему бы и нет, если друзьями станем? — поднял на Овтая взгляд, до этого неотрывно внимающий прогорающим углям костра, ветлужский полусотник. — А что? Есть такая нужда? Расскажи мне, что на Оке у вас творится, а то слухи все больше друг другу противоречат. Даже про землю эту мы ничего не знали… кому она принадлежит? То ли вам, то ли князю муромскому?
— Ну слушай, коли желание есть. — Степенная речь Овтая почти сливалась с переводом Андяса. Было ощущение, что они не раз об этом говорили, и толмач иногда ненароком забегал вперед. — В соседях у нас Ярослав, который, в отличие от брата своего, Олега Святославича, воинственным и буйным нравом никогда не отличался, завсегда ходил у него в подручных, почитал его яко отца. Однако два десятка лет тому назад, как князья на Руси сговорились,[82] что каждый держит отчую землю, осел он на землях муромских и рязанских… С прицелом на Чернигов. Обустраивается ныне, крепости и города строит. Тот же Переяславль Рязанский[83] — его рук дело. На землях ниже по Оке смердов расселяет по нашему берегу, и тут бы селища свои поставил, да наш род отпор ему дал. И еще… Людишки свободные, кто христианства не принимал, издавна на муромскую землю бежали, надеясь тут спастись. В этих местах издревле кроме нас мурома жила, мещера, булгары частенько захаживали. Каждое племя чтило своих богов, а пришлые еще принесли веру во Христа, Магомета… никто из-за этого никому обиды не чинил. Однако с приходом Ярослава начал он силком людей крестить…
Хотя нет, не с того началось, наговариваю я. Изначально именно ему обиду учинили. Первыми в Муром, как наместники отца, прибыли его сыновья, Михаил и Федор. Говорят разное, но в городе началась смута между местными и пришлыми, между христианами и… теми, кого они язычниками называют, хотя одной с ними крови. Мыслю, что восстание было из-за того, что власть мирно поделить не смогли. Тогда-то один из княжичей, Михаил, был убит, а Ярославу пришлось брать город с оружием в руках. Потом были еще раздоры, и даже на жизнь самого князя покушались, но в итоге Святославич взял вверх, а людишек во многом числе на реке Оке крестил. Те же, кто власти его или веры не принял, уходить стали, у нас многие осели, мурома так целыми селениями переходила на наш берег…
С тех времен и Андяс к нам прибился. А Ярославу такой победы оказалось мало, и он ушедших от него тоже захотел заставить во Христа поверить — начал и в наши земли захаживать. Хотя говорил, что это они против него козни строят. Тут уж пришлось дать ему укорот: талантом воинским он никогда не блистал, поэтому побили его — и с тех пор он к нам не суется… Как тебе мой рассказ, Иван? Встанешь против Ярослава? Ты ведь христианин?
— Среди моей рати на твоей земле лишь я один крест ношу, но никого силой в свою веру не гоню. А насчет христианства я тебе так скажу… Много хорошего и доброго оно несет в народ, как и почти любая другая вера. «Возлюби ближнего своего, не убий, не укради»… Церкви стоят на радость всем, красота и благость там такая, что на душе сразу спокойно и уютно становится… Только вот пользуются нашей верой, как и любой другой, власть имущие. А для чего? Чтобы людишек у них подчиненных было много, податей в казну больше собиралось, и никто против них самих слова сказать не мог. Ведь церковь та же что говорит? Власть князя — от Бога! Не смейте ему перечить! Да и иной священник столько под себя подгребет, что пузо его перед ним нести приходится… А монастыри? Им зачем земли отписывают с христианами, работающими там? Чтобы это пузо набивать?
Я к чему все говорю… Не надо путать веру и людей, которые ее несут. А среди них и святые иной раз встречаются. Те священники, которые людям покой и свет в душу несут, которые голодного накормят и пригреют, а безотцовщину воспитают и грамоте научат, — я таким в ноги готов поклониться. Только редкость они среди нас, и вряд ли будет когда по-другому… Да и не только от веры доброта зависит, наверное. Разве без церкви мы не можем помогать страждущим? Вот и вы, думаю, теми же заповедями живете. Может, люди ваши даже чуть чище, потому что в лесу обитают, с природой, с богами ее напрямую общаясь… Так что, если дело ваше будет честное, то придем, не сомневайся. Однако речь не об этом, сразу такие дела не делаются, доверие надо заслужить, а на это уйдут годы. Речь пока о малом. Видел ли товар наш?
— Ха… Мокша все уши прожужжал, пока не притащил к ушкую вашему и не показал цветы дивные на котлах и горшках, что он лично лепил. Не поверил я ему вначале, лишь когда своим руками железо пощупал, то убедился, что ничуть он не приукрашивает. Гладкий, без шва единого сей товар и красоты неописуемой. С руками оторвут его, если цену заламывать не станете.
— Значит, основное дело он сделал — показал. Мне остается лишь добавить, что железная посуда эта, за малым исключением, предназначена в подарок для вашего князя и твоего рода. Как довесок к предложению нашему, а оно вот какое… Железо на болотах у нас с примесями, грязное. Много труда нам приходится прикладывать, чтобы его достать и как-то очистить. А у вас… я точно об этом знаю, есть залежи руды, которая не только чистая, но и богатая! Хороший уклад из нее выходит! Кабы разрешил инязор добывать нам ее в ваших землях, то часть вам отдавать стали бы. А коли людишками поможете, то и их бы обучили, как железо лить да посуду такую делать. Всю прибыль делить будем честно, а выход с этого очень большой получиться может.
— Хм… не слышал я про такие места. Как все, по болотам добываем, где-то лучше руда, где-то хуже. А залежи, тобой упомянутые, тут рядом?
— Не обессудь, не скажу пока. Но на всю землю вашу не заримся — может, в три, может, в пять дневных переходов клочок нужен. Вряд ли больше…
— По лесу глухому переходов? Хм… И все? Нет более никаких условий у тебя?
— Разве что охранять места эти совместно, дабы другим хитроумным мастеровым секреты наши не достались или тати нас не разграбили.
— То разбойники и лиходеи, а не тати, в мошну на торгу залезающие… Лучше скажи, вот ты с полоняниками разговаривал, хм… и не только. Что поведали они тебе?
— Да почти ничего… Главарей побили, а остальные мало что знали. Однако точно выяснил, что весточка к ним пришла из Мурома после того, как там узнали, что мы ветлужцы. Если коротко, то подозреваю, что купец, которого мы побили и на чьем ушкуе теперь ходим, имел дело именно с этими разбойными людишками. Потому и взять нас хотели — то ли для мести, то ли чтобы вызнать про нашу стычку с новгородцем поподробнее. Неведомо мне это, да и как опознали нас… тоже непонятно. То ли ушкуй приметный, то ли весть с Ветлуги сюда дошла. Зато могу рассказать, для чего желали новгородские купцы привлечь местных лихоимцев, если Мокша еще не доложил.
— Сказывай, не было у нас с ним разговора об этом.
— Живой товар решили они в Булгар продавать, похищать девок молодых окрест и отправлять в полуденные страны.
— А зачем это разбойным людишкам надобно было? Коли захотели, то сами, без новгородцев сие дело осилили бы, — брови Овтая опять поползли вверх. — Зачем делиться прибылью с ними? А вот насчет пропаж ничего не скажу… Иной раз исчезнет какая баба, пойдя по грибы или ягоды, да разве такого раньше не случалось? Зверь лесной утащит — и следов не сыщешь! Места здесь настолько глухие да болотистые, что не всякий охотник потом пропажу сумеет отыскать. Но поспрашиваю я. И народец наш, и разбойничков этих еще раз.
— Те, кто остался, вряд ли что-то путное ответят: порубали мы людишек, кто знал про промысел этот. И тут порубали, и на Ветлуге, а в Новгород хода нам нет. А почему они именно с новгородцами связались… не знаю. Может, это просто распри между князьями да купцами, одни другим насолить хотят, раздор да разбой под боком устраивая. А может, невольники на полудне кому-нибудь понадобились в больших количествах. Присмотрись, авось первый об этом узнаешь.
Овтай на минуту нахохлился, пытаясь осмыслить полученную информацию и вглядываясь по примеру других в пламя костра. Остальные вои, сидевшие у огня, не смели прерывать установившегося молчания и в безмолвии продолжали передавать по кругу и осушать безмерную братину, стараясь не привлекать к ней внимания разговорившегося начальства.
— Я донесу до инязора твое предложение, однако обещать ничего не могу, — прервал свою задумчивость эрзянский воевода. — Да и не только он в наших землях все решает. Взять тех же булгар. Они в наших краях силу великую имеют и такой жирный кусок железа мимо своего рта пронести не дадут. Однако главное слово должны сказать старейшины родов, которые на той земле сидят, что ты попросишь. Коли руда твоя где-то окрест лежит, то я могу слово за тебя замолвить, однако… Доверие может наступить лишь тогда, когда родство по крови имеется. Вот ваш князь…
— Воевода у нас главой. Нет, он женится этой осенью, причем по ба-ль-шо-ой любви.
— А…
— А второй женой не возьмет — он тоже христианин.
— Не помеха это. У вас, верующих во Христа, такое сплошь и рядом. Даже церковь ваша на старые обычаи сквозь пальцы смотрит.[84]
— Ну на князей и бояр уже не просто смотрит, и в этом я ее поддерживаю. Кроме того, женой у него черемиска. Мало того что горячая, пришибить сковородкой может… — улыбнулся полусотник своим воспоминаниям. — Так еще и ветлужский кугуз из-за такого усиления на нашего воеводу осерчает.
— Хм… да. А из старших бояр ваших кого взять? И они сгодятся, коли родниться не с самим инязором… У кого род весомей?
— Да нет у нас на бояр деления… — пробормотал Иван, немало смутившись от отсутствия у себя знания таких простых вещей, как семейные корни ветлужцев. — Ближники есть, хотя… для вас одно и то же это по смыслу. А среди них не знаю, про кого тебе и сказать. Эх, была не была, прощай холостяцкая жизнь. Если в этом великая нужда случится, то бери меня, старого, в расчет. За других не рискну сказать…
— А велик ли твой род?
— Род? Да… ить один я как перст.
— Так с кем скреплять узы? Ныне ты есть, а завтра в опале, либо стрела шальная случится, — скептически скривился Овтай.
— Прерву я вас, воеводы, — неожиданно вмешался Пельга. Он явно был взволнован, в его речи прорезался сильный акцент, и некоторые окончания слов он даже проглатывал, несмотря на то что в целом все было понятно. — Мнится мне, что в этом вопросе помогу я вам… Помнишь ли ты, Иван, с какого я гурта?
— С того, где Пычей старостой был? С нижнего?
— С него. В полон меня буртасы взяли, как и многих из селения нашего. И лишь твоя заслуга, что не в неволе я томлюсь ныне, как и семья моя…
— Да ты к делу переходи, Пельга, — недовольно помотал головой Иван. — Нечего мне хвалу воздавать…
— А ты не перебивай меня, воевода, — довольно хмыкнул тот. — Я, может, все лето к этой речи готовился. Язык вот твой выучил, несмотря на столь короткий срок.
— Эка ты ярый какой — никакого почитания к своему полусотнику! — оскалился Иван, показывая, что такая шутливая перебранка доставляет ему удовольствие. — И перебить тебя даже нельзя… А воеводой меня не след называть, я уже сколько раз вам говорил?
— Сам приучил к речам вольным, — согласно кивнул Пельга и продолжил: — А насчет названия… Со всем почтением мы к Трофиму Игнатьичу относимся, но воеводой для нас как был ты, так и остался. Пусть походным, как ныне. А его хоть князем нашим согласны величать, хоть кем, но… Под тебя наш род шел, а не под него. Ты наших жен и детей спас, а не кто иной, а потому… не перебивай, дай сказать! Нет у нас такого посвящения, чтобы в свой род принять человека со стороны, да и было бы… другим бы обида вышла. Тем же спутникам твоим, родичам нашим из соседних поселений, поэтому и не предлагали мы тебе породниться. А девок наших, что около тебя хм… крутились, ты как-то не замечал. Видать, не по душе пришлись, но тут уж мы силком тебя заставлять не будем.
— Ха… спасибо.
— Так вот, есть еще один выход для нас… именно для нас, воевода, чтобы долги за спасение рода нашего тебе отдать. Не один день наши воины вместе с тобой на учениях пот проливали, не один раз проливали кровь в битве. Коли не побрезгуешь… скрепи с нами узы кровного побратимства. В твоей рати ныне почти весь десяток из нашего рода. Из кожи мы лезли, чтобы в мастерстве воинском и языке твоем первыми быть, потому и получилось, что ты внимание на нас обратил и с собой взял. Волен ты принять наше предложение или отказаться. Коли отвергнешь, то не сомневайся — обида не поселится в наших сердцах, найдем другой выход. — Глядя на ошарашенного Ивана, Пельга решил дать ему немного времени, чтобы тот пришел в себя, и повернулся к эрзянину: — Хватит для тебя, Овтай, такой поддержки? Всех наших воинов, с кем согласится породниться полусотник? Поддержка их семей? Всего нашего рода, который занимает весомое положение у ветлужцев? Такая опора, которая сильнее даже родства по крови?
* * *
Ветлужцы отплывали через два дня. Ушкуй был починен общими силами довольно быстро и теперь сверкал по бокам желтизной свежих заплат. Доски на поломанные борта даже не пришлось тесать самим. Достаточно было Овтаю намекнуть охотникам на отсутствие времени, как те, в благодарность за избавление от поселившегося в окрестностях разбоя, принесли из ближайшего селения высушенный тес. А уж рабочих рук, умеющих филигранно держать топор, вокруг хватало.
Подготовив судно к отплытию, ветлужцы аккуратно сложили добычу, свежие припасы и начали осторожно грузить раненых. Однако и эта процедура, несмотря на общую неторопливость, подошла к концу. Свистом дав команду на общий сбор, ветлужский воевода подошел попрощаться к эрзянскому. Обнялись, похлопали друг друга по плечам и молча разошлись, донельзя довольные, что знакомство прошло успешно и новая встреча не за горами. А зачем зря слова в ступе толочь? Все уже было обговорено за прошедшие дни. И то, что о решении инязора Овтай пришлет весточку зимой на Ветлугу. И то, что он поговорит со своими старейшинами, а в случае общего согласия сразу же начнет заготовку леса на постройки и запасется углем. А также что по весне вместе начнут разведывать залежи руды и глины для плинфы…
Овтай неосознанно прикоснулся к мошне, закрепленной на поясе, где позвякивало серебро, насильно врученное ему ветлужским полусотником. Нет, он пытался отказаться! Говорил, что у самого есть немного, чтобы вложить в общее дело. А оно ведь может дальше пустых разговоров и обещаний не пойти. Не захочет кто-нибудь иметь дело с чужаками — и все! Тогда что делать с этими гривенками? Однако ответ от Ивана получил вполне здравый. Серебро, мол, лишним не бывает и вполне может сгодиться не только для оплаты первых трудовых свершений, но и для того, чтобы влиянию булгар что-то противопоставить. Да хотя бы чтоб к инязору и старейшинам прийти не с пустыми руками! Овтай тогда скрепя сердце согласился, подумав, что иного строптивца придется умасливать, а своих запасов у него все-таки не так уж и много. Однако ветлужец как будто знал все его мысли наперед и добавил, что он бы не хотел, чтобы это серебро попало к тем, кто будет чинить препоны… Подарки, мол, это святое, дань уважения! А совать кому-то что-то под полой… это приучать людей к легкой наживе. В следующий раз они специально будут ставить палки в колеса, чтобы получить мзду. Хм… Пришлось согласиться и обещать, что постарается решить дело уговорами.
Про свою же сестру Овтай только намекнул. Красивая, мол, но уж слишком своенравная. Потому никто замуж и не зовет. То, что ветлужцам придется иметь дело именно с его родом, он понял давно и выбил-таки признание от Ивана. Было бы по-другому, крепкие вои с Ветлуги приплыли бы не на земли его рода. Пришлось, правда, в обмен пообещать нарисовать карту ближайших земель с названиями речек, но только после того, как породнятся, без этого никак! А пока только на словах объяснить, где начинаются чужие границы. Также Овтай согласился до поры до времени не рассказывать никому, кроме старейшин, в каких местах залегает руда. С одной стороны, конечно, почему бы и не прихвастнуть перед своими близкими? Роду от этого убытка не будет, а ему лишняя слава не помешает. А с другой… О чем хвастать, если ветлужец так и не указал точного места? Сказал, что на земле его рода, — и все, потом только улыбался.
И теперь опять скалится, глядя на смурные, озадаченные лица своих воинов. На его месте Овтай подумал бы трижды, прежде чем так поступить. Как? Безоглядно пойти на такой обряд кровного братства. Нет, род удмуртов был в своем праве, и сам Овтай счел бы за честь так породниться, но о столь массовом братании он прежде не слышал. Ветлужский полусотник в тот вечер был растроган этим предложением и даже обнял Пельгу, однако о своем решении обещал сказать на следующий день, немало озадачив этим всех.
И действительно сказал, собрав своих воев на поляне и произнеся приличествующие этому событию речи. А потом резанул себя по руке ножом и дал стечь каплям крови в чашу с хмельным медом. Овтай как раз присутствовал в этот момент и был сильно удивлен, когда к Ивану подбежал мальчишка, тот самый волчонок, про которого рассказывали разные небылицы у костра. И вмешался в обряд, подставив свою руку под нож полусотника. Точнее, он сначала что-то взахлеб говорил, размазывая рукавом слезы по грязному лицу, но Андяс ничего не понял из его скороговорки и не смог пересказать. А ветлужец взял да и полоснул юнца по кисти, сказав, что так на его родине усыновляют, и что если удмуртские воины хотят с ним самим породниться, то придется им взять его вместе с кровным сыном. До сих пор Овтай без усмешки не может вспоминать округлившиеся глаза будущих братьев полусотника. А уж что было, когда к ним подошел молодой черемис и заявил, что он этого волчонка уже обещал опекать как младшего брата, и протянул под нож свою руку… Лишь один Пельга не растерялся и шагнул следующим.
Иногда Овтаю казалось, что оба эти вопиющих случая были заранее Иваном подстроены — уж такие хитрые у него были в этот момент глаза, — но стоящие рядом вои, перекрывая поднявшийся гул возмущения, подтвердили, что Кокша действительно обещал за вечерним костром опекать спасшего его мальчишку. Да… Вот теперь и ходят несколько удмуртов и один черемис с унылыми лицами, не понимая, как они вчера могли совершить такой обряд. А остальные так же озадаченно смотрят на них. Все, кроме троих.
Сам Овтай просто радовался, надеясь, что сможет наконец-то выдать замуж свою стервозную и шаловливую младшую сестренку, и ее будет кому защитить. Волчонку было просто не до раздумий — он сверкал улыбкой в разные стороны, одаривая всех своим восторгом, и носился на ушкуй и обратно, будто ему в одно место воткнули шило.
А полусотник… Он стоял на палубе и смотрел на прояснившееся первый раз за последние дни небо, щурясь неяркому осеннему солнцу. И был просто счастлив. А когда временами бросал взгляд на своих хмурых ратников, то его физиономия излучала теплое, ничем не замутненное удовольствие.
«Ох ты! Тупая моя голова! Он же как наседка себя ведет! — хлопнул себя по лбу Овтай. — Все-таки подстроил, шельмец такой! Но с кем сговорился? С мальцом, черемисом или… сразу с Пельгой, выставив ему наедине свои условия?!»
Глава 10
Дед Радимир
Коричневые узловатые пальцы стряхнули с ножа на стол хлебные крошки и стали сгребать их в подставленную ладонь, терпеливо выметая из щелей тесаных досок разлетевшиеся крупицы. Наконец морщинистая рука поднялась чуть повыше, поднеся собранное богатство к подслеповатым прищуренным глазам, и скупым, расчетливым движением отправила их в рот.
— Дед Радимир, а дед Радимир! — Вовка кашлянул и с сожалением оторвался от созерцания разбросанных на лавке мелких чугунных квадратиков. Обработка твердого углеродистого металла обычной железной пластиной с грубой односторонней насечкой из крупного зуба, лишь из вежливости называемой в этом времени напильником, шла плохо. Даже заусенцы сбивались с превеликим трудом. Видимо, данный опыт придется признать неудачным и следует перейти на другой, более мягкий металл. Молодой мастер поймал настороженный взгляд старика и вспомнил, что сам позвал его несколько мгновений назад. — Ты чего крошки собираешь, как в голодный год? Хлебушка в достатке… даже на мой хохряк.
— С мое поживешь, чадо, — делано прошамкал тот еще вполне здоровыми зубами, — так еще и не такие привычки у тебя будут…
— А чего боишься? Неурожая? Если наступит такая беда, то опять продадим наши котлы, а на вырученные монеты…
— Добро — не лихо, — прервал его Радимир, — бродит по миру тихо. Коли придет голод, так уж коснется многих, и за котлы свои ты почти ничего не возьмешь. Кому они будут нужны, если в них положить нечего? Мал ты еще, не видал, как люди детей своих продают, дабы самим выжить, а тем надежду дать…
— Какая же это надежда? В рабстве? То есть в холопстве?
— А такая! Не приведи Господь тебе увидеть, как дети от голода умирают, как ложатся они на дороге и снег падает им прямо в открытые глаза! И не тает!
— Ну… да. Прости, дед Радимир. Правда твоя, мал я еще.
— Не вини себя, чадо, это дело поправимое, — тут же успокоился старец и подвинул к Вовке ржаной ломоть. — А уж чего тебе в жизни доведется увидеть, зависит лишь от рожаниц, от той доли, что они тебе назначат.
— Каких рожаниц?
— Ох, темные вы… Вот я тебя ломтем наделил, а ведь издавна такой обычай идет, когда глава семейства краюху на куски кромсает и каждому выдает в соответствии со своим понятием. Так же и Род[85] по своему разумению наделяет хлебом насущным человека, причем вместе с таким куском тот получает и свою долю, свое счастье. Кому-то больше перепадает, кому-то совсем не достается… У каждого своя судьба, которой заправляет Макошь, старшая из рожаниц, прядущая покутные[86] волокна всего сущего. Вслушайся… Ма-къшь,[87] мать судьбы. Она из тех прях, чья нить свивается в судьбы человеческие, да и бабам нашим в делах помогает, покровительствует рукоделию, рождению детей, урожаю, достатку в доме. А помогают Макоши ее младшие сестры, девы судьбы, счастливая Доля и лихая Недоля. Их также Сречей и Несречей иной раз называют, а у нас еще и рожаницами, хотя… последних многие на закате именуют Ладой и Лелей, а дев судьбы чтят отдельно. Ну, да это их дело… Так вот, эти сестрички связывают человека покутными нитями с плодами его трудов, добрыми и злыми. Те нити судьбы по-разному вьются, но Доля на них все узелки распутывает, а Недоля их рвет да связывает, узелки наматывая. В чьи руки попадет твоя жизнь — тому и быть.
— А вот у нас думали, что только от самого человека зависит, как его жизнь сложится. — Вовка совсем потерял интерес к своим железным поделкам и придвинулся к Радимиру.
— Да? От людишек многое зависит, да не все, — покачал головой старец. — Один вырастает писаным красавцем, а второй немощным калекой, у одного ума палата, а у другого разумения хватает лишь на то, чтобы милостыню просить. А иной и лицом пригож, и умен, а не складывается у него жизнь. Бьется лбом о стенку, а счастья нет. А отчего? Все оттого, что его ниточку Недоля в руки взяла. А иной раз надоест ей, что человечек этот слишком сильно трепыхается в ее руках, пытаясь к сестричке перебраться, так она его так по носу щелкнет, что тот до конца жизни безвольной куклой у нее провисит.
— Деда… человек ведь должен подняться после любых невзгод!
— Но поднимется ли? — Радимир немного покряхтел, устраиваясь удобней на лавке, и продолжил: — У Макоши свои разумения, да и невзгоды могут быть такими, что жить не захочется.
— Э… дед Радимир, так ты в какого бога веруешь? Во Христа?
— Истинно верую, — осенил тот себя крестным знамением. — А отчего у тебя сомнения возникли, чадо?
— Так ты мне про рожаниц все больше рассказываешь, а это славянские боги, так? Перун, Велес, Род?
— И что? То, что князь новый взойдет на княжение, еще не повод, чтобы тех, кто до него был, ногами попирать. Предки наши старых богов чтили и нам завещали. Верой своей мы вправе сами распоряжаться, но и вежу к древним заветам иметь надобно. Разве Макошь, что с Перуном наравне на киевских холмах стояла, людишки забудут? Так и будут ее чтить, хоть и станут прикидываться, что великомученицу Параскеву Пятницу вспоминают. А на второй день праздника Рождества, что еще называется собором или пологом Богородицы, как Рода вспоминают? Бабы обычно приносят в церковь хлебы и пироги, так-то вот. Да и Среча с Несречей — как счастье и несчастье стали восприниматься, как светлый ангел за правым плечом и падший за левым.
— Но ведь старым богам человеческие жертвы приносили! — нашел бесспорный аргумент в споре Вовка, поднимаясь с лавки. — Какое же уважение к ним можно испытывать, а?
Радимир замолчал, по привычке опершись подбородком на свою резную клюку, и стал задумчиво рассматривать новые половые доски, на которых расплывчатой тенью заскользил силуэт вскочившего мальчишки. Наконец воздушный вихрь, вызванный резким движением Вовки, затих, и пламя лучины продолжило мерно пожирать длинную деревянную щепку.
— Они умерли… — Тихий шелест, сходящий с губ Радимира, был почти не слышен. Все же старец взял себя в руки, откашлялся и продолжил: — А о тех, кого с нами нет, люди обычно вспоминают лишь добром. Или молчат вовсе. И все же богов своих предков надо вспоминать с вежей, не они виновны в этих жертвах.
— А кто?
— Сами люди, которые не понимают, чего хотят от них изначальные силы… Вот возьми то же дерево. Издревле люди, срубая его в лесу, с ним роднились. Делились своей кровью, щедро поливая древесные корни, исполняли очистительные обряды, и лишь после этого, считая его своим, смели к нему подойти… Но при этом просили прощения за то, что его губят, винились перед древесными душами, изгоняемыми из стволов. А ныне? Кому придет это в голову? Кто почистит загаженный ручей и посадит новое дерево вместо срубленной березы, коли можно получить за все отпущение грехов, не прикладывая рук своих? Верь слепо, и на том свете тебе все зачтется! Твори что угодно, мучай невинные души, но окутывай свои деяния светом веры — и тебе воздастся! — Голос Радимира задрожал от ярости, а в уголках глаз выступили слезы, ярко заблестевшие искорками света отраженной в них лучины. Непонимающий, что происходит со старцем, Вовка пересел к нему на лавку и попытался что-то сказать, однако вместо связной речи у него вырвался поток междометий, внеся сумбур в ставшую еще более неловкой ситуацию.
— Мыслишь, что на старости лет дед Радимир с ума сходить начал? — взволнованно стукнул клюкой об пол старец. — Нет, чадо, лишь хочу сказать тебе, что не только старым богам жертвы приносили…
— Я слышал, католики сжигали на кострах ведьм и колдунов, — Вовка успокаивающе положил свою руку на сгорбленную спину Радимира. — Но у нас же такого не было…
— Все было, разве что сор этот на свет белый не выносили… — устало откинулся к бревенчатой стене дед. — Я же послушником был в Печерской обители, насмотрелся и наслушался всего. Не говорю о князьях — те супротивников своих редко миловали. Сама церковь наша злодеяниями не брезговала, да так, что ужасалась порой своим свершениям. Взять того же ростовского епископа Федора…[88] И головы резал, и очи выжигал, и язык урезал! Своим! Боролся за власть! Что уж говорить про язычников! А новгородский архиерей Лука Жидята? Кто-то его святым величает, а кто-то… Кто-то при жизни звероядивым называл и рассказывал, что он распинал своих жертв, на кострах сжигал, варил в собственном соку в раскаленных железных котлах. Даже если обоих оговорили, то уж поверь, что само упоминание таких мук говорит о том, что они на Руси благочестивыми епископами все-таки применялись! Мы, конечно, не латиняне, как они не зверствуем, но у нас хватает… Как ты говорил? Своих скелетов в сундуках?
— Страшно это все… — поежился Вовка, пытаясь представить себе, как добрый священник с небольшим животиком и окладистой бородкой может давать указания мучить других людей. — Ты мне лучше про себя расскажи, дед Радимир. Может, жизнь вокруг тяжкая, оттого и люди злые поголовно?
— Не без этого, чадо, не без этого. А насчет пути жизненного моего… да почему бы и не поведать? Мне не так много осталось, а тебе, глядишь, и пригодится. Вот буквицами этими чугунными имя деда Радимира вспомнишь…
— Говори, деда, говори. Сам не пойму, так до других донесу.
— Ну так слушай… — Старец немного приосанился, огладил седую бороду и мечтательно воздел очи. Взгляд его затуманился, и первые слова плавно потекли из уст, как будто он рассказывал не обычную историю нелегкой жизни, а старинную былину под напевчатый перезвон гуслей. — Прошла моя молодость в Киеве, мати городов наших. Вольготно город раскинулся на холмах Днепра, поражал он иноземцев своей многолюдностью и богатством, златоверхими теремами. А уж его светлые гридницы… княжеская иной раз до четырех сотен человек вместить могла! — Радимир немного отвлекся от повествования и стал загибать пальцы, перечисляя чудеса, стоящие в старом городище. — А еще во граде Владимира особняком стоит златоглавая Десятинная церковь, усыпальница князей наших, с фресками и мозаиками, мрамором отделанная. Тут же Ольговы хоромы, а уж Софийский собор… этот всем храмам храм!
— Ну а ты-то там каким боком был, дед Радимир? — не выдержал Вовка, заерзав на лавке.
— Каким-каким… — прервался старец, нахмурившись. — Вначале я там отроком в младшей княжеской дружине хаживал, а потом в Чернигов, к Святославу ушел. Как раз два десятка лет на ту пору мне исполнилось. Времена тогда были недобрые, голод на окраинах Руси, смуты…
— Ты подробнее об этом, дед Радимир!
— Так я про это речь и веду, чадо. — Легкий подзатыльник нагнал голову Вовки, который даже и не подумал уворачиваться. — Нешто ты мыслил, что я для книг твоих свою никчемную жизнь буду излагать, а? Так вот, Ярославичи в те времена Русью правили. Изяслав на киевском престоле сидел, а молодшие братья его Святослав и Всеволод в Чернигове и Переяславле.
— Это те самые, в честь кого Русскую Правду назвали?
— Ну да, они. Вначале была Правда самого Ярослава, вирный Покон, да урок мостникам, а потом дети его свою часть добавили, что стала зваться Правдой Ярославичей.[89] Но до той поры еще годков пять оставалось, братья тогда не ссорились, а совместно на своих ворогов походами ходили. А таких множество у них было. Одних торков два раза били, да так, что силу их извели вовсе. Многие из степняков приняли тогда смерть от гонений, зимних морозов и мора. Однако свято место пусто не бывает, на их место в степь половцы пришли, а с заката полоцкий чародей угрожать стал.
— Колдун? Самый настоящий?
— Князь это полоцкий, Всеслав Брячиславич. Его еще Волхвом Всеславичем называли, а сказки по сию пору слагают.
— Это не тот, что в серого волка перекидывался? — Столкнувшись с героем сказок своего детства, Вовка приоткрыл рот от восхищения и перестал обращать внимание на грозные взгляды старца. Дед Радимир, глядя на блестящие восторгом глаза мальчишки, даже крякнул себе в усы, сдерживая улыбку, но отказать себе в удовольствии отвесить полновесный щелбан не смог.
— Тот, тот. Смелый он был и дерзкий. Молва шла, что, перекинувшись, Всеслав мог в одну ночь от Киева до моря добежать. А еще улизнуть тайком из осажденной крепости, обратившись зверем. Мог даже услышать в Киеве звон полоцких колоколов, которые он как раз в тот год снял с новгородского Софийского собора.
— А зачем снял-то?
— Кто его знает… Разбил сына Изяслава Ярославича, что князем там сидел, занял Новгород и наполовину его сжег. За год до того знамение было… — Радимир прикрыл глаза и по памяти попытался восстановить где-то услышанные слова. — «Была звезда превеликая,[90] с лучами кровавыми, восходила с вечера на заходе солнечном и пребывала так целую седмицу»… Привиделось Всеславу в этом что-то, вот он Псков и осадил, а следом и за Новгород взялся. А может… Может быть, он просто мстил новгородцам.
— За что?
— Так он правнук Владимира Крестителя и Рогнеды, которую тот насильно в жены взял, убив ее отца и разгромив Полоцк. В походе том новгородцы совсем не последними были.
— Ага, и что дальше?
— За поругание Новгорода Ярославичи вторглись в Полоцкое княжество и взяли Менск[91] на реке Менке, перебили всех мужей, а баб и детей взяли как военную добычу.
— Может, Минск?
— Да хоть как кличь.
— А что потом с Волхвом и Ярославичами было?
— Потом… В итоге сошлись войска на берегах реки Немиги ранней весной и седмицу стояли друг против друга в глубоком снегу. Наконец Всеслав начал битву, и сеча была столь кровавой, что все эти долгие годы сию усобицу самой страшной вспоминают. — Радимир покачал головой и непритворно вздохнул. — О-хо-хо… Полочане тогда отступили, но не были побеждены, обессиленные киевляне просто не стали их догонять. А спустя четыре месяца Ярославичи запросили Всеслава на переговоры, целовали крест, говорили, что не сделают ему худо. Тот поверил целованию и поплатился за это. Князья заманили Всеслава к себе, схватили его вместе с сыновьями и посадили в поруб…
— И?
— И беда одна в дом не приходит… На следующий год со степи на Русь пришли полчища половцев с ханом Шаруканом. Ярославичи вывели войска навстречу и были разбиты на реке Альте. Изяслав бежал в Киев. А Шарукан стал рыскать зверем по всем южным окраинам, жег, грабил, убивал, полон во множестве брал… Киевляне так возмутились бездействием княжеским, что собрали на торговой площади Подола вече и отправили посланцев к Изяславу, потребовали от него оружия и коней, сказали, что сами выйдут на поле брани и будут бить половцев. Но Ярославич… Что у него на уме было, неведомо. То ли побоялся, что наряду с вольными людьми смерды оружие возьмут, то ли пожадничал, однако отказал он посланцам. Начали тогда люди на вече наговаривать на княжеского воеводу, половина пошла с торга на его двор, а вторая прямо к князю под окна шуметь. Пошумели, пошумели да и освободили из поруба Всеслава. Хорошо, что Изяслав не послушал тогда дружину свою и не убил волхва. Лишь бежал со двора, а потом ушел к ляхам. В Киеве же смута началась, простая чадь грабить стала дворы неугодных, а новгородского епископа вроде даже убили.
— А полоцкий князь? — стал от нетерпения кусать губы Вовка.
— Поставили киевляне его на великое княжение, по нраву он был простому люду. Да и слава его как кудесника не считалась тогда греховной… Только вот продержался Всеслав в Киеве всего несколько месяцев. Через полгода возвратился бежавший Изяслав, да не один, а с ляхами и их королем Болеславом. Полочанин не захотел сражаться за чужой ему Киев и бежал к себе домой. А киевляне сызнова собрали вече, дабы направить посланцев к братьям Изяслава, чтобы те заступились за Киев и не пустили пришедших ляхов. Иначе, мол, переселятся в Греческую землю.
— Что, всем Киевом? — изумился Вовка.
— Да нет… — мотнул головой Радимир. — В том раздоре торговцы громче всех кричали. Именно им после поражения от половцев хуже всех пришлось, ведь путь в Царьград те вовсе перерезали. Вот эти торговцы и грозились уйти навеки. А простой люд мог и город зажечь, потому Святослав со Всеволодом и решили заступиться перед Изяславом за мятежный Киев. Лишь бы он ляхов с собой не привел.
— Да куда бы он делся…
— Вот именно, не послушался он их. Двинулся к Киеву с Болеславом, а сын его… Тот самый новгородский князь, которого Всеслав побил, первым вошел в город и побил киевлян во множестве. Кого казнил, а кого и ослепил. Стал опять Изяслав на великое княжение, перевел к себе торг поближе, дабы неусыпно надзор за вече творить, а Болеславу Киев отдал с окрестностями. Тот, как въехал в город, не сходя с коня, поцеловал Ярославича и потряс его за бороду, как холопа своего. А уж сколь золота от Изяслава получил… Хозяевами ляхи себя почувствовали, встали на кормление по городкам и селам киевским, начали грабежи и разорение в земле нашей. Ну люд и поднялся… Однако лишь тайно стали иноземцев избивать, в открытую еще боялись после того, как зачинщиков первой смуты казнили. Так что года не прошло, как Болеслав с войском вернулся к себе.
— А ты, дед Радимир? Тоже сражался с ляхами?
— Да разве мне кто позволил бы, чадо? Правда… довелось мне как-то сойтись с ними на узенькой дорожке. Вдвоем мы с дружком по каким-то делам в Киев из Чернигова отправились. Метель, помню, разыгралась, так мы в какое-то село завернули, дабы переждать там непогоду. А на околице, глянь, лях девку в исподнем куда-то тащит. Переглянулись мы с товарищем да и взяли того в мечи. Прямо со спины, он едва оглянуться успел — пьян был зело. Тут же коней развернули да и уехали с глаз долой, пока девка нас рассмотреть не успела.
— А дальше?
— А дальше молчали о том, чадо, даже меж собой не говорили. Так что и князья наши не гнушались на родную землю врагов привести, дабы власть свою сохранить. А ты говоришь про отсутствие вежи к волхвам. Они хоть веру предков берегли… Да что это я, тоже лютовали. Насмотрелся я следующие два года на их зверства. Неурожай как раз случился, люд простой возмущаться начал, что последнее семенное зерно отнимать стали, так они раздор тот возглавили и старую чадь резать стали… И в Киеве волхвы появлялись, и в Новгороде, и в ростовской земле…
— А кого ты простой и старой чадью называешь, дед Радимир?
— Хм… Простая есть смерды, свободные общинники, а старая… знать местная, те, кто управляет именем князя и дань собирает. Понятно ли, чадо?
— Ага, а что с тобой было в эти два года?
— Разное… А один раз ходили мы с черниговским воеводой Яном Вышатичем к Белоозеру.
— Это где?
— На полунощи, рядом с новгородскими землями.
— Так при чем тут Чернигов? — делано удивился Вовка.
— Так вся земля ростовская и суздальская под Святославом тогда ходила и к Черниговскому княжеству самое прямое отношение имела. Не перебивай! Так вот… забыл. — Радимир смущенно откашлялся и попросил своего собеседника подать ковшик воды. После того как старец напился, густо роняя капли себе на бороду, он отер губы и хмыкнул: — Старой чади глад в землях не коснулся, в своих руках держала она гобино… то есть все запасы хлеба и плодов разных. А вот простая пострадала. Тут и явились два волхва с Ярославля, стали смуту сеять и лучших мужей старой чади избивать. А особенно бабам их досталось.
— А им почему?
— Пустили слухи, будто бы именно они все запасы попрятали. Ходили эти кудесники по богатым дворам да обличали баб, доставая у них из спины либо жито, либо рыбу, а потом забирая имущество убитых себе. При этом извлекали сие, прорезая тела их за плечами.
— Ох… да уж, настоящие изверги. И кто же поверил таким фокусам?
— Целых три сотни таких за собой на Белоозеро привели. А Вышатич туда явился всего лишь с дюжиной отроков и священником.
— И ты с ними?
— И я в сей малой дружине был. Как стали воеводе нашему в ростовских землях отказывать в дани, ссылаясь, что волхвы большую часть лучших мужей и баб истребили, так и пошел он к волхвам. А дойдя, хотел вначале идти без оружия, да мы не пустили, боясь, что осрамят его. Взял тогда Ян лишь один топор да и пошел к смутьянам. Трое из них пытались помешать ему, да он обухом их разогнал, а мы остальных вспять повернули. Правда, священника нашего убили… Воевода тогда не стал никого преследовать, а вернулся в город и сказал белозерцам, что если те ему кудесников не выдадут, то он на кормление останется у них на год. Этого тем хватило, дабы привести к нему волхвов.
— Убили их?
— Не так просто было это сделать… Те сказались смердами князя черниговского и настаивали, что подсудны лишь ему. А сами пустились в богословские споры. Мол, верят они в антихриста, а Бог создал человека в мыльне, отершись ветошкой и бросив ее на землю…
— Ой, бред какой, — рассмеялся Вовка. — Так и повез их Вышатич к князю?
— Нет, пытал их, а потом отдал на растерзание родичам убитой чади. Кровная месть в тех местах еще признавалась княжеским судом как идущая от Бога и по правде.
— А что потом с тобой стало?
— Много чего, ушел я после всех мытарств послушником в Печерскую обитель под Киевом. Однако… душно мне там было, игуменом у нас Феодосий был, греческих порядков нахватавшийся. Отрекся он от всего земного и других к тому принуждал, считал, что лишь такие спасутся… Понимаешь, чадо, христианство всегда воспринималось мной как радостная весть. Евангелие есть гимн жизни, вера в перерождение человека к лучшему, в спасение грешника. Христос учил нас, что мы являемся сынами и дочерьми Господа Бога нашего, и молитва, что он нам дал, зовется «Отче наш». А Феодосий положил в основу всего страх Божий! И спасение человека, по его словам, лишь через страх этот произойти может. Мол, Господь кару насылает на нас, дабы очистить от скверны и избавить от грехов… А сами десятину себе от княжеских доходов вытребовали, городки и села в их владении, в митрополичьей епархии сами чинят суд и управу, собирают налоги с помощью своих же тиунов и десятинников…
— И что, Феодосий тоже таким был?
— Как ни странно, он один из немногих, кто был другим. Обличал иноков за леность, невоздержание. Ругал их за ропот на то, что на монастырские средства содержатся странники и нищие. А сам при этом питался сухим хлебом, водой да вареной зеленью без масла! Помощь страждущим — богоугодное дело, как можно роптать на нее? Эх… Он еще называл их блаженным стадом чернецов, что на всю Русь сияют! А им и пшеница с медом за ядь[92] не казалась. Возами в монастырь сыр, сочиво и рыбу свозили! А кто-то даже великое богатство в келье держал, но убогому ни куска хлеба не подал, наплевав на уставы Феодосия… Может, насмотрелись, как один из черноризцев на церковную потребу все истратил и обнищал вельми? Так вот, после этого он стал никому не нужен. Как заболел, так братия к нему лишь на восьмой день пожаловала, дабы за леность попенять… Попеняла так, что на третий день он совсем зачах! Были и другие: один инок искусно образа расписывал да продавал их на киевском торгу, а большую часть дохода с этого дела на обрамление церковных икон и в милостыню нищим тратил. Так нашлись среди братии такие, что заказы на его труды принимали, а монеты без зазрения себе присваивали! Сами служители церкви не желают избавляться от грехов своих — как же они могут исправить других?
— Так, может, Феодосий их как раз перевоспитывал, а?
— Может, и так… Однако ворчу я по-стариковски на него не за это. Постом и молитвами лишь свою сущность исправить можно, но не других! Спасутся именно те, кто делами скверну из нас изымет! Кто дух свой, сострадая ближнему, над желаниями тела поставит! А те, кто вериги на тело надевает, но мимо страждущего проходит, лишь сожаления достойны! А уж то, что грызня идет меж нашими князьями, епископами и Царьградом, так по мне это яйца выеденного не стоит. То, что базилевс почитает себя владыкой над землями нашими, а князя киевского кличет стольником… И что назначает митрополитами греков, а те переписывают к своей выгоде историю нашу и свои догматы насаждают, еще не означает, что наши патриархи и святые милее нам будут. Еще Христос говорил своим ученикам, что после него «придут к пастве волки в овечьих шкурах». Так что и те волки, и другие, каждый лишь о своей выгоде печется… Не нужны нам такие поводыри!
— Ты про священников, дед Радимир? А как же без них?
— Ох, никак, чадо, в этом-то и дело! Господь избрал апостолов своих, дав им власть отпускать грехи и вершить таинства не силой своей, но благодатью Святого Духа. А благодать сия уже передавалась от апостолов к епископам, а от тех к священникам в таинстве рукоположения. Как по-другому получить ее? Какой архиерей храм наш будущий освятит или хотя бы антиминс для него, если мы в схизму ударимся и священников отринем? А ведь до освящения церкви надо еще чин на основание храма исполнить, на поставление креста, на благословление колокола. Как без них? И ладно бы одного меня с такими мыслями в еретики записали, но ведь между мирянами раздор пойти может… Вот и получается, что с ними тяжко, но и без них тошно.
— А как же быть?
— Своего священника нам надо, а не назначенного. Придется на поклон в ростовскую или черниговскую епархию идти, чтобы ставленую грамоту[93] получить. А там на новгородское вече ссылаться, где народ вместе с князем издавна епископа себе выбирали… Миряне меня на путь сей многотрудный толкают, однако в священники могут посвятить только диакона, а короткий срок пребывания в сем чине возможен лишь при благословении архиерея…
— Это тот же епископ, да? А он может не согласиться?
— Все может быть, однако можно сослаться, что другого священника языческая часть общины может и не принять. А просвещение окрестных народов для архиерея на одном из главных мест стоит. Но даже если расположение ко мне он иметь будет, то все одно бесчисленные трудности ждут меня на этом пути. По Студийскому уставу, что Феодосий на Руси ввел, много книг для богослужения требуется, а уж знать сколько всего надо! Хотя для начала достаточно будет иметь Евангелие и Псалтирь.
— А что? Кроме этого еще что-то есть? — недоуменно взмыли вверх мальчишечьи брови.
— Евангелие — это Слово Божие, в Апостоле про деяния святых апостолов излагается, Псалтирь — книга пророка и царя Давида. А еще есть следованная Псалтирь, служебник с богослужебными текстами, требник с чинопоследованиями таинств…
— А…
— Изложены там чины отпевания и погребения усопших, чин освящения воды, молитвы по рождении младенца, при его наречении. Понятно, чадо?
— Угу, — часто закивал головой Вовка. — Как крестить, как венчать…
— Так вот, кроме того нужна минея общая с молитвословиями всем святым, триодь постная и цветная с песнопениями… А в соборных церквях еще и шестоднев с ними же, стихирарь с собраниями духовных стихов и типикон, он же церковный устав.
— Э… дед Радимир, а про отношение твое к этим… архиереям никому говорить не надо, да?