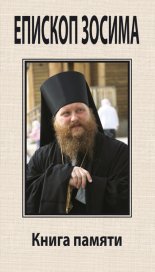Если судьба выбирает нас… Валерин Михаил

Читать бесплатно другие книги:
Однажды Венера поддалась на уговоры своей подруги Персефоны и спустилась с Олимпа, чтобы развлечься ...
9 мая 2010 года, на 47-м году жизни, отошел ко Господу владыка Зосима, епископ Якутский и Ленский (в...
Главное дело нашей жизни – это собственно жизнь. Так в чем же суть дела?Вячеслав Пьецух: «Во-первых,...
В книге рассматриваются основные темы, которые входят в программу курса «Управление персоналом». В ч...
В книге рассматриваются социальные, социально-экономические и психологические факторы и закономернос...
Ведение рыбного хозяйства является одним из источников поступления товарной рыбы в виде живой и парн...