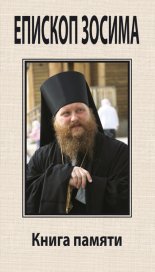Если судьба выбирает нас… Валерин Михаил

Следом стала выступать «встречающая» сторона: премилый романс исполнила одна из сестер милосердия, сыграл на рояле вальс «Амурские волны» худой штабс-капитан из «контуженых» со второго этажа.
Наконец настала наша очередь…
Проковыляв на костылях на сцену, Литус уселся за клавиши. Мы с Чусовым расположились на вынесенных на сцену стульях…
Три раза хлопнув по гитаре ладонью, я заиграл ритм. Потом вступил Генрих, и следом повела основную тему сладкоголосая гармошка нашего хорунжего…
Идея, возникшая в моей бедовой голове, была навеяна двумя случайно проскочившими в ней словами «Сан-Ремо» и «гармоника». Эту грустную и забавную песенку я знал еще с девятого класса, когда для школьного спектакля мы учили ее в оригинале, подражая пантомиме Вячеслава Полунина…
И вот впервые с тех пор я запел, тщательно выговаривая слова на итальянском:
- Blue canary di ramo in ramo,
- Gorgheggi al vento il tuo richiamo.
- Blue canary attendi invano
- Che torni al nido chi ando lontano.[129]
10
Как-то незаметно втянувшись в неспешное течение госпитальной жизни, я с удивлением отметил, что мне здесь даже нравится.
Полноценный сон, трехразовое питание, прекрасный уход и забота со стороны младшего персонала — по сравнению с Варшавой просто небо и земля. Еще тут замечательные врачи: Евангелический госпиталь всегда славился своими специалистами.
Масса свободного времени, которое я трачу на чтение и игру на гитаре, размышления и разговоры с Генрихом.
Вечерние посиделки с песнями и байками, от которых я не в восторге, на фоне всего этого кажутся мелким недоразумением.
Два дня в неделю меня навещают родственники: каждую среду приезжают мама с Федечкой, а по субботам к ним присоединяется отец. Они привозят еду и книги, а главное — отвлекают меня от скуки и монотонности, присущей всем медицинским учреждениям.
Намедни даже прислали портного, дабы я смог выправить новое обмундирование. Не везет мне, однако, на военную форму: один комплект был практически разодран в клочья в момент моего попадания в тело Саши фон Аша, теперь вот второй пришел в негодность.
Суета сует…
А вообще жду не дождусь момента, когда мне наконец-то разрешат покинуть эти гостеприимные стены. Ведь до сих пор я знакомлюсь с окружающим миром как-то фрагментарно. Фронт, госпиталь, поезд, вновь госпиталь… Моя свобода передвижений, так или иначе, все время ограниченна.
Прогулки по парку в Варшаве или в скверике здесь не в счет…
Хочется идти без цели и раздумий куда глаза глядят, чтобы наконец ощутить: каков он, этот «чужой» 1917 год!
Двадцатое число — священный день…
День выдачи жалованья!
Сегодня утром нашу палату посетил один замечательный во всех отношениях человек: высокий подтянутый поручик с небольшим саквояжем в руках.
— Стра-афстфуйте-э, го-оспода-а! — с характерным акцентом заговорил вновь прибывший. — По-осфольте предстафитца-а: атъюта-ант сапасно-офа батальо-она Ма-асковскофа восьми-фа кренате-орскафа по-олка пору-учик Юванен. Исполняя-аю такше казначейски-ие опясанно-ости!
— Очень приятно. Подпоручик Литус.
— Прапорщик фон Аш.
— Казенна-ая пала-ата, соблюта-ая фсе формално-ости, ны-ыне перечисля-ает фа-аше шалофани-ие ф батальо-он. Ф мои ше опясанно-ости фхо-отит фытатча де-энешного дофолстфи-ия, ка-аштого тфатца-атого тчисла-а ка-аштого ме-эсятца. — Офицер положил фуражку на стол и раскрыл саквояж. — От фас потребуетца-а ра-асписатца ф тре-ех эксемпля-арах фе-этомости.
— Спасибо, мы знакомы с процедурой, — поторопил долгожданный момент Генрих.
— Токта-а при-иступим…
Выдав причитающиеся мне за июнь — июль сто двенадцать рублей и рассчитавшись с Литусом, поручик собрал бумаги и степенно удалился, пожелав скорейшего выздоровления.
Какой сервис, однако!
Позже от других офицеров, лежавших в госпитале, я узнал об их мытарствах, связанных с получением жалованья, и только тогда осознал, как же нам повезло.
Раненому офицеру следовало лично доставить бумагу, полученную от эвакуационной комиссии, в офицерское собрание Московского гарнизона. Там, выстояв очередь и сдав бумагу, надо написать прошение, с которым следует через полгорода тащиться в Казенную палату. И наконец после стояния в длиннющей очереди, вымотавшись и морально и физически, вы получите свои кровные.
Мрак…
Издевательство, да и только! Ведь многие раненые могут передвигаться только на костылях, лежачим, которые не могут явиться в собрание лично, жалованье не платят вовсе — они полностью находятся на попечении госпиталя.
Если бюрократия ставит в такие условия офицеров, то каково же отношение к нижним чинам?
11
День спустя мой послеобеденный сон был прерван шумом и топотом за дверью.
— Вы к кому? — раздался голос нашей «милосердной» Мэри.
— К подпоручику Литусу и прапорщику Ашу!
— Не пущу! Они почивают! И не шумите здесь! Это госпиталь, а не плац! Раненым нужна тишина!
Дальше спорщики заговорили на полтона ниже, и до меня долетали только обрывки фраз:
— Срочно…
— Обождите…
— Никак невозможно…
Вот черт! Не дадут поспать!
Я встал, нашел ногами тапки, надел халат и, стараясь не потревожить мирно спящего Генриха, вышел в коридор.
Отважная маленькая Мэри решительно не допускала к нам здоровенного самокатчика в замызганном кожаном реглане и с большой сумкой через плечо.
— Я — прапорщик фон Аш! Что происходит?
— Здравия желаю, вашбродь! — вытянулся скандалист, приветствуя меня по всей форме, несмотря на то, что одет я был сугубо по-больничному. — Вам пакет из штаба округа!
В первый момент я немного растерялся, гадая, зачем штабу понадобилась моя скромная персона, однако быстро пришел в себя — пакет был не мне «лично», а нам с Генрихом.
Точнее, не пакет, а пакеты…
Ибо посланий было два: одно — мне, одно — Литусу.
Тем более что самокатчик, вполголоса пообщавшись с Мэри, отправился на второй этаж — разыскивать других адресатов.
Значит, я не один такой «счастливец». Интересно, к чему бы это?
Вернувшись в палату, я разорвал грубую вощеную бумагу и извлек на свет сложенный вдвое лист гербовой бумаги с водяными знаками: «Штаб Московского военного округа настоятельно приглашает Вас на торжественное награждение, кое состоится августа 28-го числа 1917 года в зале Московского Малого театра по адресу…»
Награждение? В театре? Ничего не понимаю…
Подожду, пока проснется Литус. Может быть, хоть он мне что-нибудь объяснит?
Мое недоумение действительно быстро рассеялось после разговора с Генрихом. Оказывается, награждения в публичных местах — очень даже распространенное явление. Все дело в том, что это не только и не столько воздаяние храбрецам за их подвиги, а скорее рекламно-благотворительная акция.
Народ осязает своих героев, но и попутно жертвует денежки на военные расходы или на помощь вдовам и сиротам — на подобных мероприятиях собирался весь цвет московского общества.
Я, по правде говоря, не совсем понимал, какой смысл тащить раненых из госпиталя на всеобщее обозрение, но, как говорится, «Tempora mutantur et nos mutamur in illis».[130]
Значит, придется меняться в соответствии с этими самыми временами.
12
«Теперь я — Чебурашка…»
Вот ведь привязалась дурацкая песенка, весь вечер в голове крутится…
То есть теперь я — подпоручик… Судьба распорядилась так, что вслед за «Георгием» на грудь мне на погоны упала вторая звездочка…
Нет, вы не подумайте, что я отношусь к этому несерьезно…
Просто…
Просто опять накатило ощущение нереальности всего происходящего. Эдакое «дежавю», как от какого-то нескончаемого сна на военно-историческую тему…
С другой стороны: чего еще ожидать после того, как я пережил весь этот цирк с церемонией награждения? Тут у кого хочешь помутнение рассудка начнется.
Вот представьте: вы стоите на сцене Малого театра в компании четырех десятков калек, и вам, под бурные овации переполненного зала, вручают маленький белый Георгиевский крестик. Вручает не кто иной, как великий князь Михаил Александрович, напутствуя словами:
— Поздравляю вас подпоручиком!
Я думал, что у меня мозг взорвется. Всю дорогу до театра я был еще как-то в сознании. Наверное, ветерок обдувал мою разгоряченную голову, не допуская перегрева системы…
Все остальное — как в тумане: и торжественное богослужение, и награждение, и последующий концерт…
Кажется, пел сам Шаляпин.
Более или менее я пришел в себя только на обратном пути, когда лихач[131] вез нас с Литусом в госпиталь. Под цокот копыт по булыжным московским мостовым почему-то думалось о том, какое будущее ждет этот измененный мир. Ведь война идет в гораздо более благоприятном для России варианте. Революцией и не пахнет…
А значит, миллионы людей, которых уже не было бы в живых, которых в дальнейшем погубила бы Гражданская война и голод, все еще ходят по земле, и будущее совершенно непредсказуемо.
Все мои знания обесцениваются с исторической точки зрения.
Однако если рассуждать с позиции культуры — я теперь носитель традиций СССР, с его песнями, книгами и фильмами. Ведь теперь многое из того, что я помню, никогда не будет создано из-за отсутствия предпосылок да и самих создателей.
Возможно, в этом мире уже не будет ни Эдуарда Успенского, ни Чебурашки, ни песенки Шаинского, которая так и вертится в голове…
Кстати об искусстве…
Моя шутка с песенкой «Блю канари» получила свое продолжение…
Конечно, о том, что исполнение данной песенки было одним большим приколом, никто, кроме меня, не догадывался. Честно говоря, было немного обидно, что никто не может оценить всего юмора ситуации.
Хотя ценители все же нашлись…
Я как раз совершал вечерний моцион в сквере за больницей. Сегодня прогулка была более продолжительной, так как утром шел дождь и насладиться свежим воздухом в должной мере не удалось.
Находившись, я присел на скамейку — передохнуть. Сейчас немного отдышусь — и в палату. Погода портится, с каждым днем холодает, хотя летнее тепло пока не спешит покидать Москву.
А ведь завтра — первое сентября! Учебный год начинается. Мое семейство уже вернулось в город из нашего имения в Покровском: ведь Федечке завтра в гимназию.
Мои размышления были прерваны появлением санитара.
— Вашбродь, стало быть, господа просили вам передать, — запинаясь, пробубнил мужик, сунув мне в руку белый картонный прямоугольник.
Визитка…
Написано «Фридрих Томас»…
— Постой-ка! Какие господа?
— Дык вон те! — Санитар ткнул кривым толстым пальцем в сторону церкви Грузинской Иконы Божьей Матери.
Я обернулся. У кованой решетки церковной ограды стояли двое прилично одетых господ. Первый — среднего роста, в темно-сером костюме — держал в руках широкополую шляпу, открыв ветру длинные вьющиеся волосы. Второй…
Второй был негром… В светлом костюме и котелке, он стоял, опираясь на щегольскую трость.
Ух ты! Это кто ж такие? Кому же не терпится со мной познакомиться?
— Попроси их подойти! — велел я санитару.
— Добрый вечер, господа! Чем обязан?
— Позвольте представиться… — Негр снял с головы котелок и поклонился: — Фридрих Томас, антрепренер!
Черт! Как я сразу не догадался? Это же знаменитый на всю Москву Мулат Томас, владелец кабаре «Максим» и театра «Аквариум»,[132] что на Большой Садовой. Его имя постоянно попадалось в разделах светской хроники столичных газет, когда я штудировал прессу.
— Кошевский Александр Дмитриевич,[133] артист оперетты, — в свою очередь представился другой посетитель.
Вблизи он казался старше. Лет около сорока, пожалуй.
— Простите нашу назойливость, господин прапорщик… — вновь вступил в разговор Томас.
— Подпоручик…
— Еще раз прошу прощения! Нас неверно информировали… Однако давайте перейдем к сути нашего знакомства. От некоторых очень уважаемых мною людей я услышал о некой комической итальянской песенке, исполненной несколько дней назад на концерте в этой больнице.
— Госпитале…
— Да-да, простите! Так вот, мы с господином Кошевским решились нарушить ваш покой покорнейшей просьбой. Не будете ли вы так любезны ознакомить нас с данным произведением — хотя бы в письменной форме, — дабы мы могли прославить сие достойнейшее творение на стезе лицедейства? Дело в том, что Александр Дмитриевич снискал себе славу не только непревзойденного артиста оперетты, но и исполнителя комических куплетов. Узнав же о вашей «Голубой канарейке», он загорелся желанием познакомиться с автором и получить ваше соизволение на исполнение песни.
— Видите ли, господа, я не являюсь автором этой песни… — Пауза, взятая мною под видом нерешительного молчания, на самом деле была вызвана совсем другой причиной…
Черт! Чего бы такого соврать? Воспользуюсь готовой отмазкой!
— В детстве, когда мы жили во Владивостоке, я услышал эту забавную песенку от итальянского моряка. Моя няня (во вру — няня) была так любезна, что записала ее на память (гы! — суровый однорукий дядька-казак, записывающий песенку на итальянском, живо промелькнул перед моим внутренним взором). — Переведя дух, я продолжил: — Однако я с радостью передам вам эту песню — ведь в исполнении столь выдающегося артиста она заиграет новыми красками.
На том и порешили…
На следующий день мне доставили нотную тетрадь, а еще через день меня вновь навестил Кошевский. На этот раз в сопровождении оркестратора (так он и выразился) театра «Аквариум» господина Пухлевского Евгения Антоновича, который на самом деле оказался Евно Абрамовичем.
Вместе мы обсудили тонкости исполнения «Блю канари» на различных инструментах, а Пухлевский пообещал представить конечный результат на мое рассмотрение через несколько дней.
Ладно, посмотрим, что у них получится!
13
Со всеми этими музыкальными хлопотами время пролетело незаметно. Близилось 15 сентября и очередная эвакуационная комиссия, которая решит мою дальнейшую судьбу.
Я морально готовился к скорому отбытию на фронт…
Хотя на самом деле фронт не покидал меня все это время — он был со мной, таясь где-то в глубине души. Стресс, который испытывает человек на войне, становится как бы частью его сознания. Психика адаптируется к экстремальному состоянию, да так, что на обратный процесс уходят годы.
Однажды я все это уже пережил — в той прошлой жизни, в будущем 1995 году… Различия все же есть. Тогда я был моложе, глупее и бесшабашней. И война была иной… И понимал прекрасно, что с моим ранением меня комиссуют.
Тут все иначе…
Даже со стороны заметно, что офицеры, готовящиеся к повторному отъезду на фронт, меняются с приближением решающей даты: кто-то становится более задумчив и молчалив, кто-то излишне воинствен и шумен. Люди готовятся вновь стать актерами страшного спектакля Великой войны: бессмысленного и беспощадного…
Что-то я размяк, разнюнился. Настроение с утра поганое, что-то гложет внутри непонятное. Тянет и не отпускает.
И погода отвратительная — еще с ночи зарядил дождь. На улице сыро и холодно, и отправиться на прогулку нет ни желания, ни возможности.
Сидя у окна, я отстраненно наблюдаю за барабанящими по стеклу крупными каплями, будто размывающими вид из окна на сентябрьскую Москву.
В таком мрачном настроении ожидаю приезда матушки — сегодня среда, отведенная, согласно условному внутрисемейному графику, для посещения меня, болезного.
Из дождливого марева вынырнула пролетка и остановилась под окнами госпиталя. Это не ко мне гости? Не разберу — кто? Приехавший укрылся под зонтом и заспешил ко входу в нашу богадельню, оставив извозчика мокнуть в ожидании.
Раз извозчик ждет, то посетитель к нам явно ненадолго, а значит, не ко мне.
Как оказалось, я ошибся.
В коридоре послышался торопливый перестук каблучков, перемежающийся с чьими-то тяжелыми неторопливыми шагами, скрипнула дверь, и в палату вошла наша Мэри.
— Александр Александрович, к вам посетитель!
В распахнутую дверь как-то боком просочился крупный бородатый мужик в сером кафтане, теребивший в руках смятый картуз.
Я с некоторой задержкой, но все же узнал в нем нашего дворника из Ермолаевского переулка — Архипа Герасимова.
— Здравствуйте, стало быть, Ляксандра Ляксандрыч! Меня барыня послала, чтобы я, стало быть, вам сообчил…
— Здравствуй, Архип… Чтобы что сообщил?
— Стало быть, старая барыня, бабка ваша Ирина Натольевна, — дворник вздохнул и размашисто перекрестился, — нынче под утро преставилась…
Дом. Милый дом…
Желтый особняк с белой лепниной на фасаде и маленьким садиком за кованой чугунной решеткой.
Фамильное гнездо в двух шагах от Патриаршего пруда или, если точнее, от бульвара Патриаршего пруда. Городская усадьба конца XIX века, если говорить официально.
Этот дом построил мой дед — генерал-майор Николай Егорович фон Аш на месте пепелища, оставшегося от дома Бриткиных,[134] уничтоженного пожаром в 1884 году.
Выбравшись из пролетки вслед за Архипом, я на мгновенье остановился, чтобы полностью осознать для себя этот привычно-непривычный образ. Дождь почти прекратился, и ничто не мешало синхронизации новых воспоминаний с моим новым «я», вызвавшей сильное душевное волнение.
Пройдя через кованую калитку и поднявшись на крыльцо, вновь застываю в нерешительности — рука не поднимается открыть дверь.
Сделав над собой усилие, вхожу, и…
Голова кружится от знакомого запаха. Пахнет домом… Домом и еще тысячей других неосознаваемых запахов: уютом, теплом, защищенностью…
Хочется закрыть глаза и до отказа наполнить легкие этим приятным, сладким ароматом.
Так и стою в сенях, любуюсь: на стены с «французскими» обоями в белую и зеленую полоску, обшитые понизу деревянными панелями, на высокие двустворчатые двери из мореного дуба, на резные столбики лестницы…
Взгляд натыкается на большое зеркало, накрытое темным покрывалом…
Смерть в доме…
Из боковой двери, ведущей на кухню, выбегает наша горничная — Ульяна.
— Ой! — Сложив руки на груди, девушка в испуге застыла. Не узнала, наверное.
— Здравствуй, Ульяна! А матушка где?
— Ой! — вновь восклицает она. — Александр Александрович приехали! Сейчас, бегу… — И, что характерно, убежала. Вверх по лестнице.
Вот чумовая…
Водружаю фуражку на вешалку и, подавив пришедшее из конца XX века желание разуться и надеть тапочки, поднимаюсь вслед за ней, на ходу расстегивая ремень и портупею.
Наверху меня встречает мама… В черном платье с накрахмаленным воротничком она стоит, держась рукой за перила, и молча смотрит покрасневшими от слез глазами.
Отшвырнув амуницию в стоящее рядом кресло, бросаюсь навстречу матери и обнимаю, прижимаю к себе…
— Мама…
— Сашенька… Мальчик мой… Горе у нас…
Мне — старшему в двух ипостасях — она кажется такой маленькой и беззащитной. А может быть, причина в том, что «мы» стали старше…
Ведь каждый раз, когда судьба отнимает у нас близкого человека, мы становимся старше — такова плата за взросление.
Интересно, сколько же лет добавила мне потеря моей «прошлой» жизни: родителей, родных, друзей…
Господи! Тоска-то какая…
Глава восьмая
1
«А я иду, шагаю по Москве…»
Если быть совсем точным, то «гуляю по Москве». Скоро уже месяц, как волею эвакуационной комиссии и при попустительстве врачей я переведен на домашнее лечение под надзор нашего семейного доктора.
Многоуважаемый Андрей Михайлович посещает нас ежедневно, кроме воскресенья, с целью изведения меня своими занудными вопросами о состоянии здоровья. Кроме того, каждый вторник и пятницу я вынужден мотаться в госпиталь на осмотр к не менее уважаемому мной доктору Вильзару.
Никогда, знаете ли, не был столь поглощен заботой о собственном самочувствии, как в последнее время, ибо количество медосмотров превышает все разумные пределы.
Лучше бы в госпитале остался, ей-богу! Там один обход с утра — и весь день свободен!
Хотя, конечно, дома — лучше. Лучше, чем в гостях, и гораздо лучше, чем в лазарете!
Самое главное, что я наконец свободен! Путь ненадолго… А посему — спешу насладиться свободой передвижения.
Если погода позволяет, я по несколько часов кряду гуляю по городу, каждым вздохом, каждым взглядом, каждой частичкою своей души впитывая эту волшебную старую Москву. Москву, не тронутую ни безжалостною рукою Сталина, ни равнодушным рационализмом застоя, ни жадными руками «новых русских».
Сижу на скамеечках возле Патриаршего пруда, прохаживаюсь по Козихинским переулкам среди поредевшего в связи с войной студенческого люда. Здесь, на Козихе, учащихся высших учебных заведений всегда было немало — вокруг полно дешевого, но приличного жилья.
Даже стишок такой был:
- Есть в столице Москве
- Один шумный квартал —
- Он Козихой Большой прозывается.
- От зари до зари,
- Лишь зажгут фонари,
- Вереницей студенты здесь шляются…
И я — шляюсь! Шляюсь по Малой Бронной — от «Романовки»[135] на углу Тверского бульвара и до доходного дома Страстного монастыря на Большой Садовой. Заглядываю на Спиридоновку, дабы насладиться суровым палаццо[136] в венецианском стиле работы архитектора Жолтовского или готической роскошью морозовского особняка.
Пью чай в трактире Пронькина рядом с палатами Гранатного двора, вкушая знаменитые сырные пироги «а la Pronkinne».
Если есть настроение, иду на Большую Никитскую, где Московский университет, Консерватория и Зоологический музей. Или на тихую и респектабельную Поварскую, где, соперничая друг с другом, утопают в осенней листве роскошные доходные дома и особняки…
А ежели идти в сторону Тверской, то и в родном Ермолаевском переулке есть на что посмотреть: свежепостроенное здание Московского архитектурного общества или совершенно сказочный особняк Шехтеля.
Навещаю своих новых знакомцев в театре «Аквариум» — Мулат Томас в порыве благодарности осчастливил меня «вечной контрамаркой» во все свои заведения.
Кстати, имел удовольствие внимать «Блю канари» в исполнении Кошевского.
Волшебно…
Все же он талантливейший человек и хороший профессионал. Не чета мне, юристу-песеннику начала XXI века.
На фоне городских красот и достопримечательностей не менее интересны люди, этот самый город населяющие: суровые дворники и бравые городовые, солидные купцы и услужливые торговцы, беспечные студенты и шустрые гимназисты.
По улицам ходят нарядные офицеры и бесцветные служащие, простецкие мещане и холеные буржуа.
Совсем иной народ живет на Пресне: бойкие лоточники с Тишинки, шумные цыгане с Грузин. Еще дальше — заводские районы 1-й Пресненской части: Трехгорка и Рабочий поселок, удручающие суровой нищетой фабричных кварталов.
Хотя контрастов хватает и так: те же мальчишки-газетчики на фоне ухоженных дитятей, что с мамками и няньками гуляют по бульвару Патриаршего пруда или на Собачке.[137]
Покажите мне Москву, москвичи!
Дома — хорошо… Тепло, спокойно, уютно…
Если я не гуляю или не предстаю перед бдительным оком последователей Гиппократа, то основным времяпрепровождением является чтение.
Читаю я либо у себя в комнате, либо в гостиной, сидя на массивном кожаном диване. Сенсорный голод для человека информационного века на фоне второго десятилетия века двадцатого — проблема номер один.
Проблема номер два — это скука.
Если в госпитале я не стремился к общению, то теперь мне этого самого общения жутко не хватает. Эмоциональные и отстраненные разговоры с матушкой или утомительно-назойливое общество младшего брата для этого абсолютно недостаточны.
Отец целыми днями пропадает в Мытищах: управление таким предприятием, как КЗВС, — дело хлопотное. Завод выпускает штабные и санитарные автомобили, грузовики и шасси для броневиков — продукцию для воюющей страны совершенно необходимую.
Вся семья собирается только за завтраком. Здесь и общаемся, обсуждаем домашние дела, вести с фронта, политические новости. Затем за папой приезжает авто, и он отбывает на службу, с которой возвращается поздним вечером.
Федечка идет грызть гранит науки в гимназию, чтобы по возвращении донимать меня просьбами «рассказать про войну». Братец постоянно уговаривает встретить его после учебы, тайно мечтая, чтобы однокашники наконец лицезрели героического меня. Причем желательно при полном параде, с шашкой и орденами!
Матушка хлопочет по дому, разбирает бумаги от управляющего имением или идет в гости к подругам.
Хуже, когда ее подруги идут в гости к нам…
В этом случае мою скромную персону рекламируют как самый чудесный из «чудо-йогуртов», с глубоко законспирированным желанием найти мне подходящую партию.
Я очень быстро научился избегать подобных презентаций, ссылаясь на какое-нибудь недомогание, дабы отправиться на прогулку или продолжить штудирование домашней библиотеки.
2
Кроме чтения я веду эдакий кондуит. «Секретную» тетрадку, которая хранится в запирающемся на ключ ящике моего письменного стола. По ночам, когда весь дом уже спит, я при тусклом свете настольной лампы чирикаю чернильным карандашом — какие изменения в истории я обнаружил по сравнению с тем будущим, которого в этом мире уже не будет.
Например, нынешний комфлота — великий князь Георгий Александрович. Жив-здоров и замечательно этим самым флотом командует. Да и с чего бы ему помирать? Николая террористы ухлопали, а значит, никакого кругосветного путешествия[138] не было. И чахотки, от которой Георгий Александрович умер в 1899 году, — тоже не было.
Или Столыпин.[139] Должность премьер-министра занимает вот уже двенадцать лет. И ничего — справляется. Тем более что террористы на него хоть и покушались, но крайне неудачно. Царствие им небесное.
С террористами тут тоже — отдельная песня. Все более или менее значимые фигуры, важные для укрепления государства Российского, охраняются — будь здоров! Ни одного удачного теракта, даже частично удачного — в том смысле, что жертва не убита, а хотя бы ранена.