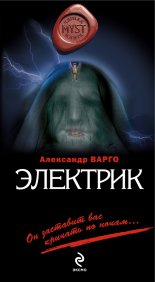Одна ночь (сборник) Овсянников Вячеслав

Загинайло косо умехнулся:
— Самурай — сам умирай. А по-нашему — умирать, так с музыкой.
На этом допрос прекратился. Вопросы иссякли. Все было ясно, как божий день. Психиатр была последней в медкарте, на ней завершалась череда испытаний. Осталось получить заключение главврача медкомиссии: прошел — не прошел Сциллу-Харибду. Вскоре узнали: все восемь офицеров признаны годными для службы в органах МВД.
III
Загинайло опять пошел ночевать на водолазный плотик. По Большой Морской. Посреди тротуара на раскладном стульчике старик в тулупе, препоясан веревочкой, на голове шлем-миска с шишаком. В руке плакат: оперный певец Петров. Помогите русскому певцу, издыхающему голодной смертью, отдавшему жизнь служению родине и искусству. Певец, задрав старое, небритое лицо к небу, пел арию Сусанина из оперы Глинки «Жизнь за царя». Загинайло сунул ему червонец. Певец поблагодарил низким поклоном, так, что шлем-миска чуть не свалилась с его головы, приложил руку к сердцу, спрятал подаянье в тулуп и продолжал петь. Загинайло отошел от него. Раздался женский визг и звон разбитого стекла. Из магазина выскочил бродяга, рот оскален, в зубах кость с остатками мяса, только что стащил с прилавка в мясном отделе. За ним гнались три дюжих мясника в фартуках и с ножами. Беглец вихрем промчался мимо Загинайло, мясники за ним. Все, и беглец, и погоня, исчезли в узеньком дворике между домами, похожем на щель. Бродяга, споткнувшись, упал. Мясники настигли, началось избиение. Били ногами. Слышались звуки ударов и стоны жертвы. Загинайло пошел туда, но его опередили. У тротуара затормозил патрульный милицейский газик, и два молодца, вооруженные дубинками, быстро навели порядок. Всех четверых повели к машине. Бродягу пришлось волочь, он ревел и колотил ногами об асфальт, из его неразборчивых криков с трудом можно было понять, что у него переломаны все ребра, отбиты печень, почки и мочевой пузырь, а потому он требует денежного возмещения. Бродягу кинули в кузов, как мешок костей. Мясников, потолковав с ними минуту, отпустили, и они друг за другом, в широких клеенчатых фартуках, с зажатыми в руке разделочными кинжалами, вернулись в свой магазин.
Загинайло на автобусе добрался до порта. Только рот раскрыл, пропустили беспрепятственно и паспорта не спросив. Тем же путем на плотик. В водолазной хибаре никого. Жратва оставлена: тушенка, хлеб. Заморил червяка. Лег на топчан… Его разбудил громкий голос бригадира водолазов Абдураимова.
— На глубине шестьдесят метров! — восклицал с горечью в голосе Абдураимов. — Эх вы, шланги! Четвертый за осень!
— Ты чего? — спросил, сев на топчане, Загинайло. Он озирался, ища собеседника водолаза, но в хибаре, кроме них двоих, никого не было. — С кем разговариваешь?
— С тобой, с кем же еще, — удивился Абдураимов. — А ты дрыхнешь. Приютил подлеца, а мне слово сочувствия от тебя надо услышать. И чего ты орешь во сне? Бредишь. Споришь с кем-то, чего-то доказываешь, требуешь ответа на свой вопрос. Обожрался пайком, что ли? Вот и кошмары…
— Да. Снится дребедень какая-то, — согласился Загинайло. — А ты-то чего заговариваешься, у тебя-то что случилось? — спросил он, зевая. — Любимая кошка начальника порта опять пропала, что ли?
— Какая там кошка! — печальным голосом отвечал Абдураимов. — Еще один мой водолаз со дна не вернулся. Скоро один тут на плоту останусь. Эх, где вода, там и беда! — заключил он мрачно, словно подводя итог всему своему горестному жизненному опыту…
Утром нового дня Загинайло опять посетил отдел кадров в доме № 145 на Литовском проспекте. Он принес благоприятное заключение медицинской комиссии. Начальник отдела кадров отсутствовал, хотя, казалось, его исполинские седые усы висели в сильно накуренном помещении, оставленные надзирать над своими молодыми инспекторами. Делом Загинайло занимался рыжий, как подсолнух, младший лейтенант Лебеда. Здесь звали его просто Рыжик. Он доброжелательно выслушал Загинайло.
— Ну, дело в шляпе! — воскликнул он. — Поздравляю! Через денька три и ксива будет готова. В четверг поеду в Управление. А ты пока, чтоб время не терять, на склад обмундирования дуй. Бумажечку дам. Это за Финляндским вокзалом. Арсенальная улица. Там всегда машины на километр стоят. А еще тебе ориентир — пожарная каланча. Башня такая высоченная, красная, далеко видно. Иди на нее, не сворачивая, и как раз на склад напрешься. Найдешь. Не в лесу же. Получишь новую форму. Советую насчет мундира: не брать готовое. Шьют-то по стандарту, на одну фигуру, усредненный образец. Да и шьют-то уголовники. Готовое — дрянь, не бери, а лучше взять материал, у нас свое ателье для офицеров, высший класс сошьют, как в Париже. И льготно, со скидкой. Вот на мне! Смотри! Как влитой! — рыжий инспектор вскочил из-за стола, приосанясь и выпятив колесом грудь. Новенький, мышиного цвета мундир сидел на нем весьма элегантно, даже щегольски.
Загинайло не стал отрицать преимущество индивидуального пошива. Взяв у инспектора Лебеды направление на склад, он повернулся уходить.
Только он хотел взяться за дверную ручку, дверь рванули снаружи, и в помещение влетел, как вихрь, грузный майор, глаза-шары, нос — багровая груша. С разбегу он наткнулся на Загинайло и чуть не сшиб его с ног, хотя тот отличался чрезвычайной устойчивостью и всегда крепко стоял на своих коротких относительно туловища сильных лапах.
— Столкновение слона с носорогом! — воскликнул с живостью Лебеда. Другие два инспектора и машинистка, прервав свою бумажную работу, тоже с напряженным вниманием взирали на нового посетителя.
— Рыжик! Где твой начальник долбанный? Что он мне какую-то ахинею прислал! Лапшу вешает!
— Нет его. В Главное Управление вызвали. На Литейный. С утра злой был. Говорит, против него заговор, вытурить хотят. А на его место своего поставят, кто попокладистей будет. Стариков, говорит, убирают, такая теперь политика, омоложение кадров идет.
— А это кто? — задал вопрос майор-вихрь, ткнув красным пальцем в грудь Загинайло.
— Знакомься. Пополнение. Твой новый командир взвода. Возглавит твой осиротелый четвертый взвод.
Майор сначала окинул Загинайло с головы до ног оценивающим взглядом, потом протянул лапищу для рукопожатия.
— Бурцев, командир первого батальона, — назвал он себя.
— Тебе повезло, — сказал он Загинайло, — получишь самый дисциплинирован-ный взвод, лучший во всем полку. Остальные — сброд, алкаши и бабники, головорезы и мерзавцы, вор на воре. Давно пора разогнать эту банду, да некому работать будет. А твой взвод — образцовый. Золотой эталон мер и весов. Рыцари, святые Георгии, честь и совесть наших органов, над каждым нимб светится. Работают за идеал, а не за свою нищенскую зарплату. Так что должен уразуметь — мы тебе бесценное сокровище вручаем. Понял? — майор посмотрел на Загинайло куда-то поверх его головы, может быть, в надежде увидеть светящийся над ней нимб, но так и не заметил ничего похожего на сияние. — Ни хрена ты не понял! — яростно махнул рукой ураганный майор. — Ничего, придешь ко мне в батальон служить, я с тобой проведу политбеседу. А ты, Рыжик, цветочек аленький! — обратился он к инспектору. — Не сопли жуй, а оформляй его скорей. У меня взвод без головы, злые, забубенные, нервы раздерганы, как нитки, котел вот-вот взорвется, а вы тут сопли жуете! — кинув упрек всем трем инспекторам, которые, давно уж зная нрав громкокипящего комбата, весело взирали на него из-за своих канцелярских баррикад, таким же железным вихрем вылетел вон, саданув со всего размаха дверью так, что на столы инспекторов посыпалась с потолка известка.
Загинайло скоро нашел склад обмундирования за Финляндским вокзалом. Арсенальная улица. Скопление машин. Как инспектор Лебеда говорил. Машинами запружена вся улица. Едва протиснешься сквозь этот строй грязных бортов и колес. Фургоны, фургоны — до самых ворот склада. У ворот скучал автоматчик в черном бронежилете, как жук, в каске-лоханке с ремешком под подбородком. Взглянув на предъявленную бумагу, он смачно сплюнул себе под ноги. Молча пропустил в ворота, не сказав ни единого слова и даже отвернувшись. Загинайло попал на широкий двор, кругом здания казенного армейского образца. Он направился к ближнему входу. Как раз, куда ему надо. На втором этаже комната. На двери написано, что тут обслуживается полк охраны № 3. Ну, значит, его подразделение, ему сюда. Там и без него натолкалось таких же. Три девушки работают. Занимаются обмундированием полка. Каждая занимается одним из трех батальонов. Примерно через полчаса Загинайло дождался своей очереди и, представ перед сидящей за столом дородной девушкой-инспектором, предъявил ей свое направление из отдела кадров. Та завела на него учетную карточку, зачитала длинный перечень всего, что ему положено получить на складе, и вручила ведомость на получение всего этого. Загинайло отправился на склад. Складские помещения протянулись через весь двор, к входам вели широкие помосты для заезжания тележек. Склад № 2, как указано в ведомости. Сюда, значит.
Склад обмундирования — это четыре этажа, битком набитых свежепошитой формой установленного образца на все четыре сезона. Первый этаж — форма на весну, второй этаж — форма на лето, третий — на осень, четвертый, разумеется, на зиму. На каждом этаже коридоры образуют квадрат, начав идти по которому, кончаешь той точкой, откуда начал свое путешествие, то есть — попадаешь опять на лестницу, уже не с пустыми руками, а навьюченный, как ишак, — и шуруй выше, на следующий сезон, с весны на лето. Склад темен, окон тут почему-то не предусмотрено, может быть, чтобы никакой чужой глаз не подглядел его секреты и тайны. Идешь по коридору, слева от тебя беспросветная глухая стена приятного буро-гнедого цвета, справа — хранилища, освещенные тусклыми лампочками, разделенные перегородками. За прилавками кладовщицы в серых халатах. Ни чертами лица, ни фигурой они не блещут, но очень энергичны. Делают свое дело весело и сноровисто, стараются угодить, подбирают вам размер и рост. Не дадут рукав по локоть, а штанины по колено. Нет, такого не бывает. Скорее уж дадут навырост. Пусть и мешковато, зато тепло. Подшил, подвернул — и трын-трава. Кто на тебя будет любоваться? Бандиты? Пьяницы и хулиганы? Бери, что дают, и вали отсюда. Очередь напирает и кричит. Так гуляешь от прилавка к прилавку. Тут дают нижнее белье: трусы, кальсоны. Тут — носки. Тут — туфли. Такого фасона, что побежишь за преступником, туфли с ног сами соскочат, чтобы босиком легче было беглеца догнать. Здесь — всякая мелочь: латунные пуговицы, эмблемы, погоны, шевроны, лычки, звездочки, ремни, портупеи, свисток в придачу. На последнем, верхнем этаже — зимние вещи: толстые кальсоны и нательные рубахи, синего и зеленого цвета, шинели, шапки, сапоги, валенки и к ним калоши. Шубы тоже дают, но не всем, а избранным, тем, кто весь день на улице нос морозит. Запах на складе обмундирования особенный, такого больше нигде не понюхаешь: какой-то такой вкусно-суконно-кожаный. Загинайло увидел, что тут бродило много молодцов, облаченных разносезонно и в смешанной форме: кто в осеннем плаще, но в валенках с калошами, кто в шинели, но в летних туфлях, кто в рубашке с коротким рукавом и открытой грудью на случай жары, зато на макушке водружена зимняя шапка пышного меха с голубым отливом. Кроме того, все несли громадные мешки, куда было напихано все полученное.
Некоторые тащили на горбу рюкзаки такого размера, что туда мог бы поместиться танк. Муравьи в развороченном муравейнике. Загинайло им позавидовал. Он не догадался взять с собой даже торбочки. Всё полученное барахло он нес охапкой, все это сыпалось, он подбирал, опять сыпалось: картонки с обувью, галстуки, перчатки. Загинайло чертыхался и хотел уж всё бросить. Кладовщица на последнем этаже сжалилась, дала ему лишний и ненужный ей холщовый мешок такой вместимости, что влезло все выданное ему обмундирование и сверху фуражка с красным околышем.
— Что, прибарахлился? — услышал он у себя за спиной разудалый голос. Обернулся — перед ним лейтенант с лучистым взглядом и выдающимся вперед подбородком, как будто побритый башмак.
— Командир первого взвода Шаганов, — весело назвал он себя. — А ты, значит, четвертый взвод берешь? Ну-ну. — Шаганов засмеялся. Его усатая физиономия, нагловатые глаза и этот башмак-подбородок надвинулись на Загинайло, точно, чтобы рассмотреть его поближе.
— Меня Бурцев за тобой послал. У меня машина. В батальон. Подброшу. Давай мешок. Во нахапал. Десятерым не снести. Лихой ты парень, как я погляжу. Да я сам такой. Сдружимся. У нас взвода через сутки крутятся. Утром будешь мне смену сдавать.
Держа мешок за два конца, они спустились по лестнице, во двор. За воротами склада ждала служебная машина. Шофер-сержант спал, положа бритую голову на баранку.
— Чумко! Кончай дрыхнуть! Поехали! — закричал на него Шаганов, выпучив глаза и вдвинув свой подбородок в кабину. — Мешок в багажник! Нет, стой! У тебя же там всякое говно, канистры, колеса. Ну, сунь сюда, на заднее сиденье, сверху фуражку, ха-ха! Как будто наш комбат, Бурцев, боров, в фуражке сидит! — Шаганов потешался чистосердечно, но как-то психопатически, как будто его нервам требовалось развлечение. Он, уже сидя впереди, рядом с шофером, повернулся боком и, вытянув руку, ткнул кулаком в мешок с обмундированием, снял с себя шапку с кокардой и нахлобучил на мешок, как на голову. — Ха-ха! Бурцев! Вылитый! — хохотал он до слез, чуть ли не в истерике и бил себя по ляжкам.
Шофер Чумко, в противоположность Шаганову, чрезвычайно серьезный и хмурый, не участвовал в забаве. На его бесстрастном и сухом, как деревяшка, лице, казалось, было написано: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», или: «Покажи дураку палец…» Он дал газ, и машина, успешно лавируя между стоящими с двух сторон фургонами, стала удаляться от ворот склада, оставив там скучать плевателя-автоматчика, обремененного бронежилетом и каской.
Через город, в центр. Г-я улица. Вот тут их батальон и угнездился. В батальоне Загинайло не успел осмотреться. Комбат Бурцев потребовал его к себе в кабинет. Разговор короткий. Майор-вихрь хотел услышать от него вразумительный ответ на два простых вопроса: во-первых, собирается ли он выходить на работу, или так и будет в отделе кадров ошиваться? Что они там копаются! Бумажные души! Чего оформлять! Этого бездельника Рыжика за то самое повесить надо! Сегодня же сними свое рыло на удостоверение личности. Сам в Управление свезу. Срочное фото тут — два шага. В подворотню. Для своих. Дуй! Нога здесь, нога там!
Загинайло так и сделал, как требовал горячий комбат. Через час он принес готовые фотографии. Завтра-послезавтра он получит ксиву. И завтра же утром, к восьми ноль-ноль в батальон. Как штык! Принимать взвод. Хватит волынить. Офицеров в батальоне некомплект, за троих работаем. А на сегодня свободен. Вот записочка к завхозу в казарму, чтоб дала койку. А то эта блядь не возрадуется! Шкуру спущу! Готовь форму, подгоняй, обшивайся, гладься, пудрься! А теперь — с глаз долой! Пошел вон! Загинайло и не думал задерживаться в кабинете Бурцева. Он ничуть не обижался на грубо-оскорбительное обращение комбата. Потому что — это же Бурцев, ураганный Бурцев! Что с него взять. О нем брат Петр тепло говорил, да, тепло, по-доброму.
Казарма на Лиговском проспекте, там же, где командование полка, в том же здании, шесть верхних этажей из десяти. Завхоз, красномордая бабища-прапорщица, прочитав послание комбата Бурцева, злобно выругалась.
— Кобель поганый! Записочки пишет! А сам нос сунуть боится. Плевала я на его приказы! Распоряжается! Я только комполка подчиняюсь, Николаю Кирьяновичу Колунову. Как он скажет, так и будет. А ты мальчик ничего, ничего… — прапорщица-завхоз оглядела Загинайло хищно-масляными глазками. Облизнула толстые губы, причмокнув. Плотоядный зверь. — Ладно. Идем. Дам я тебе комнату. На девятом. У меня тут по-двое, по-трое теснятся, а тебе сразу отдельную даю! Счастливчику! Уж не знаю, как ты будешь меня благодарить, не знаю, не знаю, — так приговаривая, прапорщица, колышась мясами, обтянутыми в форму, повела его на девятый этаж. Там проводила его по грязному коридору, в самом конце показала ту самую комнату и дала ключ от двери.
— Ключ не терять! — погрозила жирным пальцем прапорщица.
— А то хоть ты и милый мальчик, а высеку! Второй ключ только у меня! Только у меня! — повторила она злорадно. Еще раз оглядела Загинайло прищуренными глазками, как будто прицеливаясь, и наконец ушла.
Загинайло остался один. Озирался в новом жилище. Каморка. Каюта. Ничего. И в спичечном коробке жить можно. Койка есть, прочее неважно. А тут еще и стол, и два табурета, и шкаф, и тумбочка. Да это роскошь! Чего еще! Окно голое, ну, какой-нибудь тряпкой завесим. А постельное белье чистое как бы, постиранное. Не привыкать. Весь вечер он провел в новой своей берлоге, приготовляясь к службе. Провозился с формой до полуночи. Пришивал погоны и шевроны, прикреплял эмблемы и кокарды, разглаживал электроутюгом измятые мундир, брюки, шинель. Утюг, иголку, нитки взял у соседей. Он их разглядел только частями: где волосатый торс, где ухо-лепешка, где нога-бутыль. Так сильно там было накурено. Соседей было двое, а, может, трое. Пол трещал шелухой семечек. Пробки от пива. Справясь с формой, Загинайло лег спать в первом часу. Одеяло ему не понравилось: в подозрительных пятнах, как будто о него сапоги вытирали. Отбросил прочь. Накрылся двумя шинелями, морской и милицейской. Рев разразившегося в казарме позднего ночного торжества и крики последовавшей за ним драки нисколько не помешали ему спать до утра, как убитому.
IV
Загинайло был грубо разбужен диким воплем:
— Подъем! Мать твою в тельняшку!
В комнате горел яркий электрический свет. Голая груша, свешенная с потолка, раскалилась добела и, казалось, вот-вот лопнет, брызнув осколками тонких стеклышек. Бесцеремонный голос принадлежал командиру первого взвода лейтенанту Шаганову, с которым вчера он познакомился на складе обмундирования. В шинели, шапке, портупее. Подбородок-кактус в сизых колючках щетины. Безумные щелки в опухших мешках кричат, вперясь в неподвижно распростертого Загинайло, как будто обуянные ужасом: уж не мертвец ли на койке? Зарезали ночью? Нравы казармы общеизвестны. К великой радости Шаганова мертво лежащий, как труп, Загинайло зашевелился, открыл глаза, встал с койки. Хмуро посмотрел на гостя, так грубо прервавшего его сон.
— Шмутки в охапку и поехали! — опять завопил Шаганов. — В машине оденешься-обуешься. Комбат как разъяренный тигр в уссурийской тайге мечется и рычит на всех. Дал пять минут, чтоб доставить тебя в батальон. Будешь принимать свой взвод. Давай, давай, шевели клешнями! ты не знаешь нашего Бурцева. Он с нас с тобой с обоих прикажет кожу заживо содрать — старшине на кобуры и рукавицы!
— Ладно. Не пугай. Я не из пугливых. Оденусь, и пойдем.
Загинайло без суеты, но быстро облачился в приготовленную с вечера новую милицейскую форму. Скрипя ремнями и сапогами, последовал за Шагановым. Непривычно, необношено, там жмет, там давит. Мерзкий вид. Шаганов, заметив, как он прихрамывает в своих новеньких с блестящими голенищами сапогах, едва налезших на его лапы, развеселился. Еще одна для него потеха.
— Отхватил ты чоботы! Высший сорт! — возопил он. — Ты знаешь, из чего эти офицерские сапожки для нас делают? Вот то-то, что не знаешь! Из говна коровьего! Из картона! Через неделю развалятся. Советую эти игрушечки обменять на складе на солдатские яловые. В тех как буйвол будешь топать лет пять. Я тебе говорю! Я только яловые беру. Эти вот шестой год таскаю, никак стаскать их не могу, тулумбасы! — Шаганов, отвернув полу длинной до пят шинели, показал доблестный сапог, неказистый с виду, но крепкий, как копыто.
Влезли в машину. За баранкой тот же бритоголовый шофер, такой же неразговорчивый.
— Чумко! Рви когти! В батальон! — приказал ему Шаганов. — А знаешь, почему Чумко башку свою бреет как футбольный мяч? — спросил у Загинайло опять нашедший себе забаву Шаганов. — Ха-ха! Вши у него! Вши! Ха-ха! Пес вшивый! А знаешь, от кого он этих зверей приобрел? От своей же бабы! От собственной жены! Да еще у них отпрыск восьми лет, в школу пошел, и тот тоже — весь во вшах! И все они башку себе обрили. И баба его обрилась, как кастрюля. Хороша семейка! А, Чумко! Что молчишь? Ты ведь так весь батальон снабдишь этими зверюшками, да что там — весь полк. Всем придется головы брить, во главе с самим комполка Колуновым. Будет полк бритоголовых! Ха-ха! Ой, мамочки, уморил! Ну, Чумко, Чумко!.. — Шаганов буквально бился в припадке смеха, как припадочный, на его подбородок от такого безудержного веселья текла слюна.
Через минут двадцать, с беспрерывными шуточками Шаганова, прибыли в батальон на Г-й улице, дом 11. Дежурный сержант, высунув кровяно-красные щеки в окошко, крикнул:
— Бягите к комбату! В кабинете у себя ревет, как зарезанный. Ой, что тут было! Ой, ой! Разнос зверский. Батальон трясся, как тросточка. Два окна вдребезги! Бягите, бягите, а то он опять к нам примчится по башкам мне и помдежу чайником колотить!
— Так вам и надо, — заметил с хохотком Шаганов. — А то у вас тут чайхана, а не дежурка. Все дежурство, круглые сутки, сидите у самовара и чаи гоняете. Помидоры астраханские! На завод вас гнать в шею! Лоботрясов! Вкалывать! За станок! Экономику в государстве поднимать! Тунеядцы!
Комбат Бурцев встретил их у себя в кабинете на удивление мирно. Он уже выпустил пар, утреннюю порцию, отбушевал, откипел, откричался. На душе у него, как видно, наступил полный штиль.
— Ну и чего вы приперлись? — спросил он, мрачно взирая на них из-за стола. — Я вас не звал. Нечего мне глаза мозолить. Ты, как тебя там, Загинайло? Иди, знакомься со своим взводом. А ты, чучело, — обратился неприветливый комбат к Шаганову, — вместо того, чтобы зубы свои гнилые скалить, введи его в курс нашей работы, поприсутствуй на инструктаже, и вообще, окажи помощь начинающему. Он же ни хрена еще не знает, ни в зуб ногой. Представь этим шакалам нового их командира. Замполит занят. Так вот ты за него выступи. Подбородок, поганец, вытри, заплевал весь, как в зоопарке! Сил уже нет смотреть на твою похабную харю! Всё понятно?
— Понятно, — ответил, пряча ухмылку в свои густые усы, Шаганов.
— Ну так и пошли оба вон! — рявкнул на них комбат.
Офицеры вышли. Загинайло был сумрачен, его массивное, скуластое лицо имело суровый вид. Шаганов повел его по коридору в класс службы, где производился инструктаж взвода, заступающего в наряд.
В классе службы — гам, шум, дерут глотки, горлопаны. Тридцать молодцов в полной амуниции, за желтолакированными столами, сидят, стоят, ходят. В шинелях, в шапках, ремнях, взопрели. В помещении тепленько, батареи жарят. Весь взвод уже вооружен для службы, как говорится, сверх зубов. Брякают железами: пистолеты в кобурах на боку, браслеты-наручники на поясе, резиновая палка-дубинка, газовый баллончик, автоматы, как железные щуки, свисают с плеч дулом вниз. У других на груди, у третьих — за спиной. Командир отделения, мордатый прапорщик в тулупе и сизо-мерлушковой шапке, сдвинутой на затылок, увидев вошедших офицеров, хрипло заорал, как петух:
— Взвод! Встать! Смирно!
Раздался грохот отодвигаемых скамей. Взвод встал, замер. В серых шинелях, шапках. Глядят волками. Ребятишки что надо. Приятно с такими познакомиться поближе. Ждали, что начальники скажут.
Шаганов выступил вперед, скрестив руки на животе и улыбаясь своими густо-развесистыми усами.
— Что, бойцы, обсуждали прибавку к жалованью? — спросил он, хохотнув по своему обыкновению, довольно зловеще. — Будет, будет вам прибавка, в получку двадцатого числа всем дадут сверх зарплаты по червонцу в зубы — задницу подтирать. Эх, бойцы, не в деньгах счастье. Бездуховный вы народ. Каждый раз на инструктаже волками лютыми смотрите, сожрать готовы с косточками своих и без того замученных командиров. К вам и приходить страшно. Мы-то чем виноваты? Делаем, что можем, из кожи, так сказать, вон лезем, всё для вас, всё для вас, для облегчения вашей луковой, бесчеловечески трудной жизни. Вот, архаровцы, ваш новый командир взвода. Прошу любить и жаловать. Загинайло Роман Данилович. Родной брат вашего бывшего любимого командира Петра Загинайло, погибшего героической смертью при исполнении своих служебных обязанностей. Роман Данилыч, так сказать, берет вас как бы по наследству, из рук брата Петра, как бы долг и фамильная честь. Ради вас, остолопов, ушел с флота, где был на лучшем счету. Так сказать, поднять боевой дух в рядах. Воевать на другом фронте. А командование над вами — ой, не малина, шапка Мономаха!.. — красноречие Шаганова иссякло, он не знал, что тут еще добавить, вроде бы все сказано, не хуже, чем у замполита вышло, который и должен был представить взводу нового взводного, но отсутствовал по уважительным причинам.
Взвод хранил гробовое молчание.
— Вольно! — скомандовал Шаганов. — Вот теперь ваш новый командир скажет слово, а вы послушайте, олухи! Говори! — обратился он к Загинайло, освобождая ему место и отходя в сторону.
Загинайло, тяжело качнувшись, шагнул вперед. Плотнотелый, кряжистый, широкоплечий. Лицо напряженное, губы сжаты. Произнес твердо-значительно:
— Вами командовал мой брат Петр Загинайло. Теперь я буду вами командовать. — Объявив это, он своими мрачно-карими, сужеными глазами холодно обозрел взвод.
— А теперь вот что, — изрек он. — Почтим память вашего бывшего командира и моего брата минутой молчания. Снять шапки!
Весь взвод, как один человек, стоя, разом обнажил головы. Все до единого. И три командира отделений, которые стояли отдельно, сбоку от Загинайло. Стянул с себя шапку и Шаганов. Наступила та самая мертвая тишина, когда слышно, как муха летает. Эту тишину Загинайло хранил уже давно внутри себя. Гудели под потолком молочные трубки люминесцентных ламп. Выждав минуту, Загинайло скомандовал:
— Надеть шапки! — и вслед за всеми нахлобучил свою.
— Ты веди инструктаж, как там у вас это делается, — обратился он к Шаганову. — Покажи, значит, что и как, процесс, а потом я сам.
Шаганов осклабился:
— Да чего там. Никакой такой мудрости нет. Высшего юридического образования не надо. Да у тебя и помощники собаку съели, твои командиры отделений. Один Бабура чего стоит! Это ж зубр! Двадцать лет в милиции. Враз всему научит. Не боись. А потом еще у нашего замполита Розина пройдешь ускоренные курсы. Уж он тебя подкует! Или наш Железнов, зампослужбе, у него бесплатную консультацию получишь. Бабура! — крикнул он прапорщику в тулупе, — чего мух на потолке считаешь! Начинай инструктаж. Да не гони лошадей! С чувством, с толком, с расстановкой. Членораздельно. Чтоб новый командир все усек, всю, так сказать, специфику. — А вы, — приказал он взводу, — можете расслабиться, сесть на свои насесты и достать ручки и служебные книжки. Увижу, кто не записывает-усы оборву! Давай, Бабура! Вперед!
Бабура, мордастый прапорщик в тулупе, с толстой, черной книгой в руке направился к чему-то вроде конторки, поставленной на возвышении перед взводом. Он встал за эту фанерную трибуну, как оратор, готовый произнести торжественную речь. Черную свою книжищу он положил на трибуну перед собой и, развернув ее посередине, начал вялым и безразличным голосом:
— Тема инструктажа: разбой. Статья уголовного кодекса… — Бабура осекся. — Да чего долдонить одно и тоже! В зубах навязло! Подними любого с постели посреди ночи и спроси его, сукина сына, что такое разбой, он и от сна не очухавшись, выпалит как из пушки, номер статьи и какое наказание и прочее там, слово в слово, будто по книге прочитает.
— Ничего, ничего. Ты, Бабура, читай дальше, — добродушно возразил Шаганов, накручивая на палец кончик своего пышно-горчичного уса. — Язык не отсохнет. А то ты и читать разучишься. Это тебе не в курилке балабонить. Вот вашему командиру надо освоиться, он еще не знает…
Бабура, тяжко вздохнув, продолжал чтение. Взвод, склонив головы, записывал в служебные книжки.
— Матросов! Почему не записываешь? — вдруг бешеным голосом закричал Шаганов. — Ты что у нас, особенный?
— Да не хочу я писать всякую чепуху! — небрежно бросил Матросов, молодой сержант с черными усиками. — Рука устала, пальцы скрючило, ручку не держат, — и Матросов, демонстративно подняв руку, покрутил скрюченными, как у паралитика, пальцами.
Шаганов обиделся, настроение у него резко испортилось.
— Видишь, какими мерзавцами тебе придется командовать! — обратился он к Загинайло. — У меня во взводе своих таких хватает. Сам расхлебывай. А я — пас. Бабура! — приказал он прапорщику.
— Отпускай людей!
— Взвод! Встать! — гаркнул с большим воодушевлением тулуп-прапорщик. — Смирно! Приказываю заступить на охрану общественного порядка и государственной собственности, жизни и здоровья граждан в городе-герое Ленинграде, Петербурге, Петрограде! Вольно! По постам! Разойдись!
Серые шинели, закинув за спину автоматы и закуривая на ходу, повалили вон из помещения. Шаганов тоже ушел. Загинайло остался с глазу на глаз со своими тремя командирами отделений. Они поочередно представились: командир первого отделения прапорщик Бабура, командир второго отделения старшина Черняк, командир третьего отделения старший сержант Стребов.
— Ну, рассказывайте — кто шлепнул моего брата? — в упор спросил Загинайло. — Голую правду. А то все лапшу мне на уши вешают.
Командиры отделений глядели угрюмо.
— У, какой сердитый! — ответил за всех старшина Черняк. — Следопыт. Это ты для расследования к нам явился? Вот оно что! Голую правду тебе подавай. Шлепнули и шлепнули. Ищи ветра в поле. Тут пачками шлепают. Не он первый, не он последний. Нас и так весь месяц к следователю таскали. Зря ты это, взводный. Грязное это дело, лучше б тебе не копаться, замараешься. Да мы и сами знаем не больше твоего.
С шумом вошел битюг в кожаной куртке, которая, казалось, трещала на его широком туловище. Мотоциклетный шлем, рукавицы-краги, замерзшее фиолетовое лицо. Старшина батальона Яицкий.
— Вот и наш старшина! — закричал Стребов, командир третьего отделения. — С Сестрорецкого шоссе, с ветерком. Каждое утро из Сестрорецка сюда гоняет. В виде разминки. Драндулет у него — атас! Зверь! Как заведет его у себя в Сестрорецке — рев на Литейном в Большом доме слышен, а в Смольном уши затыкают от ужаса. Оседлает своего железного трехколесного коня с коляской и мчится сюда, как полоумный, кобуры штопать. Кстати, Яицкий, отец родной, ты же новенькие кобуры вчера на складе получил, просочились сведения, дай кобурку, не жмись. У меня гнилуха, растрескалась вся, как глина, потеряю пистолет, ты ведь будешь виноват!
— Стребов подобострастно улыбался, показывая свои два широких белых зуба, сильно выступающих в верхнем ряду вперед из губы, как у кролика.
— Хрен тебе, а не кобуру! — буркнул, следуя к своей каптерке, Яицкий. — Ты же, говнюк, в ней фляжку с водярой носишь, а пистолет у тебя в кармане болтается, брючину оттягивает. Хлебнешь из фляжечки, и хорошо тебе, служба-малина, цветешь, благоухаешь, как орхидея. Тебя, Стребов, давно пора вышвырнуть из батальона по статье, к такой-сякой матери, а не новую кобуру!
— Нет, Алексеич, ты не прав, — стал защищать товарища командир первого отделения прапорщик Бабура. — Зачем на человека зря клепать. Он у нас непьющий, капли спиртного в рот не берет, даже в день рождения жены. Он у себя в кобуре морковь таскает. Жена ему каждый раз на дежурство морковку сухим пайком дает. Любимая пища кроликов и зайцев. Вот он и грызет за милую душу, только хруст на инструктаже и слышим: хруп-хруп-хруп.
— Зубоскалы вы, зубоскалы! — Яицкий, выражая безнадежность, махнул толстой рукой в рукавице-краге. — Пустобрехи, клоуны, вас бы в цирк. Вот новый командир вас, шутов гороховых прижмет! — пригрозил он, заметив Загинайло. — Ты зайди-ка ко мне, взводный, — обратился к нему Яицкий. — Тебе положена новая кобура. И карточку-заместитель на пистолет оформлю, если маленькая фотография с собой есть. Да хоть какая, лишь бы рыло было. Получишь пистолет своего брата Петра Данилыча, номер 4998. Так сказать, по наследству. Специально для тебя берег, никому не давал. Чистенький как зеркальце, в маслице, лежит у дежурного в оружейке, тебя ждет. Безотказное оружие. Придет час, вспомнишь старшину Яицкого добрым словом.
Загинайло, оставив своих командиров отделений составлять график работы взвода на новый месяц, заглянул к старшине в каптерку. Что-то вроде чулана, стеллажи, полки, ящики и ящички, коробки, фуражки без козырьков, старые шинели без погон и пуговиц — в углу кучей. Яицкий, в очках, лысина блестит под лампой, сидит за своим рабочим столом, что-то сапожным ножом вырезает из куска кожи.
— Вот, крою. Из десяти старых кобур — одну-две новых смудрую. А что делать, приходится дурью заниматься. Это же не милиционеры теперь, а позор нации. Всякий сброд напринимали. Недоумки, дебилы, одна извилина на триста человек. На весь полк. Эти мерзавцы за месяц новенькие со склада кобуры превращают в полное безобразие. Чего только они не вытворяют, фантазия работает, как у писателя-фантаста, братья Стругацкие, такую мать. И режут, и кромсают, и вдоль, и поперек, и так и сяк. Обкорнают, чтоб как оперативники, под мышкой носить. Или еще чего почище придумают, с бантиком, все равно что анархист, ниже пояса маузер на мудях таскают. Кобур на них не напасешься. Об оружии уж и не говорю. Сердце кровью обливается, как эти недоноски полостнокишечные обращаются с оружием. Десять раз писал рапорт об увольнении, к такой матери. Николай Кирьяныч, комполка не отпускает, незаменимый, говорит. Тебя, Яицкий, старая гвардия, заменить некем, так что терпи и не рыпайся, только вместе со мной уйдешь. Если б не он, давно б плюнул, растил бы на пенсии огурцы у себя в Сестрорецке.
Старшина, отложив нож, выдвинул ящичек стола, достал новенькую кобуру. Любовно ее осмотрел со всех сторон, крутя на свету под лампой, помял в руках и после этого протянул Загинайло.
— Пощупай, настоящая, телячья, мягонькая. Тебе по блату. Только у командира полка да у меня самого такая. У всех прочих кобуры как лошадиные копыта, не гнутся, хоть о башку колоти. Карточку-заместитель я тебе уже приготовил, возьми. Рыло свое сам наклеишь. Оружие соблюдай в таком же образцовом порядке, как берег его твой брат. Он свой пистолет, можно сказать, языком вылизывал. Ну, будь здрав. Удачи с горчицей и службы с хреном! — Это была любимая поговорка старшины Яицкого. Высказав свое пожелание, старшина опять взял нож и принялся за свою кройку кобур.
Краснощекий дежурный, не мешкая, выдал Загинайло из окошка оружейной комнаты тот самый пистолет системы Макарова с личным номером 4998, который принадлежал брату Петру, два магазина и колодку с шестнадцатью патронами. Полнокровный дежурный, передавая пистолет рубчатой рукояткой вперед, хитро подмигнул:
— А ты похож на своего братишку. Ой, как похож, как две портянки, прости за сравнение. У меня даже глазенапы на лоб полезли: вижу — воскресший Петро прет. Мы его уважали, парень-кремень.
Его даже комбат побаивался трогать, а Бурцев — это ж не человек, а цунами какое-то, смерч, торнадо, явится не в духе, горная лавина, орет так, что барабанные перепонки вдребезги, неделю потом глухой ходишь, как тетеря. Или молча хряснет в зубы, ни слова не говоря, за здорово живешь — и весь разговор. А кулачище у него — во! С пожарное ведро! — и возбужденный дежурный энергично ткнул перстом в пожарный щит на стене, где висел багор и два объемистых ведра, окрашенных в такой же пламенно-багрянистый цвет, как его щеки.
Загинайло, молчаливый и суровый, слушая брехню дежурного с невозмутимым безразличием, разобрал и опять собрал пистолет. Произвел полную разборку, как полагается. Пистолет был в блестящем состоянии. Старшина Яицкий не обманул. Этот пистолет долго служил своему хозяину, как верный пес. Старое, грозное оружие. Вороненое покрытие местами стерлось, стальной корпус стал белый, как солью выеден, как кость. Особенно затвор. «Ищи ветра в поле» запали ему в ум слова его командира отделения Черняка. Снарядил магазины, один вставил в рукоятку пистолета, запасной — в кармашек кобуры. Пистолет поместил в новенькую кобуру у себя на ремне у правого бедра, застегнул пуговку.
— Полюшко-поле! — запел вдруг довольно красивым певучим тенором дежурный. — Твой брат Петро тоже оружие любил, можно сказать, обожал, — сказал он, прекратив петь. — Тоже, и перед дежурством и после дежурства, всегда производил полную разборку и сборку. И все чистил, все смазывал, лелеял каждую детальку, всякий там зубчик и загогулинку. Все уж давно из батальона свалят, кто куда, а он все со своей любушкой железной милуется, как с любимой женой. Все гладит, все ласкает, налюбоваться не может. Целует, и в правую щечку, и в левую, и в ротик, все никак не расстаться…
— Волына! Соловей мой, соловей! Ты опять, пташка, разливаешься, сказки рассказываешь! — закричал дежурному вошедший в помещение Стребов. — Козловский хренов! У тебя пол-оружейки растащили, пока ты тут лясы точишь. Сейчас старшину Яицкого позову, он тебе споет арию Шаляпина в роли Бориса Годунова, так что в моргалах у тебя мальчики кровавые запляшут! От Бурцева ты уже получил чайником по кумполу, птичка певчая, канарейка!
Тут вступил в разговор другой голос, мрачный и нелюдимый. Это вслед за Стребовым вошел водитель Чумко. Бритоголовый.
— Стребов! Зачем обижаешь нашего Волынчика! — хмуро упрекнул он. — Какая ж он канарейка! Он у нас Жар-птица! Смотри, какой от него жар! Вся рожа горит! Так и пышет!
Дежурному Волыне насмешки не пришлись по душе. Он оскорбился, совсем стал как рак вареный.
— Грубые шутки! — оборвал он. — Ничего, вы у меня наплачетесь после смены, когда придете оружие сдавать. Будете чистить до потери сознания. Пока до дыр не сотрете, выродки! — Волына с ожесточением захлопнул окошко оружейки, загородившись от них бронированным щитом.
Загинайло так и не проронил ни слова, пока происходила перед ним эта сцена. Он был готов на выход и кивнул Стребову, чтоб двигаться отсюда. Стребов сегодня должен был его сопровождать, показать посты, ознакомить со службой. Они вместе вышли из батальона на улицу.
V
Загинайло и Стребов шли по Г-й улице. Под арку, площадь. Нет, им не в ту сторону, не к Неве. Стребов как-нибудь в другой раз сведет своего командира туда, панораму показать. Грандиозно! Любимый город! И мосты покажет, мосты тоже их батальон охраняет. Это потом, не убегут, а пока — свернем на бульвар. Стребов в роли вожатого незаменим, он всё знает, все ходы-выходы, каждую подворотню, каждый камень. По нюху. Как кошка. Правильно, что Загинайло выбрал в провожатые именно его, а не этих жуликов, Черняка или Бабуру. Стребов ознакомит своего командира со всеми постами, которые обязан охранять их взвод как зеницу ока. Посты разбросаны по всему городу, как колода игральных карт, брошенная, заброшенная аж на окраины, аж к черту на куличики, в Озерки, в Шуваловский парк. Объекты государственной важности: мосты, сады, кладбища, водокачка, мэрия, музеи, архивы, главпочтамт, ювелирторг, Гостиный двор, Публичная библиотека… Юг, запад, север, восток. Пока объедут, проверят службу — и день пройдет. Один круг только и успеют намотать. А надо три круга за смену! Дежурство суточное. Днем — общественным транспортом, ночью — пешедралом. Сто подметок сотрешь за год. Машину таким мошкам не дают. Нет машин, не рожают. Стребов на службу не жалуется, пусть командир не думает, это он так, надо ж что-то молоть по дороге, чтоб время летело. Опять же — гулять на воздухе и для здоровья лучше, чем в душной кабине сиденье задницей протирать, геморрой зарабатывать. Ноги на такой службе делаются железные, как у бегуна-скорохода. Вот, Загинайло может сам пощупать, если не верит, какие у Стребова железные ноги. Он даже особую манеру ходьбы выработал, оптимально-выносливую, годную только для него, для его оригинального организма. Другие пробовали так ходить, ни хрена у них не получилось. А он, как страус по африканской пустыне, мчится быстрей экспресса. «Красную стрелу» обгонит запросто, благо ноги длинные! За ночь два круга накручивает, и хоть бы хны. Трепотня этого пустомели раздражала, но Загинайло не прерывал.
Ноябрьский день, холодный и хмурый. Вот-вот посыплет снег. Стребов не любил толкаться и тискаться в общественном транспорте, у него имелся жезл-зебра, которым он и пользовался как власть имеющий. Держа в руке этот атрибут инспектора ГАИ, он зорко высматривал с края тротуара нужную жертву и властным взмахом, грациозно крутанув жезл в руке, приказывал водителю остановиться. Вот и теперь он сделал так же. В трех шагах от них послушно затормозил синенький жигуленок. Стребов приблизился к жертве неторопливой походочкой, похлопывая жезлом о голенище сапога. Подойдя вплотную, небрежно козырнул испуганному водителю, который высунулся из окошка, и, оставив свою «зебру» болтаться на петельке на запястье, представился:
— Старший инспектор Стребов. Куда путь держим?
Оказалось, водитель едет в ту сторону и прямо к тому месту, куда нужно Стребову. Водитель рад-радёшенек подвезти представителей власти по законному их требованию ввиду служебной необходимости. Таким манером, работая жезлом, пересаживаясь с машины на машину, они с комфортом объехали все охраняемые объекты и посетили все посты, вверенные батальону. Загинайло познакомился со всеми милиционерами своего взвода, кроме больных, хромых и находящихся в очередном отпуске. Объекты, которые охранял взвод, были такие: три моста, три банка, два ломбарда, два ювелирных магазина, магазин мехов, «Русские самоцветы», три архива, музей города, центральная водокачка и, наконец, два больших кладбища, Еврейское и Волково. Загинайло серьезно отнесся к своим новым обязанностям, строго осматривал посты, тщательно вникал во все, дотошно расспрашивал и требовал объяснений. Что называется, влезал во все дырки и щели. С каждым милиционером особо и подолгу беседовал о службе и жизни. Так что всегда невозмутимый Стребов стал роптать:
— Ты меня утомил, командир. Ты еще почище нашего замполита Розина. Тот тоже, как пиявка, присосется, мучитель людей, кровожадный тиран: все ему расскажи, все ему объясни, душу ему, как карман, выверни. Под череп, гад, залезет и самые твои секретные и сокровенные мысли, самые дорогие и взлелеянные, какие от всего света и всякой подлюки подальше прячешь, и те все до одной прочтет, все равно что газету прочитает «Вечерние новости» или «Правду». Только тогда, гад, отвалится, раздутый пузырь, вурдалак, нажравшись твоим тайное тайным. Не уподобляйся ты этому дракону. Ну что ты их допытываешь-выпытываешь об их житье-бытье. Разве от них правду услышишь. Наврут с три фургона с прицепом, так мы и за месяц посты не обойдем, если ты с каждым придурком битый час по душам калякать будешь.
От Загинайло не ускользнула одна особенность, общая для всех постов, которые они посетили, это относилось не столько к объекту, сколько к субъекту охраны, а именно: все постовые милиционеры, с которыми знакомился на местах Загинайло, хотя и действовали безукоризненно по уставу и инструкции, отвечали на вопросы четко, толково, со знанием дела, были дисциплинированы и вели себя почтительно, но при всем при том, ему показалось, смотрели на своего нового командира взвода как-то неуловимо нагло и мрачно. В их взглядах сквозила хищная недоверчивость и чуждость, так зверь смотрит на другого зверя, покрупнее и посильнее его, вторгшегося на его территорию, терпя по необходимости незваного гостя. Загинайло интуитивно почувствовал это, он всегда верил своей интуиции. Он почувствовал: тут что-то кроется, некая тайная сговоренность этих людей, какой-то заговор скрытой злобы. Ничего, он скоро узнает, в чем тут дело.
Короткий ноябрьский день кончился. Стемнело. Они вернулись в центр города. Оставалось посетить новооткрытый банк на Мойке и тем самым замкнуть круг. Стребов повел к месту. Фонарный мост. Сделать еще два шага — и банк. Тут заорала рация Стребова, так яростно, что чуть не слетела шапка с его затылка. Страшный голос кричал что-то нечленораздельное, но Стребов смысл этой сумбурной речи, подобной реву бешеного быка, разобрал без труда, дословно, как опытный дешифровщик.
— Это замполит Розин, — объяснил он. — Легок на помине, трехглавый змей! Речистый парень, я тебе скажу. Цицерон, царь красноречия. Только дикция у него — того, дефективный с детства, урод логопедический. Выйдет на трибуну на общеполковом собрании с отчетной речью и лопочет, лопочет, черт его поймет о чем, как чукча, раскипятится, руками размахивает, пена изо рта в зал на нас летит, в штопор вошел, бешеный, шаман, ему бы еще бубен в руку! Хорошо еще, что ему на выступление не дают больше двадцати минут по регламенту, а то бы он всех нас слюной затопил. Я один в полку понимаю, что он сказать хочет, это оттого, что у меня филологический дар, на собрания меня всегда к нему толмачом ставят, чтоб переводил на чистый русский язык его лопотню.
— Так что он хочет? — спросил Загинайло, прервав своего словоохотливого помощника.
— Он хочет, — засмеялся, скаля свои кроличьи зубы, Стребов, — чтобы ты срочно к нашему командиру полка летел, к Колунову. Тебе великая честь! Гордись! Сам папа, так мы комполка называем, Николай Кирьяныч хочет с тобой лично познакомиться и приглашает тебя в баньку. Заодно и помоешься, ты же, наверно, сто лет не мылся, от тебя какой-то тиной воняет. Папа у нас большой любитель русской бани. Можно сказать, мастер. Хе! — засмеялся еще веселее Стребов. — У него что-то вроде ордена рыцарей бани, избранные из полка, а он — гроссмейстер ордена. У него обычай: нового офицера, поступившего к нему в полк, приглашает попариться к себе в особо устроенную баню. Так сказать, проверка на прочность. На что ты способен. Крепок ли ты, парень, пар выдержать, как в паровом котле, да полковника выпарить веничком. Три веничка у него поочередно: березовый, дубовый и еловый. Вот новичку такой экзамен, значит: попарить папу. Смотри, Данилыч, не осрамись. Как попаришь, так и служба у тебя пойдет. Или на верха вознесешься, любимчиком будешь, и карьера в кармане, — или ты у него никогда из грязи не выберешься. Ты Колунова не знаешь. У! Злющий кабан! Злобный, хитрый, мстительный. С потрохами сожрет.
Загинайло оставил Стребова продолжать проверку службы на постах, а сам, как от него требовали, вернулся в батальон на Г-й улице, дом 11. У батальона его ждала служебная машина с синей полосой и мигалкой, с работающим мотором. С заднего сиденья из кабины ему замахал рукой лопоухий капитан. Замполит батальона Розин.
— Светик-семицветик! Соколик мой ясный! Где же ты шатаешься? — закричал замполит отчаянно-плаксивым голосом.
— Скорей, скорей! Николай Кирьяныч ждет! — замполит распахнул дверцу кабины. — Лезь сюда! Ненаглядный мой, ты же меня без ножа режешь. Нам уж давно пора в парилке быть раздетыми, разутыми. Соколик ты мой ясный! Чумко, газуй! — возопил замполит водителю. — Пулей! Чтоб через десять минут быть у места!
Успеешь вовремя — премию выпишу в двойном размере! — речь замполита была достаточно разборчива и членораздельна, слова выговаривал он хоть и скоропалительно, но вполне отчетливо для понимания, его дикции мог бы позавидовать любой актер, но, может быть, это оттого, что он еще не раскалился добела, как про него говорили в полку Тогда у него слова плавились и превращались в пламенно-извергаемую лаву. Так что, может быть, Стребов и не соврал. Замполит, несмотря на студеную пору года, красовался в легонькой фуражечке, из-под которой его уши-лопухи торчали, как два красных семафора — запретительный сигнал всему встречному автотранспорту, чтобы освобождали дорогу.
Машина помчалась на Черную речку. Там была баня полковника Колунова. Об этой бане ни одна собака в городе не знала. Дом как дом, закопченный кирпич, капремонта просит, огражден стеной, труба торчит, высокая, угольком курит, пуская курчавый дымок в угрюмое, и без того мутное небо. Как бы котельная и при ней гараж для милицейских машин.
— Пустое сердце бьется ровно, в руке не дрогнул пистолет! — стал громко декламировать замполит Розин, когда они миновали мост через Малую Неву. — Дантес, гад, лягушка в рейтузиках! — в неожиданном порыве праведного гнева возопил Розин. — У, гнида! Вот этими бы голыми руками так и задушил бы гниду, прямо на месте дуэли, на кровавом снегу! — замполит произнес эти гневные слова чуть не плача, со слезой в голосе. — Я тут живу, — пояснил он. — Каждый вечер в свободные от службы дни гуляю с бульдогом Маргариткой, злая сука, как гиена в наморднике, на всех бросается.
Машина, повернув налево, затормозила.
— Ну, вот и банька! — обрадовался замполит. — Успели. — Высунув рупор из кабины, он взревел: — Эй, шайка-лейка, светик мой ненаглядный, отворяй ворота. Работника Балду привез папе спинку парить!
Толстомордый сержант в полушубке, бряцая цепями, раскрыл створки железных ворот, и машина въехала на двор. На дворе они увидели еще две машины: легковушку и микроавтобус.
— Папа уже здесь! — закричал в ужасе замполит Розин. — Быстрей, вылезай, соколик, радость моя, бегом в парилку! На ходу раздевайся, давай, давай, соколик, я сзади побегу, помогать тебе буду, шмотки скидай, шапку, шинель, сапоги, я буду подбирать на бегу! Веники в предбаннике я сам прихвачу. Ой, лишенько, не успеем, папа нам голову снесет! Или в кипяток посадит, вкрутую заживо сваримся! Граф Дракула, что с него возьмешь. А то еще хуже: заставит Достоевского читать, «Преступление и наказание». Он патриот, русскую литературу от всех своих милиционеров знать назубок требует, все равно как устав патрульно-постовой службы. Лекции каждый месяц для всего полка устраивает в актовом зале на Литовском проспекте. А нас, замполитов, заставляет квартальные отчеты о проделанной работе с личсоставом писать в художественной форме, чтоб не отчеты, а повести и романы были. Не знаю, как для других, а для меня это мука смертная, легче на кресте висеть на Голгофе. С литературой у меня отношения еще в школе сложились печальные, прямо тебе скажу, ни бум-бум, вот как эта деревяшка, — и замполит постучал кулаком по лавке в предбаннике, где они оба скоропалительно разоблачались, освобождаясь от всей своей амуниции. — Мое призвание — живопись. Я картины рисую, — продолжал свои признания замполит. — Я же поступал в Мухинское. Но не поступил. По недоразумению. Будь уверен, поступлю не со второго, так с третьего захода. Да хоть с десятого. Я жутко какой упорный. О, ты еще не видел моих картин! Придешь в батальон, я тебе покажу, у меня весь кабинет увешан. Шедевры! Теперь я пишу портрет Дзержинского в полный человеческий рост, закончу к годовщине Октябрьской революции, к юбилею. Кровь из носу! Ой, соколик, бежим! Заболтался. Папа уже пару наподдал. Слышишь, как будто змея шипит? «Пора, мой друг, пора», как говаривал Александр Сергеевич Пушкин, памятник наш нерукотворный. Ублажишь папу — служба, как по рельсам вагонетка, под горку покатится, сыр в масле. Не служба, а малина у тебя будет.
Замполит Розин, голый до пят, только на макушке фуражонка, с тремя вениками под мышкой, отворил разбухшую дверь парной. Загинайло таким же голышом последовал за ним. Их обдало жаром, нестерпимым для непривычного человека. Глаза чуть не лопались, пол обжигал подошвы босых ног. Полковник Колунов, голый, но в полковничьей папахе на голове, сурово взирал на них с возвышения, как статуя с пьедестала.
— Товарищ полковник, разрешите обратиться! — воззвал к нему снизу у подножия помоста замполит Розин, приложив руку к козырьку своей фуражечки и приплясывая на обжигающем полу красными пятками.
— Розин, без церемоний, лезь сюда! — рявкнул командир полка. — Что ж ты, дурак пузатый, тапочки не взял? Пляшешь как карась на раскаленной сковороде.
— Ты тоже поднимайся, — приказал он Загинайло.
Полковник был тощ, как кощей бессмертный, лицо изборождено морщинами, не лицо, а пашня. Папаха, высокая, в сизо-седых мерлушках, чуть не касалась закопченного банного потолка, кокарда блестит звездой. Полковник Колунов лег на полок ничком и, не поворачивая головы, изрек замполиту:
— Розин, покажи новенькому, как надо вениками работать, а потом ему передай. Посмотрим его таланты.
Розин, надев кожаные рукавицы, принялся обхаживать двумя вениками костлявую спину командира полка, хлопая с большим рвением, с энтузиазмом, проворно и грациозно, и березовым и дубовым, бегая вдоль полка, хлестал мастерски, как профессионал, банщик высшей квалификации.
— Все понял, соколик? — спросил запыхавшийся замполит, передавая Загинайло рукавицы и веники. — Приступай. Господи благослови!
Теперь Загинайло взялся, как от него требовали, хлестать спину полковника, которая, казалось, совсем не имела кровеносных сосудов, ее серо-землистая кожа, испещренная какими-то темными пятнами, даже не порозовела от такой лавины ударов. «Все равно что скелет парить», — подумал Загинайло, безжалостно обрабатывая полковничьи кости.
— Сильней! Жарь вовсю! — сердито закричал, приподняв голову в папахе, Колунов. — Что ты меня как бабу гладишь. Колоти, не бойся, изо всех сил, какие у тебя есть. Представь, что ты палкой пыль из ковра выколачиваешь! Брось эти, бери еловый, шпарь, не жалей! Розин, ты где? — крикнул он замполиту. — Тициан, Микеланджело, титан кисти! Поддай жарку! Пару шаечек! Живо! Замерзаю!
Загинайло без передышки, около часу исполнял обязанности банщика-парилыцика, работая, как говорится, не покладая рук. От ударов колючего елового веника спина полковника наконец закраснелась полосами и узорами. Полковник был доволен, он перевернулся животом. Грудь густо заросла седой шерстью.
— Что сопишь? Устал, что ли? Давай, давай, орел! В решеточку! Березовым да дубовым, вдоль да поперек!
Полковник Колунов упарился. Он приказал Загинайло побрызгать на него холодной водой. Полковник был в разнеженном, размягченном состоянии духа, морщины его разгладились, он был вполне доволен своим новым офицером.
— Так ты у меня, значит, в первом батальоне? У Бурцева? — спросил он, вставая. — Четвертый взвод возглавил? Это у меня лучший взвод во всем полку! Тебе, Загинайло, великая честь. Смотри, не ударь лицом в грязь, смотри, смотри. Начал ты службу неплохо. Да, очень даже и неплохо начал ты свою службу у меня в полку. Так держать. А ты что ж, с умыслом пришел к нам на работу, целенаправленно? По стопам брата? На его место? Твой брат Петр Загинайло, погибший при загадочных обстоятельствах, доставил мне немало хлопот и неприятностей. Немало, немало, — повторил ехидным тоном полковник Колунов. — Позволял себе со мной спорить, пререкаться. Лез на рожон, надо и не надо. Храбрец! Молодец среди овец! Я, знаешь, не люблю неоправданный риск. Вот и пустили храбреца с проломленным черепом на дно Малой Невки, привязав чугунную болванку на грудь. Нашел приключение на свою задницу. Ты уж извини, что я так говорю о твоем брате, оскорбляю, так сказать, твои родственные чувства, — полковник Колунов язвительно улыбался тонкими, бескровными губами своего широкого рта. Тело пятнистое, как у тритона. Полковник Колунов, казалось, получал удовольствие оттого, что специально старался вызвать к себе антипатию, даже отвращение. Ему, очевидно, доставляло неизъяснимое наслаждение то, что его подчиненные, покорные его власти люди, молча выслушивают все, что он им ни скажет, и пикнуть при этом не посмеют, скованные его гипнотическим змеиным взглядом.
Все трое спустились по ступеням с помоста и вышли из парной в прохладный предбанник. Там замполит Розин накинул на плечи полковнику чистую белую простыню, в которую тот завернулся, как римский сенатор в тогу. Папаха так и оставалась на его голове.
— А город ты знаешь? — спросил он Загинайло. — Имей в виду, я не держу у себя в полку того, кто не знает о моем любимом городе всё, каждую улицу и каждый переулок. И как что называется, и почему, кем и когда было названо. Площади, мосты, каналы, дворцы, набережные. Все должен знать, когда построено, кем. Как азбуку. Всю историю города. Мне не нужны у меня в полку болваны бескультурные и необразованные. Тем более офицеры. Вот скажи, например, — полковник Колунов, выдержав паузу, спросил: — Сколько львов на Свердловской набережной? Ну-ка?
Загинайло сконфуженно молчал. Пожал плечами. Он не знал, сколько львов на Свердловской набережной. Он не слышал, что шептал ему сзади, свистя, как воздух из прорванного шланга, замполит Розин.
— Не знаешь! — со злорадством тигра, настигшего добычу, воскликнул полковник Колунов. — Восемнадцать львов! Заруби себе на носу! На Свердловской набережной восемнадцать львов! А в городе сколько всего львов, знаешь? Откуда тебе знать, все вы вот такие неучи. Розин, что ты там шелестишь, ты же сам ни в зуб ногой, а еще замполит. Я давно хочу выгнать тебя в шею, ты у меня на волоске висишь! Только из-за твоей мазни тебя и терплю. Не напишешь портрет Дзержинского к сроку, выгоню к чертовой матери! А сделаешь Дзержинского к великому празднику — я тебе сразу майора дам и отдельную мастерскую. Да, вот тебе еще заказ: как Дзержинского закончишь, будешь рисовать портреты лучших милиционеров нашего полка. Так сказать, галерею героев, как в Эрмитаже. Повесим по стенам у нас в зале собраний на Лиговском проспекте. А ты, — обратился он опять к Загинайло, — как у тебя с русской литературой? Что ты читаешь? Какие твои любимые книги? Меню в ресторане? Сберкнижка? Знаешь поговорку: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты? Ну, Толстого, Чехова тебе в школе по программе вдалбливали. А вот — «Бесы» Достоевского читал? А Крестовского, «Петербургские трущобы»? И не слыхал о таком писателе? Кем мне приходится командовать! Пещерные люди, папуасы, питекантропы! — полковник Колунов, возмущенный, туго завернутый в свою римскую тогу, погрозил Загинайло костлявым пальцем. — Паришь ты, Загинайло, хорошо. Ничего не скажу. Но не знать великую русскую литературу, нашу классику, нашу национальную гордость — это срам и позор! Чтоб Крестовского, «Петербургские трущобы», прочитал оба тома, от корки до корки. Даю неделю. По ночам читай, как Горький в детстве. Через неделю вызову, будешь сдавать мне экзамен: перескажешь содержание и какие умозаключения в твоей умной голове возникли. Вон у тебя какая голова большая, лысая уже от мыслей, в двадцать шесть лет, башковитый, как видно, семь палат. Спиноза! — закончил злоязычной насмешкой свою ядовитую речь комполка Колунов.
Ефросинья Николаевна, дочь полковника Колунова, Фря, как он ее называл, готовила в отдельном помещении стол с вином и яствами. Так сказать, следующий номер программы, вторая ступень испытания новопоступившего офицера. Этот обычай был введен и соблюдался с тех пор, как Колунов стал командовать полком: новенький, принятый в тесно сплоченную офицерскую полковую семью, должен был пройти три испытания: баня, пир, стрельба в тире из автомата и пистолета. Загинайло посадили за стол, за которым собрались все свободные от службы офицеры полка, и ему налили богатырский стакан, или, как его называли — чарка папы. Это был не простой стакан, особенный, второго такого во всем мире не сыщешь. Его изготовили на заводе по специальному заказу Колунова. Лучший мастер-стеклодув выдувал этот перл. Это был стакан-башня, из толстого стекла, граненый, прозрачный, как горный хрусталь, и вмещал в себя ровно литр водки. Испытуемый должен был выпить его, не отрываясь, зараз, за один дух. Колунов сидел во главе стола, ждали его сигнала.
— Ну, что Загинайло, готов на амбразуру? — спросил полковник Колунов.
Тот кивнул.
— Тогда поехали! — махнул рукой Колунов. Все офицеры подняли свои обыкновенные столовые стаканы. Поднял своего великана и Загинайло, держа обеими руками как драгоценный сосуд. Поднес к губам.
Он одолел этот богатырский стакан героически. До донышка. До капли. Стоя. Так полагалось. Поставил пустой стакан на стол. Все офицеры эти три минуты ждали в гробовом молчании, устремив на него свои упорные взгляды: не пошатнется ли он? Нет, он не пошатнулся, стоял мертво, как вкопанный в землю, железный столб. Весь стол разразился громовым ура. «Мировой парень!» — кричали офицеры. «Чарку папы одолел, не моргнув! Стоит, не шелохнется, глаза ясные. Водку дует, как Змей Горыныч! Ай да Загинайло! Наш! Свой в доску! В дубинку! Вот это по-русски!» Колунов улыбался своими ядовитыми серыми губами.
— Дайте ему что-нибудь на зуб! — приказал он. — Кровяной колбаски, поросенка с хреном. Не свалишься через пять минут под стол, — дам капитана. Свалишься — Фря тебя спать уложит в постельку, она у меня добросердечная, любит с детьми нянчиться, споет тебе баю-баю.
Загинайло не свалился под стол ни через пять минут, ни через полчаса. Хмель его не брал, голова ясная, только ноги свинцом налились, и язык говорил не совсем связно. Загинайло и всегда тяжело выговаривал слова, не любил он говорить, а тут пришлось отвечать на вопросы. Фря, дочь Колунова, девушка восемнадцати лет, сидела от Загинайло по правую руку. Очень он ей понравился, и она завела с ним приятные речи.
— А ты, Загинайло, кремень! — похвалила она развязным тоном, круто повернувшись к нему, опираясь локтем о стол и похабно-цинически разглядывая его. — Фигура у тебя, как у молотобойца. Ты что, из кузнецов?
— Ага. Угадала, — ответил ей, выдавливая слова, упорным языком Загинайло. — У меня прадеды — кузнецы. Дед был кузнец, известный по всему Закарпатью. Знаменитый был кузнец. Отец тоже кузнец был.
В это время Колунов, прервав его, зычно подал команду:
— Старший лейтенант Загинайло! Встать!
Загинайло, исполняя приказ, встал из-за стола.
— А теперь пройдись шага три! — приказал Колунов.
Загинайло сделал три шага, ноги пудовые, как будто к ним по гире привязали.
— Ну, вижу, вижу. Будешь у меня на лучшем счету, — услышал он насмешливый голос комполка Колунова, в словах которого звучала нескрываемая оскорбительная нотка. — Ты покрепче своего брата на ногах держишься. Тот на третьем шагу пошатнулся и грохнулся бы, если б под ручки не поддержали. К стеночке прислонили. А ты стоишь, как Александрийский столп. Тебя надо беречь. Посмотрим еще, какой ты у нас стрелок, и я тебя отпущу. По коням! — громко скомандовал Колунов. — Фря! Вставай! С нами поедешь, будешь этому орлу поводырем, крепче держи его под ручку, ты же любишь опекать молодых офицеров. Хотя немолодых ты тоже не пропускаешь, — добавил он с саркастической ухмылкой.
Все офицеры вышли на двор, к машинам. Большая часть поместилась в автобус. Полковник Колунов, замполит Розин, Фря и Загинайло сели в полковничью машину.
— На Львовскую! В тир! — приказал Колунов водителю.
— На Львовскую улицу! В тир! — скомандовал вслед за ним замполит Розин, как бы эхом повторяя приказ полковника.
Машина помчалась, ревя сиреной и крутя мигалкой. Загинайло не мог бы сказать, долго ли они ехали и в какую сторону. Он забылся. Очнулся от толчка в плечо.
— Эй, ты, кузнец своего счастья! Просыпайся! — грубо, не церемонясь, говорила ему Фря. — Тир. Сам выползешь или помочь?
Загинайло отстранил руку помощи и сам вылез из кабины.
Тир — длинный, двухэтажный кирпичный сарай. Офицеры полка во главе с полковником Колуновым, шатаясь на нетвердых ногах, во хмелю, пошли от машин, сгрудились у входа. Вахтер тут же распахнул дверь, и все прошли через турникет внутрь здания. В подвале тира ждал заблаговременно приготовивший все нужное полковой инструктор по стрельбе старший лейтенант Батенька, конопатый, вихрастый, в наушниках. Офицеры выстроились на огневом рубеже зыбкой шеренгой. Полковник первый справа, с ним замполит Розин и Загинайло. Тут же в шеренге офицеров, локоть в локоть с Загинайло, стояла и Фря, препоясанная широким ремнем с кобурой на бедре, в которой помещался ее личный пистолет, подаренный ей отцом для самообороны, чтобы она могла себя защитить, если на нее где-нибудь на темной ночной улице нападут бандиты. Инструктор Батенька, в своих наушниках похожий на тощую стрекозу, шел вдоль этой не совсем стройной, качающейся, как камыш, шеренги и раздавал горстью из котелка, наполненного медными желудями, каждому по шестнадцать патронов. Протянул и Загинайло полную пригоршню на своей широкой, корявой, как грабли, пятерне, дружески подмигнув ему. Батенька, раздав патроны, отошел на шаг в сторону от шеренги за свой наблюдательный пункт, где у него на столике была установлена подзорная труба и лежал бинокль. Батенька хмурился, он не скрывал своего недовольства, не боясь вызвать гнев командира полка, и это можно было назвать отвагой. Все знали Колунова: как он любит оскорблять и унижать людей, бить по самым болезненным струнам, да не просто так, а всегда с каким-то подвохом и вывертом, садистски, втоптать в грязь, при свидетелях, не щадя самолюбия. И что примечательно, какой бы ты ни был молчун и скрытник, найдет твою тайную жилку — и всё, ты в его власти, пропал. За эту жилку он будет тебя постоянно дергать, терзать и мучить, и уж не отстанет. Так что, хоть плачь, а патроны давай и молчи в тряпочку. Не твое собачье дело, что за одну такую ночную, внеплановую стрельбу офицеры израсходуют месячный запас патронов. Теперь личному составу полка, бойцам всех трех батальонов, на учебных стрельбах, положенных по графику раз в неделю, будут выдавать вместо десяти по одному патрону на человека. А потом удивляются, что снайперов в полку маловато. Батенька, омраченный этими мыслями, повернулся лицом к шеренге и скомандовал:
— Снарядить магазины! Оружие к бою! Огонь!
Раздался треск выстрелов. Опустошив обойму, перезаряжали пистолет, вставив запасной магазин, и без команды, самостоятельно продолжали стрельбу, лупили в двоящиеся и троящиеся мишени с их расплывающимися, как от камня на воде, насмешливыми кругами. Патроны иссякли, треск выстрелов прекратился. По команде «К осмотру мишеней! Марш!» — гурьбой побежали в конец тира, к щитам. Картина представилась грустная: почти все мишени удачно уклонились от зорко пущенных в них пуль. Однако были и исключения. Мишень командира полка Колунова была так издырявлена, что ей позавидовало бы решето. Мишень, в которую стреляла Фря, порадовала глаз инструктора Батеньки еще больше: ни одного промаха, пули легли густым роем в центр мишени, девятки, десятки. По мишени замполита Розина Батенька скользнул презрительным взглядом: три попадания из шестнадцати, три семерки. «Портвейн замполит выбил», усмехнулся про себя Батенька, вспомнив марку любимого всеми вина. Зато у мишени Загинайло Батенька остановился ошеломленный, как громом оглушен. Такое он не ожидал увидеть. Загинайло влепил в центр мишени все шестнадцать пуль, все в десятку.
— Феномен! — наконец обрел дар речи Батенька. — Хоть на выставку! Сколько лет в тире, первый раз такое вижу. — Батенька, забыв снять наушники, все взирал на мишень и никак не мог оторвать от нее восхищенного взгляда. — Вот это стрелок! Я понимаю! Чудо природы! Вот, подлец, залупил! И откуда ты только такой взялся? Медведь медведем, а как стреляет! Нет, это надо ж! — продолжал изумляться инструктор Батенька. — Ты что ж, и из автомата такую же штуку нарисуешь? Э! Теперь ты у меня на стрелковых соревнованиях МВД первый приз возьмешь, чемпион будешь!
Все офицеры сгрудились у мишени Загинайло. Подошел и полковник Колунов. Он криво усмехнулся и не проронил ни слова. Молча пошел вон из тира. Все последовали за ним. Сели в машины. Всех развезли по домам. Загинайло и еще трех холостых офицеров отвезли в казарму.
VI
Через трое суток, на четвертый день утром, в половине восьмого часа Загинайло опять явился в батальон на Г-й улице. Взвод по графику заступал в наряд. В дежурке он столкнулся нос к носу с плосколицым капитаном. Зампослужбе Железнов.
— А! Загинайло! — воскликнул он добродушно, протянув ему широкую руку для рукопожатия. — Слышал о твоих подвигах! — закричал Железнов. — Жаль, своими глазами не видел. Геракл! Мифы и легенды. Молва о тебе до Москвы докатилась, до министра внутренних дел. Готовь погон. Бери у старшины шило и дырявь для четвертой звездочки, — Железнов, взяв Загинайло под локоть, продолжал: — Идем ко мне, я должен тебе вручить одну птичку-невеличку. Переходной вымпел — золотая сова. Символизирует нашу службу охраны. Твой четвертый взвод признан лучшим подразделением в городе. Хоть это, извини, и не твоя заслуга, а, так сказать, воздаем запоздалую честь твоему брату Петру, это он свой взвод из разгильдяев, какие везде и всюду, сделал железной боевой единицей, как говорится, но тебе оказывают доверие, на тебя возлагают большие надежды.
Железнов привел его к себе в каморку, которую он громко называл кабинетом. Стены увешаны красочными чертежами оружия, схемы, указы правительства. Карта Октябрьского района в полстены, под стеклом, прикрепленная по краям могучими, как на рельсах, гайками.
— Крадут карты, ворюги! — объяснил, помрачнев, Железнов. — Три раза тибрили. Им все равно, что тащить — ящик с гвоздями, мешок с цементом, икону, хреновину какую-нибудь из музея, ногу от мумии, переписку Екатерины Второй с Вольтером. Что охраняют, то и тащат. Не знаю, чем им карта моя приглянулась? — жаловался Железнов. — Карта как карта, ничего в ней нет. Медом, что ли, намазана? Или, может, спиртом пахнет? Но вот верь не верь, а парадоксальный факт: три раза карта исчезала у меня из кабинета. Повешу, месяц повесит, прихожу утром на службу: нет карты, голая стена! И ведь никаких следов. Шито-крыто. Эту пришлось болтами прикрутить к стене насквозь, с выходом в кабинет к Розину. Вот его картины почему-то не трогают, ни одна собака не покушается на его шедевры. А кабинет отхапал в три раза больше, чем у меня. Ему, видите ли, мастерская нужна, много места, чтоб свою мазню развешивать. Ты к нему и не суйся, не советую, начнет показывать свою мерзопакость, всего тебя красками перепачкает. Он же там сидит как сыч день-деньской и малюет свое «Явление Христа народу» — Дзержинского. В шинели, в сапогах, с маузером. Во всю стену засобачил. Он тебе еще не показывал это великое полотно, шедевр века? Будет звать, не ходи. Я тебе говорю: такая гадость, что потом сутки все дежурство будешь плеваться, как будто тараканов наелся. — Железнов с ожесточением сплюнул в стальную каску у него на столе, которая служила ему пепельницей. Открыв сейф, он достал свернутый вымпел. Держа за древко, развернул его во всю ширину, как штандарт. Изображение летящей над городом золотоперой совы с громадными черными очами. Под ней, внизу, в правом углу — маленький, голубоватенький, как призрак, Медный всадник. Сверху красными буквами — ОХРАНА. И сбоку — МВД. Зампослужбе, показав это символическое изображение, сам стал очень внимательно, в упор рассматривать, как будто видел его впервые, и что-то было ему там непонятно и приковывало. Наконец, исчерпав интерес к этому образу, протянул вымпел Загинайло.
— На! Забирай сокровище! Шелк-парча. Можешь себе вместо портянки в сапог намотать. Лучше б деньжат подкинули, зная нашу нищету. Да! Дырявая башка! — Железнов хлопнул себя по лбу. — А ты, что ж, гаврик, молчишь, как цинковый гроб? Ты ж нуждающийся? А? Ты ж у нас еще ни гроша не получал! Так я понимаю? Тебе до двадцатого числа тянуть. Могу поделиться по-братски. В получку отдашь. Вон ты какой бледный, зеленые круги, утопленник краше. Чего доброго, ты у меня на инструктаже в голодный обморок упадешь! — Железнов полез в карман своего мундира.
Но Загинайло наотрез отказался от денежной помощи и своим решительным отказом, казалось, обидел великодушного капитана. В светло-серых глазах Железнова что-то померкло, и он сухо закончил:
— Ну, хозяин-барин. Тогда не задерживаю. Вали к своему взводу, уже восемь. Начинай инструктаж.
Загинайло с вымпелом под мышкой вышел от зампослужбе и по коридору направился в помещение, где производился инструктаж наряда. Весь взвод собрался, без опозданий, по всему батальону гам и рев тридцати здоровенных глоток. Загинайло вошел. Взвод затих, как по команде. Два командира отделений, Стребов и Черняк, вскочили из-за стола, за которым еще с двумя милиционерами забивали «козла». Костяшки домино со стуком посыпались на пол.
— Взвод! Встать! Смирно! — подал запоздалую команду звонким голосом старшина Черняк.
— Вольно! — махнул рукой Загинайло. — Сесть и слушать. Вот, вымпел! — Загинайло передал вымпел старшине Черняку. — Поручено всех вас поздравить от имени начальника ГУВД. Вы — лучшее подразделение города, образцовый взвод. Заслужили честной и добросовестной работой. Это мой брат Петр, ваш бывший командир, должен был сделать. Но вот, делаю я. Поздравляю.
Взвод никак не отозвался на его речь. Хмурые взоры. Все хранили единодушное гробовое молчание. Загинайло хотел сказать им еще кое-что, но ему помешало внезапное происшествие. Тощий сержант, вскочив из-за крайней парты, бросился к окнам позади сидящих, яростно рванул грязную штору и, что-то бормоча, стал открывать форточку. Но форточка не поддавалась. Старшина Яицкий вчера забил ее наглухо гвоздями, на зимний сезон, чтоб эти недоумки, эти болваны, уроды проспиртованные, которым всегда жарко, не выстужали батальон. Сержант, уразумев бесплодность своих усилий, недолго думал, снял с плеча автомат и прикладом вышиб стекло вдребезги. В душную комнату ворвался холодный ветер со двора.
— Линьков, ты что? Хлорофоса стакан с утра тяпнул? — взревел на него командир третьего отделения Стребов. Это был его подчиненный. — Опять ты за свое! Воздуха тебе не хватает? Туберкулезник недолечившийся! Мне твои фокусы вот уже где! — Стребов резанул себя ребром ладони по горлу.
— Так дышать же тут нечем! — отчаянным голосом завопил Линьков. — Вонь от всех страшная, как будто год никто не мылся, рты у всех смрадные, хлебалы, несет как из помойки, сапоги эти вонючие, все потные, все в дерьме валялись, лучше со свиньями в хлеву жить, чем в этой душегубке мучаться на ваших разводах!
— Ах, какая неженка явилась! — прервал вопли Линькова Стребов.
— Скажи, пожалуйста! Может, ты тут ландыши хочешь нюхать? Духами для тебя специально комнату опрыскивать? Гвоздикой, жасмином? Да на кой ты нам тут нужен, сопля чахоточная? Пиши рапорт. Отправим тебя обратно в санаторий. Пусть тебя там долечат. Там и дыши соленым морским ветром. Заодно и психику тебе там поправят, а то ты нам тут все окна раздубасишь!
Загинайло прекратил этот безобразный спор:
— Всё! Сесть на место! Начнем инструктаж, — встав за фанерную трибуну и раскрыв толстую книгу в черной клеенчатой обложке, куда заносились свежие новости о преступлениях, совершенных в городе и стране, он объявил: — Приготовьте ручки и служебные книжки. Я буду диктовать, а вы записывайте. Тут много записывать, целую страницу. — Загинайло уже вполне освоился со своей новой ролью, он уже вник в эту службу так, как будто проработал не четыре дня, а четыре года. Он стал громко читать из книги:
— Циркуляр номер триста сорок семь. Фрунзенский район. Разбойное нападение, ограблена касса… — Но Загинайло не успел прочитать дальше. Внезапно вошедший в помещение замполит Розин прервал его важное сообщение на полуслове.
— Вольно, вольно! — закричал он, маша обеими руками, как журавль крыльями, хотя никто и не собирался при его появлении подавать команду «смирно».
— Явилась ворона! — произнес милиционер со скуластым монгольским лицом, который сидел за передним столом и мрачно взирал на бабью фигуру широкобедрого и пузатого замполита.
— Где почетный вымпел? — возопил замполит Розин. — Дай сюда! — потребовал он, разъяренный, и вырвал вымпел из-за голенища командира отделения Черняка, куда тот его засунул за неимением другого подходящего места. — Как ты обращаешься со знаком почести! — набросился он на Черняка. — От кого от кого, а от тебя, Черняк, такого кощунства я никак не ожидал, ты же не дикарь, музеи посещаешь. Мне доложили, что ты вчера был на новой выставке австралийского искусства в Эрмитаже. Опять же, рисуешь! Графики работы взвода цветными карандашами так сделал — загляденье! Стенгазеты — опять же ты! Регулярно и безотказно. За что и великая тебе благодарность. Но как тебе пришло в голову засунуть вымпел в такое место? Ты бы его еще в штаны себе засунул! Безобразие! Эх, соколики! Не ожидал, не ожидал я от вас… — оскорбленный в лучших чувствах замполит Розин держал вымпел над своей головой, эту попранную святыню, как будочник держит флажок при приближении поезда. — Надо его поставить на видное место! — торжественно провозгласил Розин.
Неизвестно, куда бы замполит поставил злосчастный вымпел. В коридоре раздался грохот тяжелых сапог, дверь распахнулась, в помещение ворвался прапорщик Бабура, который отсутствовал на инструктаже наряда по уважительным причинам. Его мясистое, как кровяная котлета, лицо тряслось.
— Чижика замочили! — прохрипел он. — Сегодня ночью. Там все теперь, и Бурцев, и Колунов.
— Подожди, подожди, Бабура! — остановил его замполит Розин.
— Опять ты басни сочиняешь? Но если действительно, как ты тут при всех утверждаешь, младший сержант Чижов погиб на посту, при исполнении служебных обязанностей, то его семье по закону должны будут выплатить пособие в размере десятикратного жалованья, а также полностью оплатить расходы на похороны. Насколько я помню, у него многодетная семья, да… — поугрюмев, проговорил замполит Розин тихим голосом, чеша вымпелом свой затылок и сдвинув козырек фуражки на скорбные брови. — Да, траурную весть ты принес, Бабура. Но что ж делать. Продолжайте развод, Роман Данилыч, — обратился он к Загинайло. — Работайте, работайте. Не унывать! Что ж тут попишешь, такая у нас служба. Сегодня прыгаешь, завтра — в гробу ножки протянул. Да, Чижов такой живчик был, с него портрет писал, так он секунды не мог усидеть на стуле. Но!.. Мементо мори! Не падать духом, соколики! Веселей, солдат, гляди. Как в песне поется! — замполит Розин, держа перед своей грудью вымпел, поспешно покинул помещение.
Взвод шумел. Обсуждали происшествие. Штора колыхалась на разбитом окне, комнату наполнял холодный воздух снаружи, но он не остужал спорящих. Загинайло оставался за своей фанерной трибуной. Он не вмешивался. Его не тревожило то, что он еще чего-то тут не знает. Скоро выяснится. За три дня он хорошо приготовился к исполнению своей должности, штудировал уголовный и административный кодексы, устав патрульно-постовой службы (сокращенно ППС), различные пособия, криминалистскую и юридическую литературу. Этот ускоренный курс наук он прошел самостоятельно, запершись у себя в каморке в казарме. Ему ничто не мешало, ни шум, ни громкий стук в дверь, ни рев, ни хор мертвецов за стеной в соседней комнате, где жили два товарища, такие же два командира взвода, только из другого батальона. Загинайло все освоил и запомнил, все существенное, что есть в этих книжках. Ему запала в ум фраза, прочитанная в одном из пособий: «Надо понять дух этой профессии. У каждой профессии есть свой дух». Что ж не понять, если сам тут… Подождав минут пять, пока накричатся, выпустят пар, он поднял кулак и грозно гаркнул, подавляя шумящие голоса:
— Прекратить прения! Прапорщик Бабура! Пишите рапорт о происшествии! У вас ведь по всякому случаю рапорта пишут, как я понимаю. А мы продолжим инструктаж. Итак, тема инструктажа: права и обязанности сотрудника милиции. — Загинайло тяжелым взором посмотрел на взвод. — Я думаю, вы все лучше меня знаете свои права и обязанности. Эта тема у вас гвоздем в черепе. Ваш хлеб.