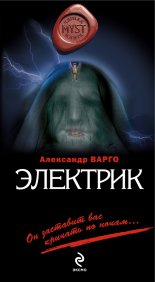Одна ночь (сборник) Овсянников Вячеслав

Тема и метафоры
Вячеслав Овсянников окончил знаменитое Макаровское училище, плавал по морям-океанам, теперь офицер милиции. Пока плавал — писал стихи, теперь пишет прозу.
Такое вступление, наверное, настроит читателя на романтический лад, и от книги будут ждать невероятных приключений или сражений с преступниками — героики милицейских будней. Ничего этого здесь нет. Автор — человек неординарный и не вписывается в литературную «милицейскую форму» в традиционном представлении. Он — не бытовой беллетрист, а скорее мифолог и писатель склада Андрея Белого. Милиция для него лишь среда, его герои живут более по литературным законам, нежели реальным. Милицейская тема для Вячеслава Овсянникова — не удобное зеркало для «отображения действительности», а благоприятный материал для гротескного осмысления жизни. Хотя в интереснейших реальных деталях его прозы много правды, нельзя принимать весь этот страшный будничный быт за полностью достоверные копии. Это — сгустки абсурда, гротеска, метафор, которыми оперирует автор.
Вячеслав Овсянников — новый голос в современной петербургской прозе. И этот голос своеобразен и чрезвычайно актуален.
В. Соснора
Книга первая
ЗВЕРЬ АПОКАЛИПСИСА
СТРАДАНИЯ СЕРЖАНТА БЫКОВА
…Проснись, Быков! Да проснись же ты, Алкоголь Горыныч!.. Проснулся, схватил трубку, сердце гремит. В трубке тихий голос Веры: Митя, приезжай скорей!.. Гудки…
Улица длинным темнеющим конусом. Киоск, афиша, фонарь. Быков летит в милицейском газике, крутит баранку. В зеркальце небритый, угрюмый, с гербом на лбу, на плече сержантская лычка. Это я, — догадывается Быков. Бесшумно летит по освещенным безлюдным улицам. Мебель. Фарфор. Фото. Аптека. Салон причесок. Часы «Космос». Фонари редеют. Окраина. Новый район. Машина блуждает в темноте двумя дымными лучами. Ямы, горы, кубы, барабаны, изогнутые железяки из земли. Небоскребы. Окна спят. Только озарен прожектором строящийся дом, кладут кирпичи, стучит что-то металлическое, брызжет звездочками электросварка, шевелится зигзагообразный кран. Этажи, этажи, в стеклах мрачность. Дверь парадной стукнула, кто-то вошел в жемчужном плаще. Быков следом. Раскрылась перламутровая кабина лифта. Сбоку черные кнопки. Быков кричит: Вера!.. Вера стоит, смотрит. Взор Веры — зима, Сибирь, он — уголовник в тайге, тонет в этом суровом взоре, шевелятся дремучие ресницы.
— Вам на какой этаж? — она.
— Вера, это же я! — он.
Вера презрительно ежится. Перст с розовым острым ногтем жмет кнопку. Ее профиль — будто из кино. Лебеди, ноктюрны… — думает Быков. Память распевает мелодии ее фраз: Я без тебя скучала. Что ты сегодня принес? Ах, я так люблю ландыши!..
Быков говорит:
— Вера! Что же ты ничего не помнишь? Сама сейчас звонила, звала — приезжай…
— Что за нелепые фантазии, — отвечает Вера. — Вы пьяны, сержант. Я не имею удовольствия быть с Вами знакомой. Или у Вас в кармане ордер на мой арест?
Быков пялит глаза:
— На каком это мы этаже? На сотом?
Рот у нее в вишневой помаде, говорит:
— Ну, хорошо. Идем.
Квартира. Гвалт, визг, разливается молодецкая русская песня «По Дону гуляет казак молодой».
— Новый год? День рождения? Новоселье?
Вера сердится, морщина между бровей:
— Тебе что, совсем уже уголовники память отшибли?
Быков видит: голова Веры в гипюровых кружевах, из-под жемчужного плаща белое до пят платье. Невеста?..
В квартире музыка, толкотня, ералаш. Стол — горы яств, вина всех сортов, цветы. Из кухни бегут с дымящимся китом на блюде. Грянули: А! Вот и они! Ох, страшно, товарищ сержант. Кривляясь, козыряют ему «честь». Какую гражданочку зацепил. Ай да сержант. Знай наших… Тянут, сажают во главе стола. Там уже рядом с Верой его друг-приятель, пунцовомордый Чапура, тоже в полной амуниции, с погонами милицейского старшины. Чапура невозмутим. Его широкая грудь так вся и сверкает в чешуе медалей и орденов. На брови надвинута громадная фуражка с глянцевым вороненым козырьком. Быков подсаживается. Вера между ними, представляет их всему застолью:
— Мой муж Миша, мой муж Митя.
— Горько! — ревет стол.
— Миша, Митя, ну, что же вы, мужчины! — улыбается Вера.
— Ну, пора и бай-бай, новобрачные, — нежно мурлычет она и ведет обоих мужей за руки в спальню.
Там гигантская кровать, подушки-пуховики, откинуто атласное розовое одеяло, простыня — сама белоснежность. На столике серебристая головка шампанского и благоухающие сладким соком, нарезанные кружки ананаса.
На ложе трое: у стены с персидским ковром возлежит Чапура, в мундире, в портупее, в сапогах. На брови все так же надвинута громадная фуражка с глянцевым козырьком. Быков примостился на другом краю постели. Между ними — Вера в кружевном пеньюаре.
Вера задирает косматую медвежью лапу, шевелит когтищами с малиновым педикюром:
— Потрясающая у меня ножка, а, мальчики?
— Это уж слишком, — ревет Быков. — Вера, ты от меня требуешь невозможного! Я не люблю сообщников! — и он выхватывает сбоку пистолет и стреляет в наглую ухмылку пунцовомордого Чапуры.
Спальня проваливается. Чудовище любви о трех головах исчезает в призрачном дыме…
Тусклый, свисающий с потолка тюльпан источает будничное сияние. Стол, стакан. Быков на кровати, в форме, в сапогах. Так я спал! Тоска!.. Огромный черный квадрат окна. Смотрит на часы у себя на руке: 7:00. Ум Быкова мрачно жует тупую и вязкую, как смола, мысль. Эх, животное! У другой стенки Чапура сотрясает комнату паровозным храпом.
В коридоре грохают двери, стучат каблуки, раздается бодрый утренний гам. Общежитие просыпается.
Окно — ночной экран утра, зажигаются квадратики этажей. Город, октябрь, понедельник.
Комната — замусоренная коробка. Шкаф с полуоторванной дверцей. Стул. На стенах фотографии едва прикрытых девиц. Еще — маска из черного дерева. Изображает африканку с толстыми оттопыренными губами. Смотрит на него, Быкова, усмехается. Это Чапура сцапал штурмана из дальнего плавания, укачавшегося у самых ворот порта с чемоданом. Тот и откупился сувениром. Такая страхолюдина теперь у них в комнате на стене. Хранительница их холостяцкого очага.
— Чапура, змей, вставай! — кричит Быков. — Восьмой час. Взводный нас с потрохами сожрет.
Шинель, ремень, сапоги, и вон в коридор, на лестничную площадку. Лифта нема. Топают по ступеням. Дворничиха — фуфайка, звяк ведром, здрасте. Дома построены лабиринтом. Лужи-моря, ямы-пропасти, бурые горы глины. Тут круглый год роют траншеи, откапывают трубы и опять закапывают. На пустынной площади гигантский куб из стекла и железобетона — кинотеатр «Коммуна». На афише аршинными буквами фильм: «Фараон». Садик, голые сучья. Вороны летят в рассветающем воздухе, рваные бродяги, кричат: ах, мы, вороны, бедные мы, беспаспортные!.. Улица в автобусах, автомобилях. Тут и большое голубоватое «М». Вход в метро. Толпы по ступеням валятся под землю. Под землей вагон, электрояркий, набит людской сельдью, рты-носы дышат, сопят. Рывок, начинается движенье. За стеклом с гулом проносится туннель, чрево тьмы, бесконечная полость. Шатнуло. Остановка в туннеле. Тишина. Шепчутся. Звуки нестерпимо громкие. Сошли с графика. В лоб встречный поезд, вдрызг, в месиво, в кровь, в грязь… Меж голов на Быкова смотрит девушка, безумие в очках, рот разъезжается, как пунцовая рана. Подохнуть в этой закупоренной людской банке под землей, под городом?.. Страшно и думать. Хочется стрелять. Ох, как стрелять хочется. Револьвера нет. Нервы. Рывок. Движение продолжается. Наконец-то и выход. Воздух.
Быков и Чапура топают дальше. Обводный канал. Стоят строем кирпичные корпуса заводов, чадят трубы. Ревут, проносясь, грузовозы с шлейфами черного дыма. Вдали, над каналом, клубится мрачная картофелина восходящего солнца. Об асфальт взорвалось яйцо, тухлая граната, забрызгала сапог. Окна-бельма, кто их поймет. — У, попадись мне только — хайлом сапог вычищу! — рычит этажам Чапура.
Проспект звенит трамваем. Шатается с утра-пораныпе похмельная личность, шипит невыбитым зубом: менты…
Скучный, обыкновенный дом, этажи. Милиция. Ведомство охраны. Дверь с пружиной.
Коридор длинный, как кишка, таблички кабинетов, часы-табло: 7:30. Лозунги, стенгазеты, плакаты, доски почета с портретами лучших милиционеров, бухгалтерия, отдел кадров, зал заседаний, дежурная комната. В комнате дежурный сержант Жиганов с красной повязкой на рукаве, стол, телефон. Жиганов хмур, выдает заступающим в наряд пистолеты.
— Что как лом проглотил? — говорит ему Чапура.
Конец коридора, курилка. Сержанты и старшины. Клубы табака, щетка машется, зеркалит сапог, крутится ус. «Козлы» с оглушающим грохотом зашибают вечные косточки домино. Орут: рыба!
Чапура уже в центре курильщиков. Багровый, как помидор. Усы веником. Треплет языком, уши лопаются от его громыхающего баса. Щеголь же он, мундир в блестящей чешуе значков, пестрая планка орденов и медалей, сапоги на высоких каблуках. Женщины мрут от Чапуры, как мухи. Чапуре еще и сорока нет, как говорится, в самом соку, мастер самбо, стрелок высшего класса. Любит порассказать о своих подвигах, такое загнет — веришь и не веришь. Всем дает в долг, без отказа. Деньги у него всегда водятся, кошелек полнехонек. Большой палец у Чапуры оттопырен, тычет желтым прокуренным ногтем:
— Вешай лапшу на уши, сынок, что я, первый год в милиции? Он сам Жиганову в три ночи телефонит: я сейчас убил Цветкова. Этого Лупенко я знаю, как облупленного, мы с ним Волково кладбище охраняли. Чуть наш Анчар зарычит, этот Лупенко хватает из кобуры пушку, пуля в дуле, и летит, псих психом, буркалы из орбит. Я — рапорт: с этим Залупенко дежурить — наотрез, мне еще житуха мила, а по нему давно психи плачут. Цветков ночью обход делал, посты, как всегда, проверял. Чего уж у них с Лупенко там вышло, может, бабенку не поделили, а, может, и так, сдуру — только зафугасил в Цветкова этот двинутый, в самую десятку, тот и пикнуть не успел.
— Вот тебе и лютики-незабудки! — сказал сержант Чубарь и сдвинул свой картуз с гербом на затылок.
— Орлы, время! — кричит в дверь курилки командир взвода лейтенант Тищенко с выпученными очками.
Идут в комнату, где производится инструктаж наряда. Взвод с грохотом садится за столы-парты. За столом командиров отделений пустует одно место. Вот тебе и лютики-незабудки, Витя Цветков.
8:00. На стене суровый Дзержинский с бородкой-клинышком, указы правительства, выписки из указов и кодексов, красочный чертеж пистолета системы Макарова. Командир взвода Тищенко встает за трибуну, раскрывает толстую, как библия, книгу в черной обложке, читает информацию о преступлениях. Взвод пишет в свои служебные книжки:
Фрунзенский район, убийство в квартире пенсионерки Мурашкиной, 70 лет. Жертву ударили молотком по голове. Похищены хрустальные вазы, фарфор, цепочки из золота, перстни, серьги, деньги. Японский магнитофон «Сони». Приметы преступника: 20–25 лет. Рост 170–180 см. Лицо белое, круглое, приятное. Губы толстые, шепелявит. Ноги короткие, кривые. Был одет в грязную замасленную фуфайку. Представился сантехником. В руке держал чемоданчик с инструментами.
Разыскивается дезертир Магамедов Зиммудин Магаметович. 20 лет. Рост 195. Атлетического сложения. Лицо азиатского типа, глаза карие, волосы черные, стриженые. Одет в армейский бушлат. При себе имеет автомат Калашникова и 300 патронов.
Выборгский район. Пропала Маша Гаврилова, 12 лет. Нос в веснушках. Портфель школьный, вишневого цвета.
Разыскивается мошенница Лисицина Ольга Павловна. Полная. 50 лет. Волосы светло-рыжие, парик. На подбородке шрам. Щурит глаза. Разыскивается рецидивист по кличке Шмак. На левом веке бородавка. На груди татуировка: нож, обвитый змеей. Украинский акцент. Лицо ромбовидное. Нападение на инкассатора, 47 тысяч рублей. Обнаружен труп молодой женщины в реке Карповке. Грузинский акцент. Левый глаз смотрит вверх. Лицо квадратное. Угнан «Москвич-408», номер 18–13 ЛЕЗ, желтого цвета.
Шапочка-петушок. Разыскивается пропавший без вести милиционер Бураков. Сбыт фальшивых купюр. Татуировка: «нет в жизни счастья». Побег умалишенных. Кража икон из Русского музея. Лицо небритое треугольное. Латышский акцент. Разбойное нападение на квартиру. Побег осужденных. Плотный казах ограбил такси. Изнасилование несовершеннолетней. Татуировки: череп, роза, русалка. Гулбис Раймонд, стройный, глаза навыкате, голубые. Мужеложство. Брюки-бананы. Лысина в свежих царапинах. Изнасилование пятилетней девочки. Три кавказца. Жигули желтые. Расчлененный труп в новогоднем мешке…
Лейтенант Тищенко захлопнул книгу, как выстрелил. Смотрит сурово:
— Орлы! Вчера ночью убит наповал сержант Цветков. Погиб наш прекрасный боевой товарищ. Остались без отца два несмышленыша. Такое горе. Приедут со Смоленщины отец и мать — что старикам скажешь?.. Лупенко будут судить по всей строгости советских законов. Сейчас он в спецбольнице под стражей, проверяют его психонормальность. Парторганы полка предлагают собрать деньги по кругу — проводить в последний путь Витю Цветкова, нашего дорогого товарища. Эх, орлы!..
— Теперь! Сами знаете; особое положение. Работа без передыху. Близится Великий Октябрь. Большая революционная годовщина, праздник всей советской страны. А в городе, орлы мои, растет небывалая волна убийств, грабежей, насилий. Преступный мир поднял свою змеиную голову. И это стихийное бедствие, орлы мои, похуже любого наводнения, которыми так знаменит наш город-герой на Неве. Все! Показать удостоверения личности!
Взвод поднимает малиновые корочки с золотыми буквами: ГУВД (Главное управление внутренних дел).
— Убрать! Орлы! В коридор! Стройся! Быстро! Булатов!..
В коридоре шеренга.
— Вправо. Заправься. Ровняй носки. Строй, как бык посс…л. Булатов, опять у тебя сапоги в дерьме! Где ты шатаешься по помойкам? Ох уж мне этот Булатов! Как нож в горле.
Из кабинета выходит замполит Шептало, майор, высокий, тощий, уши-локаторы.
Тищенко кричит:
— Взвод! Смирно!
Шептало вскрикивает:
— Здравствуйте, товарищи!
Взвод набирает в грудь воздуха и лает:
— Здрав тов мёр…
— Вольно! Товарищи! — начинает Шептало, — прискорбное событие, миленькие мои. Погиб наш прекрасный боевой товарищ, сержант Цветков. Погиб не в борьбе с преступниками, не в опасной операции, не при отражении нападения на объект государственной важности. Пал он нелепой смертью, во цвете лет, от руки своего же товарища, миленькие мои. Лупенко будут судить по всей строгости советских законов. Сейчас он в нашей спецбольнице, проверяют у Лупенко его психонормальность. Всем вам жестокий урок, миленькие мои…
Замполит двигает ртом, поднимает в потолок длинный, поросший черным волосом указательный палец, покачивается на каблуках, ходит перед строем туда-сюда.
— Заткнул бы ты свой рупор, — шипит сержант Булатов.
Наконец, Шептало уходит. Тищенко, вздернув очки, командует:
— Взвод! Смирно! Приказываю приступить к охране общественного порядка в городе-герое Ленинграде, строго соблюдать соцзаконность и вежливое обращение с гражданами. Направо! По постам! Шагом марш!
— На опохмелку, — добавляет в конце строя коренастый красноносый Булатов.
Тищенко грозит ему пальцем:
— Булатов, шкуру спущу!
Невский. 8.40. Быков и Чапура едут в автобусе. Надо на пост — охранять стратегический объект. А именно — мост.
Толпы в общественном транспорте валят по Невскому — служить, трудиться, работать, трубить, вкалывать, вламывать, зашибать рубль, корпеть, мозговать, крутиться шестеркой и прочее, и так далее… Город готовится к великому празднику. Высоко в небе висят большие кумачовые плакаты с ликом Вождя и лозунгами:
Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи.
Имя вождя озаряет нам путь к коммунизму.
Лозунгов над городом с каждым днем все больше и больше. Закрывают все небо, небо становится кумачовым, пламенеющим, расписанным призывами в светлое будущее. Чапура всю дорогу болтает о бабах, крутит ус-веник, масляно усмехается. Памятник царю Николаю на площади забит досками, ремонтируется, только торчит шлем с позеленелым гребнем. Ничего — скоро царь будет как новенький. На столбах трепещут флаги с полумесяцем. Город ждет в гости каких-то арапов. Бульвар профсоюзов, площадь Труда, Дворец Труда. Мост лейтенанта Шмидта. Быков и Чапура подходят к будке на середине моста, с краю у проезжей части. В будке сержант Схватик и сержант Ловейко, с красными глазами, как удавы, зевают. У Схватика на лбу заметное вздутие.
— Ну, как ночка?
— Да как. Троих виннипухов загребли, — отвечает Ловейко, — один — морда шире моста. Вызвали по рации хмелеуборочную, пихаем в фургон, а он развернулся да как звезданет Схватику промеж рог. Так Схватик чуть в Неву не улетел. — Ловейко гогочет.
Схватик хмуро трогает на лбу большую, как яблоко, шишку. Потом Ловейко и Схватик, сдав пост, уходят. А у Быкова с Чапурой начинается труд охраны важного государственного объекта.
Нева. Хлопья чаек. Мчится через мост грузовоз с ворохом железной стружки с завода. Из кузова сыпятся с лязгом и разбегаются по асфальту спиралевидные фиолетовые змейки. Чапура останавливает машину своим полосатым жезлом-зеброй. Высовывается испуганное с отвисшей челюстью лицо шофера.
— Ну, что, — говорит Чапура, — друг-стружечник, мусорим понемножку в городе-герое?
Ветер с залива обещает бурю и наводнение. Панорама реки быстро темнеет. Краны Адмиралтейского завода, слева, призрачны. Васькин остров справа, сфинксы едва различимы. Вспыхнули голубым, лиловым, сиреневым фонари-ландыши. Накаляются. Стали блестяще-белые. Нева ходит волнами, морщится. Холодно.
Быков и Чапура прячутся от ветра в будку. Чапура достает стакан, согреться ему, видите ли, надо. Быков отказывается, зарок, говорит, дал. Чапура опрокидывает стакан в горло, багровеет, наливается соком. Цокает языком:
— Сюда бы еще что-нибудь этакое, — говорит он и рисует руками в воздухе пышные женские формы. — Без баб как без фанфар. Как строем без барабана. Скука. Летом их в городе, что куропаток в поле. Иду в саду ночью, шарю фонариком. А они из кустов так и шарахаются с визгом, как фейерверк. Смотрю: на скамейке двое возятся. Я их на испуг. Он — ноги, и дунул по дорожке. Она, пьяная, пялится, точно невыдоенная корова на ферме. Ничего-ничего, говорю, не грусти. Что-нибудь придумаем, чудище ты мое подфонарное. Веду в будку. Дверь на ключ. Только я то да се — дверь дерг, лупят кулаком. Шептало, наш майор, ревет на весь сад, как сирена: Чапура, открывай! Я знаю, что ты здесь… И отобрал ведь у меня девку, чтоб его в лоб… А однажды мы с Баранашвили целый месяц сырые яйца с пустырником жрали для мужества. Сказали нам: есть две, никто их никак не ублажит. И что ты думаешь, мы с Баранашвили у них трое суток были на боевом взводе, как железные трудились, не покладая дул. На четвертые сутки все ж таки умаялись. А ну их, думаем, в титьку. Так ведь и богу душу отдашь. Чуть те вздремнули, мы с Баранашвили и давай тягу со штыками в штанах накараул. А Ванька-водолаз. Помнишь? Водку жрал бочками, как Змей Горыныч. Иду к нему на катер. Ванька в кубрике, горюет. Стол в пустых стекляшках, как стеклодувный завод. А на лежаке валяется тюленьими ляжками какой-то гуталин. Храпит, нашвабренная Ванькой и в хвост и в гриву. Ванька пальцем показывает: хочешь? Студентка из Сенегала. На водолазку у меня учится…
Два ночи. Мост разведен. Быков и Чапура в будке. Снаружи ветер, фонарь, бурная октябрьская ночь. Быть наводнению.
— Чапура, — говорит Быков, — придумай что-нибудь. Я и так и эдак, не дается, хоть застрелись.
— Мужик ты или валенок? — ему Чапура.
— Простить, понимаешь, не может. Застукала с другой, — продолжает Быков.
— Не лей слюни, — рыкает Чапура, — на каждую курочку с закоулками найдется и петушок с винтом. Дави сон, пока мост разведен.
Быков дремлет, привалясь головой в угол будки… Мрачное подземелье. Куски кирпича, зубья стекла, ломаные ящики. Чапура подмигивает выпуклым, как лампочка, глазом. Вера! Ты!.. Лежит Быков, будто мертвый, и на животе у него растекающимися розами кровь. Но никак, никак Быкову не встать к ней, к своей Вере, с этим самым букетом роз. А у Веры лицо меняется, теперь оно злое-презлое. Стоит над ним, приставила тесак к горлу: сейчас башку стругану!.. Размахивается и бьет…
Быков просыпается и ничего не понимает. Лампа со стола упала на пол. Голова болит. Чапура изрыгает матюги. Выскакивают из будки, свешиваются за ограду моста, смотрят: внизу баржа, красный фонарь, долбанулась о сваю. Чапура кричит:
— Эй, винт моржовый, греби к берегу, мы тебе сейчас сделаем рыбью морду!..
На палубе шатается капюшон, пьяная чурка, образина в брезенте, моя твоя не понимай…
На следующий день вечером Быков встретил Веру на Невском. Лебеди-ноктюрны!
— Вера! Ты!.. Я застрелюсь!
— С ума сошел! Стреляйся, топись, вешайся! Первобытный ты человек, Быков. А еще представитель власти.
Уплыла. Ветерок французских духов. «Что мне, баб мало!» — думает Быков. Толкучка. Час пик. А он тут стоит, как цепью прикован к этому месту. Фонари, фары, автобусы, колючий дождик. Толпа тычется противными зонтами, лезет в глаза. Взреветь бы быком на весь город! Пусть шарахаются! У, Минотавр!
На Дворцовой площади машина-гигант с кровавыми фарами, кипит котлами, катится в парах, льет лаву асфальта, бегут желтые бушлаты с лопатами наперевес. Визг от машины ультразвуковой, уши лопаются. «Это срочно ремонтируют город, — думает Быков, — скоро праздник. Скоро великий октябрь, — думает Быков. — Ухнуть бы кого ломом в лоб. И в люк…»
Чапура ему:
— Не грусти. Быков! Слушай: я был летом в доме отдыха на Кавказе. Горы, море, самый смачный сезон. Там все полковники да полковники. Импотенты. А ко мне женперсонал, сам знаешь, так и липнет, будто я весь из меда. Ну и чутье у них, я тебе скажу… У меня там было двенадцать жен, как у шаха. Я их принимал сразу по две в номере. Менялись по вахте через каждые четыре часа. Такой, знаешь, танец маленьких лебедей всю ночь.
Выпуклые глаза Чапуры масляно смеются, поет свой любимый припевчик: ландыши, ландыши, светлого мая привет…
— Слушай, — продолжает Чапура, — вчера я звонил твоей птахе — я, значит, не могу терпеть такую аморальность в советском государстве. У Митьки-то твоего глаз на сторону. Она: что такое? Негодяй! Пошли вы оба туда-то… И бросила трубку. А? Как под копчик? Ценишь? То ли еще будет!.. Я, знаешь, сам решил твоей недотрогой заняться. Для ровного счета. Как раз третью сотню закрою. Да и зачем она тебе, Быков. Ты уж с ней надурил. Я тебе другую добуду.
Быков смотрит на Чапуру и не понимает: шутит он или всерьез.
— У-у-бью! — наконец выдавливает он, заикаясь.
Чапура усмехается, стоит и демонстративно почесывает свой громадный кулачище.
Утром в 8:00 за трибуной командир взвода лейтенант Тищенко опять читает взводу из черной библии новые чрезвычайные происшествия:
Патрульный газик упал ночью с Кутузовской набережной. Весь экипаж погиб.
Убийство ножом в спину милиционера в Приморском парке.
Ночью в Летнем саду неизвестная банда разбила на куски античные статуи. Постовой из будки исчез.
Побег из спецбольницы психов и сифилитиков.
В своей квартире задушены электрошнуром супруги Сидоровы.
Разыскивается за развратные действия с несовершеннолетними: шрам на левой щеке…
— В общем, как всегда, все одно и то же: убивают и насилуют, насилуют и убивают, — заключает лейтенант Тищенко.
Затем взвод опять строится в коридоре. Пуговицы, значки, кокарды. Перед строем лейтенант Тищенко. Он полон служебной энергии. Вздергивает очки-окуляры. Лягушачий рот широко округляется и издает звонкую команду:
— Смир-р-рно! — Лейтенант качнулся на каблуках. — Сегодня у нас тяжелая служба. Так сказать, день чекиста. Будете получать денежное вознаграждение за свой доблестный труд. Эх, орлы! Чувствую, что опять без сюрпризов не обойдется. Снова завтра кое-кого в строю не досчитаемся. — Лейтенант дергает на носу свои окуляры.
— Главное, получше храните удостоверения своей драгоценной личности, не засовывайте его в сапоги, не дарите любимым женщинам в знак верности мужского сердца, не теряйте в транспорте, не роняйте в унитазы. Не повторяйте ошибки сержант Цыпочки.
С краю шеренги задавленно смотрит недавно потерявший удостоверение маленький щуплый Цыпочка.
— Берите пример с вашего командира, — продолжает Тищенко, расстегивает карман голубой рубашки, двумя пальцами извлекает корочки. А корочки-то, оказывается, прикованы к железной цепке, а цепка повешена на тонкогорлой, но крепкой, как бутылка, лейтенантской шее. Тищенко обводит шеренгу победными, поблескивающими сквозь очки глазами.
Шеренга шумит:
— Ну, командир! Навек пришпандорил! — прячут усмешки.
— Взвод! По постам! Разойдись! — командует Тищенко.
Чапура в курилке опять травит истории.
— А помнишь, Черепов из четвертого взвода на Дворцовом мосту показывал своей девахе, какая у него есть игрушка. Ну, и прострелил ей носопырку. Увезли на «Скорой» без носа. А Медведев из первого взвода. Охотник. Да ты его знаешь. В мехах ходит. Приезжает к нему ночью на Волково кладбище наш майор, Шептало Петр Петрович. Заходит в будку: Ты опять пьян, — говорит, — сдай оружие.
А тот:
— Сам ты пьян. А я трезвей стеклышка.
— Едем на экспертизу, — говорит Шептало.
— А вот тебе экспертиза, — отвечает Медведев, достает дуло и ковыряет пулями кирпич над макушкой майора. Тот деру в дверь, ни жив ни мертв.
А Белогорячиков, командир второго батальона, долбанул себя в висок в кабинете. Весь череп разнесло. Дело темное…
Большое, мрачное, как замок, здание универмага на Обводном канале. Этажи, этажи. Гудит улей торговли. Колышутся толпы. Пикет милиции: конурка с окном во двор, облезлый кожаный диван, куб-сейф, стол, телефон.
Мишка Мушкетов привел парня с грязными соломенными волосами, бьет его кулаком по шее. Тот мотается как чучело на огороде, вопит:
— Сержант, не бей, больно!..
— Да я тебя сейчас на электростул посажу и провод с током в задницу воткну, ворюга! В отделе обуви скинул с лап свои вонючие бахилы, надел новенькие английские колеса и катится к выходу, как король…
Через полчаса Мушкетов приводит в пикет целый табор. В руках у Мушкетова ворох отобранных предметов спекуляции: чулки, колготки, шапочки, кофточки, импортная парфюмерия. Все швыряет на стол. В комнате несмолкаемый визг цыганского хора. Толстая Кармен кричит:
— Э, бесстыжая твоя рожа! На, грабь! Ничего больше нет. — И трясет перед сержантом чумазыми пальцами в золотых кольцах. Усатый сержант морщится и хладнокровно отстраняет от себя цыганку.
Администратор Лазарь Степанович с седым пушком на голове просит:
— Мишенька, приготовься, сейчас выкинем дефицит, дубленки из Польши.
В зале гул, дерутся локтями. Толпа колышется, изгибается, по лестницам, с этажа на этаж, как гигантский змей. К прилавку пробивается, орудуя костылем, высокий старикан в морщинистом грязном плаще, горит во всю щеку яркий румянец алкоголя. Старикан кричит медной глоткой, как армейская труба, требует: за раны ветерана импортная дубленка ему полагается без очереди… Старика сжала толпа женщин, шумят, галдят, сейчас разорвут на кусочки. К месту беспорядков приближается, раздвигая возмущенную массу, сержант, его рыжие усы дергаются. Мушкетов сегодня дежурный по универмагу. Значит, порядок будет железный.
Вечером у метро Быкова остановил старик в зипуне, с мешком за спиной, с обаятельной лайкой на поводке:
— Сынок, я приезжий, порядков не знаю. Можно в метро с собачкой аль нет? Она у меня смирная.
Лайка смотрит дивными кроткими лучисто-карими глазами. Быков вздрогнул. Вздыхает:
— Нет, нельзя, папаша. Не положено.
Были политические занятия. В классе гвалт, на стене плакат, красными буквами тема:
Духовный прогресс личности
советского милиционера
Замполит Шептало с указкой за трибуной. Встает Мишка Мушкетов, тощий, дергаются злые рыжие усы:
— Я скажу! Что трудящемуся милиционеру духовный прогресс и перестройка личности!.. Вы, товарищ замполит, живете себе в своем трехкомнатном микрокоммунизме с ванной и телевизором, а я, как таракан, прогрессируй в своей казарме с женой и детенышем пятый год!.. А дежурил я на секретном складе, без окон, без вентиляции, за железными замками, как очумелая крыса. Падал в обморок через каждый час от нехватки воздуха и антисанитарной вони. Отнюхивался нашатырным спиртом. А потом говорят: Мушкетов опять на посту пьян. Где же справедливость, товарищ замполит? Вон и железный Феникс, — Мушкетов показывает на портрет Дзержинского на стене, — как осуждающе на нас смотрит!
— Да не Феникс, а Феликс. Сколько раз, Мушкетов, тебе повторять, — морщится за трибуной замполит Шептало.
Мушкетов продолжает:
— А в отпуск на родину слетал. Ползал с батькой в шахте на четвереньках, киркой шарахал, как при царе Горохе. Чуть не завалило. Подпоры — труха. И жрать нечего. Пер отсюда чемодан колбасы.
— Мушкетов, что ты мелешь не по теме, хватит дебатов, садись! — машет обеими руками замполит Шептало. — Кто следующие? Булатов! Только по существу вопроса. Что такое духовный прогресс твоей личности?
Булатов молчит. Потом шепчет:
— Иди ты к Эдите Пьехе…
Взвод шумит. Ловейко сзади набрасывает на шею Булатову аркан (веревку для связывания преступников). Булатов, черкес, багровый, свирепеет:
Убью!
Шептало обоих выгоняет из класса указкой, как мальчишек. Начинает за трибуной речь:
— Миленькие мои, теперь, когда весь народ вступил в новую фазу духовной жизни…
После политзанятий Чапура, подмигивая:
— Еще раз звонил твоей птичке. Дал адресок, где тебя с поличным застукать можно. У нее голосок дрожит: «Мне-то какое дело. Знать его не желаю!..»
Чапура гогочет. Напевает: ландыши, ландыши, светлого мая привет…
У Быкова дергаются губы, сжимает кулаки, говорит:
— Тронешь Веру — тебе не жить. Я не шучу.
— Я тоже, — сразу мрачнеет Чапура, и, тряхнув головой, сдвигает козырь на брови. — Поразговаривай, — заключает он, — враз кончу. Пикнуть не успеешь.
Быков и Чапура выходят на улицу. Идут. У пивного ларька драка, дубасят друг друга кружками по зубам. Чапура подходит, орет:
— А ну, рассыпься! Бомжи, тунеядцы, пьяницы, ухогорлоносы!
Драка поворачивается к нему и застывает с поднятыми кружками в руках. Подъезжает фургон медвытрезвителя, и двое дюжих сержантов с помощью Чапуры и Быкова швыряют грязных уродин в фургон, как собак.
— На мыло их! — говорит Чапура.
— Орлы! — взывает Тищенко. — Все на собрание!
Усаживаются в зале в ряды малиновых кресел. Там уже весь батальон. На возвышающейся сцене широкий стол, покрытый кумачом. Слева, у стены, большой белый Ленин из гипса. На противоположной стене метровый портрет Дзержинского в золотой рамке. За столом на стульях сидит президиум. В центре стола, под яркой люстрой, полковник Кучумов, постукивает карандашиком по графину с водой. К полковнику склонился майор Курков, говорит, морща лоб. Слева замполит Шептало с большим морковным карандашом. Справа шушукаются партсекретарь Севрюгин и комсомольский вожак сержант Шибанов. За трибуну встает сам полковник Кучумов с бумажной кипой, кладет листы перед собой. Поднимает руку, кричит в зал:
— Тихо!
Надевает очки, начинает говорить громким командным голосом, взглядывая через очки на бумагу перед ним:
— Товарищи! Исторический Октябрь, говоря глобально, потряс судьбы мировых народов. С какими же итогами труда, товарищи, мы грядем к большому революционному юбилею?..
Лиц в стадии алкогольного опьянения, оскорбляющего общественную нравственность, честь и достоинство советских граждан, нами в этом году сдано в медвытрезвители города в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Лиц, совершивших спекуляции и другие мелкие нарушения и преступления закона, нами сдано, товарищи, только в два раза больше по сравнению с прежним годом.
А вот лиц, совершивших хищения, хулиганство, грабеж, разбой, убийства и другие тяжкие уголовные преступления закона, этих лиц, товарищи, — и полковник Кучумов вдохновенно повышает голос, — нами в этом году сдано соответствующим службам в целых три раза больше, чем в прошлом году! Явный рост производительности труда, товарищи! Сами видите, какие у нас замечательные показатели. Но в то время, когда указы партии и правительства настраивают советских людей, говоря глобально, на повышенный режим трудовой жизни… — полковник Кучумов снял очки, строго посмотрел в зал. Зал тих. В задних рядах просыпается сержант Цыпочка. Кучумов, выдержав многозначительную паузу, продолжает:
— …некоторые наши бойцы позволяют себе злостные нарушения дисциплины и вообще, вытворяют черт-те что. Таких артистов еще поискать! Таланты! Самородки! Не батальон, а балаган. А ведь мы с вами, товарищи, должны день и ночь думать о поголовной дисциплине в наших рядах. Железный Феликс нас бы сегодня по головке не погладил. — Кучумов пугливо взглядывает на суровый профиль Дзержинского на стене. — В этом году девять милиционеров батальона утратили удостоверения своей личности. Это Железкин, Чубарь, Цыпочка… Сержант Цыпочка, встать! Объясните нам, уважаемый сержант Цыпочка, при каких чрезвычайных обстоятельствах вы лишились удостоверения вашей драгоценной личности? Пожалуйста, сержант Цыпочка, мы все вас убедительно просим. Может быть, у вас произошла схватка с лютым рецидивистом, он-то и порвал в борьбе с вами ваше несчастное удостоверение? А?
Цыпочка переминается, хмуро смотрит в окно.
— Так что же вы, товарищ Цыпочка, молчите? А?
Цыпочка мямлит:
— Я же говорил…
— Ну, ну, дальше, Цыпочка, вылупляйтесь поскорей!..
— Ну, я же вам уже говорил, — бормочет Цыпочка.
— Да вы не мне, вы к товарищам-то повернитесь, им поведайте!
— Ну, в отпуске был, у матки с батькой, — неохотно объясняет Цыпочка, — показать попросили, никогда не видали еще, говорят, что за штука. А тут ихняя корова, думала — конфета, ну и слямзила из рук, жует, тварь такая, челюстями ворочает, как комбайн. Ну, что сделаешь с ней, с животным! Приучил братан конфеты жрать.
В зале смех, гримасы, ехидно зовут: цып, цып, цып, на конфетку!
— Тихо! — поднимает руку Кучумов. — Таким не место в органах милиции. Наши ряды, говоря глобально, должны быть безукоризненны. Таких из наших рядов надо вышибать железной метлой! На первый раз, Цыпочка, объявляю вам трое суток гауптвахты, — обратился полковник к поникшему сержанту. — А вообще, выбить бы вам удостоверение на вашем лбу вместо клейма, чтобы до гроба не потеряли!
Пролетело еще восемь дней, точно пистолет разрядил обойму, выпалил все свои восемь пуль. Каждый день — дежурство.
Ночью вчетвером — Быков, Ловейко, Схватик и Булатов — на Витебском вокзале. Особое задание, рейд. Ловили беглецов-психов из спецбольницы. Шарили фонариками в темноте по шпалам, осматривали товарники, запасные пути, разбитые вагоны. Утром нашли в заброшенном вагоне Лупенко. Оброс щетиной, как железом, загнанная крыса с красными злыми глазками. Связали. Пинали сапогами за Витю Цветкова. Чуть не забили до смерти.
Теперь история с убийством Цветкова известна полностью. Дело было так. Лупенко под проливным дождем на безлюдной улице с невзрачными домами еще времен Достоевского свернул в подворотню с тусклой лампой и во дворе толкнул дверь парадной, справа. Спустился по ступеням в подвал, остановился перед мрачной железной дверью с глазком и несколько раз подряд, с ожесточением нажал кнопку звонка. Плащ Лупенко от влаги дождя потемнел и набух, с козырька скатывались капли, усы были унизаны брызгами.
Лупенко услышал, как за дверью гремел ключом постовой милиционер, дожидавшийся смены. Мощная дверь со скрежетом отворилась, за ней, через шаг, была распахнута вторая железная дверь, а за той дверью была еще и стальная решетка, которая закрывалась на засов. Дальше виднелся длинный узкий коридор с осыпающейся известкой стен и темными потеками на них. От коридора в обе стороны шли лабиринтом разветвления. Электрический свет пыльных плафонов был желто-тускл, пахло подвальной затхлостью, несло хлоркой из туалета. Тщательно осмотрев двери помещений, проверив замки и пломбы, Лупенко принял смену, позвонил дежурному по батальону, проводил предшественника наружу и закрыл, лязгая ключом, одну дверь за другой. Затем Лупенко вернулся к своему столу с телефоном и лампой. Шумела, переливаясь с журчащими звуками из неисправного бачка в унитаз, вода. Больше ничего не могло услышать даже самое чуткое ухо.
Но Лупенко вздрогнул, вытянутое лицо, настороженный взгляд. Оглянулся в коридор. Затем лихорадочно расстегнул кобуру, достал пистолет, передернул затвор и с пистолетом в руке, крадучись, бесшумными шагами двинулся еще раз осматривать все бесконечные закоулки этого помещения, запутанного, как лабиринт, со стальными дверями в замках и пломбах.