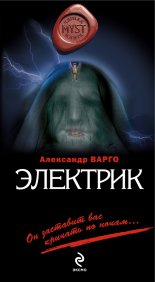Одна ночь (сборник) Овсянников Вячеслав

— Мы его враз службе обучим. Мент будет — первый сорт. Верно говорю?
Я издаю стонущее мычание:
— Да не получится из меня… — Делаю движение, пытаясь, как паутину, совлечь этот нелепый затянувшийся маскарад.
— Ты чего? — Лапа Жудяка у меня на плече. — Раздеваться решил, что ли? Тут тебе не пляж. А ну сядь.
Дверь с улицы опять распахивается. Входит красавец-майор, рост, плечи, распахнутая во все лицо улыбка. С ним маленький лейтенант в очках-колесах. У лейтенанта под мышкой папка, он важно держит голову и при каждом шаге подрыгивает коленкой.
— Вот и наша лягуха скачет, — объявляет Жудяк.
Капитан Суконцев открывает усталые глаза.
Майор что-то говорит лейтенанту, светясь золотозубой улыбкой с высоты своего роста. У лейтенанта тонкогубый рот растягивается, как резиновый, в ответной косой ухмылочке. Проходя мимо Суконцева, лейтенант взглядывает и отворачивается.
Скрываясь за майором в кабинете с табличкой «командир батальона», лейтенант, булавочно стрельнув сквозь очки, визгливо кидает Бойцову с Жудяком:
— Ждать здесь!
Суконцев тем временем встает, потягивается:
— Высшее начальство на месте. Теперь имею полное право всхрапнуть, э-э-э, в домашней обстановке. — Исчезает в дверях на улицу.
Жудяк пихает:
— Начальство ты должен знать назубок. Майор Румянцев, Сан Саныч. Наш царь и бог. А тот, с ним, твой взводный Тищенко.
И Бойцову:
— Ох, подроет он Суконцева. Вот увидишь.
— Не-е! — возражает Бойцов, — не подроет.
— Румянцева от нас усылают, — назидательно информирует Жудяк. — На его место парторг Жлоба. А Тищенко его давний дружок. Да что ты, Тищенко не знаешь. Он в любую ж… без мыла влезет.
Лейтенант Тищенко, взводный, выходит своей дрыгающей походкой из кабинета. Теперь он без фуражки, на темени блестит, как рубль, небольшая проплешина. Тищенко приглашает дежурных, производящих смену, зайти для доклада к командиру батальона. Лучеглазый Фролов и тот, сейф, отправляются на ковер к Румянцеву.
Тищенко подходит к нам. Двумя пальцами, снизу вверх, как вилкой, вздергивает очки.
— Бойцов, где прошлое дежурство был? За весь день — четыре проверки.
Бойцов взрывается:
— Шура! Соси ты хер! Понял? Бегаю, как пес, по постам. Ноги по коленки стер. Пожрать некогда. Жена неделями не обласканная. Дети уже не признают. А ты еще — соль на раны.
— Фу! — морщится, отворачиваясь, Тищенко. — Несет, как от винного завода. — Озирая сквозь очки обоих своих командиров отделений, заключает: — Слушайте, братцы-кролики, больше я вас выгораживать не собираюсь. И парня вы мне испортите. Это уж к бабушке не ходи. Короче. Выметайтесь посты проверять. Чтобы минимум восемь проверок на пост. Охромеев, с ними будешь. Изучай, золотце, службу. Потом на хороший объект поставлю. Жудяк! Ты у меня за него в ответе.
Жудяк зевает:
— Чего там. Что с ним сделается…
Бойцов достает из коробки две спички, одну обламывает, короткую и длинную зажимает в кулак, торчат одинаковые концы:
— Короткая — север. Длинная — юг.
Жудяк тащит. Длинная! Бойцов скалит зубы:
— Ничего. Тебе молодой поможет.
— Нам юг, — говорит Жудяк. — Там постов больше.
Что ж. Влекусь в сапогах вслед за бодро шагающим Жудяком по внутреннему двору Гостиного. Дождь долбит. Тоска асфальтовая в этом тылу торговли. И Жудяк в той же асфальтовой форме — избранный цвет представителей власти. Сам я, как это делается в фильмах ужасов, с головы до ног залит асфальтом. Спина Жудяка — глухая плоскость стены, шея кирпичной кладки, затылок булыжный. Жудяк двигается враскачку, грузно ставит скошенные каблуки, цокает подковками, поигрывает пузатым медным свистком на цепочке. То накрутит на палец, то опять раскрутит.
Двор пересекает толстый страж, ведет на ремешке овчарку. Милицейский бушлат треснул по шву у подмышки. На голове величиной с тыкву едва держится крошечная фуражонка, повернутая козырьком вбок. Овчарка раскормленная, глаза в мрачных кругах, по кличке Фемида.
Жудяк орет:
— Эй, Петренко! Пузо вперед! Ать-два! Дрых всю ночь в залах вместе с Фемидой, а теперь идешь дожимать в собачник? Шикарная у тебя служба. Так и гуляете вдвоем: от лежака до кормушки и обратно…
Кличку «Фемида» присвоил овчарке замполит Кузмичев. — Культурный он у нас, академии кончал, — объясняет на ходу Жудяк.
Добродушное лицо Петренко, заросшее ночной щетиной, ухмыляется.
Жудяк продолжает:
— У вас половину Гостиного из-под носа утащат, вы и не почуете. Что ты, что Фемида.
Петренко, добродушно улыбаясь, замечает:
— Смотри, Жудяк, она шуток не понимает, — он показывает глазами на овчарку. — Перехватит разок — мало не покажется.
— Где вам! — пренебрежительно машет рукой Жудяк, — обожрались оба на казенных харчах. Только вот я не понимаю: как Фемида терпит, что ты у нее половину мяса хряпаешь? Будь я на ее месте, я бы тебе давно тыкву откусил.
Петренко не обижается, треплет овчарку по загривку:
— Мы с ней друзья. Она за меня любому глотку перервет. Ты, Жудяк, лучше ее не дразни, — и шествует дальше в свой собачник.
В залах Гостиного двора гудит торговля. Жудяк водит меня за собой, из отдела в отдел, с этажа на этаж, ищет постовых милиционеров, охраняющих социмущество и общественный порядок в торговой фирме. Пятерых он в конце концов обнаружил, кого где: один смотрел утреннюю передачу в отделе телевизоров, другой завтракал в буфете, третий добирал пару часов сна в подсобном помещении, четвертый и пятый добросовестно исполняли свой долг, следя за колыханием жужжащей толпы в залах. Но вот на след шестого, некоего Молочкова, никак не удается напасть.
— Где этот мерзавец прячется! — кипятится Жудяк. — Я из него кефир сделаю!
Наконец находим этого самого Молочкова в отделе нижнего белья и сорочек. Он сидит на низенькой скамейке рядом с продавщицей цветущего возраста, одетой в розовый рабочий халатик, и в чем-то ее горячо убеждает. Девица криво усмехается, клонит густо нагуталиненные ресницы.
Жудяк кричит:
— Ай да Мол очков! Ты, я вижу, вплотную решил приступить к работе в органе внутренних дел. Так ты скоро у нас и отличником станешь.
По радиотрансляции просят сотрудников милиции срочно прибыть в зал верхней женской одежды.
— Что там еще стряслось? — Жудяк спешит в зал. Я и Молочков за ним.
В зале картина: две продавщицы пытаются удержать на месте толстую тетку с одутловатым лицом, вцепясь с двух сторон в полы роскошной норковой шубы. Тетка хрипло вскрикивает, машет руками, старается вырваться. Будто две птички отчаянно атакуют разбойницу-ворону. Еще одна продавщица брезгливо держит пальчиками какую-то чумазую хламиду.
Жудяк спокойно, с суровой важностью представителя власти, приближается к участникам происшествия. Он говорит:
— А! Старые знакомые! Ты что, мать, к зиме готовишься? Шкурку решила поменять?
Та видит Жудяка, делает торжественное лицо, поднимает руку с грязными растопыренными пальцами и патетически восклицает хриплым, пропитым голосом:
— Сынки! Защитники наши! Родина-мать вас не забудет!.. — Ее поза, действительно, довольно верно изображает известную символическую скульптуру Родины-матери.
Жудяк без церемоний берет «родину-мать» за шиворот новенькой незаконно присвоенной шубы и выводит из зала. Молочков следует за ним, держа в руке ее природную одежду, какое-то рванье, вонючее, как из сортирной ямы. Я иду за Молочковым.
Опять мы оказываемся в комнате милиции. Там с повязкой дежурного уже не Фролов, а тот, сейф.
Жудяк ему:
— Охранкин, держи щуку! Это тебе в твой аквариум, как говорится, на разживу. Только смотри, чтобы она не разнесла его вдребезги!
Жудяк присаживается, достает из служебной сумки бланк протокола:
— Оформим-ка эту хищницу государственного имущества!
Охранкин, тем временем, скрежещет замком «аквариума», распахивает железную дверцу, и пинком в спину толкает внутрь освобожденную от шубы воровку. Опять закрывает дверь, лязгая ключом.
Железная клетка, которая до сих пор пустовала и казалась каким-то ирреальным сооружением из-за отсутствия в ней чего-либо живого, теперь имеет вполне нормальный рабочий вид и оглашается хриплыми воплями. Вплюснув в решетку свою фиолетовую физиономию, «родина-мать» кричит:
— Сынки! Сволочи! X… мороженые! Посс… пустите! Имею полное законное право посс…ть!
Жудяк, не обращая на ее вопли внимания, продолжает деловито составлять протокол.
ЕВА
Мрачный денек. Дождь поливает, как из шланга. Топай тут в сапогах. Мучается старшина Матусевич. Со мной неприветлив. Разговаривает резкими фразами:
— Мудак Тищенко — зачем тебя прислал? Некуда ему людей девать… Со-о-бор! Чего в нем? Целый день экскурсии. Налетают, как вороны. Ах, красота! Ах, архитектура! — Матусевич в ожесточении плюет на паперть. — Со-о-бор! Религия была. Теперь тут сплошной атеизм. Музей сделали. Понимать надо — памятник, народное достояние. Экспонаты не лапать. — Матусевич морщится, отворачивается от дождя и ветра. — Не Ташкент. А еще ремонт внутри затеяли. Зарылся бы там где-нибудь. А то — тарарахают с утра дверями на весь собор. Доски таскают, бочки катают. Пойдет гулять сквознячок, засифонит в куполе. Куда денешься?
Пройдя со мной великанскую рощу колонн, Матусевич не без труда открывает массивную, визжащую дверь с бронзовой ручкой. В коридоре тьма, хоть в глаза выстрели. Наконец он нащупывает вторую дверь, и мы попадаем в замкнутый сумрак собора, под его неприветливые пещерные своды. У Матусевича физиономия принимает уныло-свинцовое выражение. Что ж, мне тоже радоваться нечему. Нам предстоит суточное заключение в этом каменном мешке.
На возвышении, к которому ведут ступени, стоит стол, излучает бодрое сияние лампа под жестяной шляпой наподобие гриба. За столом угнездилась вахтенная старушка Софья Семеновна в пуховом платке и ватнике. Она выдает гигантские железные ключи взбирающимся к ней по ступеням работникам музея. Софья Семеновна жалостливо спрашивает меня:
— За что же тебя сюда, сынок?
С простыми работниками музея и со случайными захожими людьми, не знающими, что — ремонт, а потому экскурсии отменены, Софья Семеновна сурова, требует пропуск и звонко вразумляет упрямцев под акустическими сводами.
Чтобы не мерзнуть, я странствую по собору, стукаю сапогами, созерцаю иконы и фрески. Иисус Христос смотрит со стены страшными всевидящими глазами. Я отворачиваюсь. Подхожу к реставраторам. Они возятся на полу с каменными плитами, звякают зубильцами.
Матусевич зовет, машет рукой. Иду. Помогаю открывать створы дверей наружу. Сиплые ватники таскают доски. А бандитский ветер, ворвавшись в собор, сырыми холодными пальцами хватает меня за горло. Я кашляю и проклинаю все соборы в мире. Стукаю сапогом о сапог. Кружу по собору, заглядывая во все закоулки.
Смотрю: фанерой отгорожено пространство. Там темно. Валяются обломки скульптур, руки, ноги, мраморы без голов, в пыли, в хламе. В нише странная кровать на львиных лапах. Мрачно блестит позолота. На кровати, как будто спит, целехонькая мраморная красотка. Вот ведь. И не холодно-то ей ничуть.
Матусевич подходит:
— Что? На голых баб заглядываешься? Вишь: Ева!
В течение дня два раза приходил командир отделения Бойцов в своей фуражке с высоким околышем, наподобие стакана, козырек расколот. Громыхал под сводами:
— Ну что, живы еще? Ну и рожи! Как у вяленой воблы. И глаза какие-то бессмысленные. Ничего, в другой обход буду — вы у меня совсем задубеете. Можно будет с пивом закусывать.
Но, видя угрюмую реакцию Матусевича на его скользкие шуточки, Бойцов яростно трясет шариковую ручку, бормочет фигурные выражения, и, торопясь, словно конькобежец на льду, вывести в служебной книжке фразу о благополучии на посту, безжалостно терзает бумагу.
Наконец вечность рабочего дня начинает иссякать. Музейщики и ремонтники потянулись к выходу. Что они, как мумии! Гнать бы их рукояткой пистолета по башке… Они поднимаются по ступеням к тронному возвышению, где восседает Софья Семеновна, и преподносят ей звякающие связки ключей. Софья Семеновна строго принимает подношения, упрятывает их в ящик стола и дарует подносящим жизнь и волю. И те, наконец, воскресают для иной формы существования. Лица расцветают, голоса звенят, жесты становятся грациозны. Это их звездный миг, праздничная вспышка всех чувств в предвкушении свободного вечера. И окрыленные счастливцы исчезают до утра.
Мы с Матусевичем выходим из собора наружу, на широкую паперть, под колонны. Колючий ледяной дождик сечет лицо. Мутно освещают тьму шары фонарей. Невский шумит, вспыхивают фары, ненастье гонит косые фигурки пешеходов.
Спускаемся к каналу. Гранит мокрый, скользкий. Шагаем вокруг здания, смотрим на окна с тусклыми бликами — все ли в сохранности. Обойдя собор, мы опять видим ночной Невский и уже собираемся укрыться внутри вверенного под нашу охрану объекта. Тут Матусевич заметил сидящую на ступенях девицу с лохматой опущенной головой. Девица что-то бормочет. Рядом, на ступени, смутно малиновеет упавший с головы берет.
— Эй, пьянь! — злобно толкает ее Матусевич, — нашла, где устроиться.
Та с трудом поднимает голову, смотрит на Матусевича мутными, ничего не выражающими глазами и икает.
— Только из пеленок, а уж, видно, потаскалась по кобелям, — говорит Матусевич. Сапогом поддает ее малиновый берет и приказывает:
— А ну, бери покрышку и айда со мной. Слышишь, ты, трехрублевая!
Та смотрит на Матусевича, лепечет с наивной расплывающейся улыбкой:
— Мне домой надо. Меня мама ждет, — и снова роняет голову.
Матусевич берет ее за воротник своей ручищей и тащит по ступеням. Она икает и клянется, что ничего у нее нет. Матусевич вскрикивает:
— Молчи, шмара!
Затащив ее внутрь собора, Матусевич начинает допрос:
— Отвечай, где назюзюкалась, при какой гостинице работаешь, сколько берешь с рыла?
Девица начинает трезветь, она испуганно смотрит на Матусевича широкими зрачками и дрожит.
— Я не понимаю… Мы у подруги… Мне домой надо, на 9-ю линию.
— Что ты мне мозги пачкаешь! — стервенеет Матусевич. — Лучше скажи, чистая или, может, с сюрпризом? Лечись потом после тебя.
Девица смотрит на Матусевича, как в гипнозе, глаза расширены до невозможности, в них ужас.
— Может, договоримся, — продолжает Матусевич, — а то — сейчас в отделение. А там ребята не то что я. Ласковые ребята. Они тебя враз обработают.
Тут подходит старушка Софья Семеновна:
— Да отпусти ты ее, Вань. Греха потом не оберешься.
Матусевич фыркает в усы, мясистыми багровыми пальцами вращает кружок телефона, вызывает машину из отделения.
Через пять минут появляются, как из-под земли, два сержанта в изжеванных шинелях, с шапками на затылке. Они тащат девицу, как парализованную, ноги ее в розовых сапожках волокутся, царапая носками каменный пол. Лицо девицы в гримасе ужаса повернуто назад.
Софья Семеновна тем временем разложила на столе под световым кругом лампы газету и на ней всякую снедь.
— Сынки, — говорит Софья Семеновна, — первое средство от холода — покушать. Ну-ка: яички, хлебушко, маслице… Чаек на мяте заварен.
Поужинали.
— Теперь и почивать, — говорит Софья Семеновна, — ты, сынок, поди туда, за фанеру, — говорит она мне, — кроватища-то там, дуру-то мраморную спихни, я тебе ватников дам. Ничего, тепло будет.
В это время раскатились эхом по собору глухие торопливые шаги… Я вздрагиваю и впиваюсь глазами в темноту. Ничего там не видно. Стоит сплошной мрак.
Матусевич хмыкает:
— Что? Струхнул?
А Софья Семеновна объясняет:
— Крыска это. На прогул вышла. А будто здоровенный мужик башмачищами тукает. А-а-кус-тика! Я тут, сынок, первые года до смерти дрожала. Одна-одинешенька. Теперь уж пятнадцать лет вахтую. Жизнь тут, можно сказать, прожила. А с вами-то, сынки, милое дело. Вон у вас — пистолетины! Да и кто сюда сунется. Разве что окно шуганут камнем…
Тут тарарахнуло над нами вверху, где-то в куполе. Я опять вздрагиваю и задираю голову в мрачную, как сапог, темноту.
— Это ничего, — успокаивает Софья Семеновна, — это оконце в куполе на ветру постукивает.
Гулы умолкли. Тишина. Я иду за фанерную перегородку — малость поспать. Хоть инструкция запрещает, а веки-то свинцовые.
Там темнота. Только от окна падает слабый свет. Кровать кажется огромной, как для великана. Устраиваюсь на ложе и вытягиваю усталые ноги, брякнув каблуками. Мраморная женщина, отодвинутая мной, лежит рядом бесчувственным неподвижным телом. Ее соседство меня ничуть не беспокоит. Мрачная музейная пещера погребла меня в глубине первобытных времен.
Опять раздаются по камню громоподобные шаги. Крыса! А как будто по меньшей мере мамонт ходит. До меня теперь не докопаешься, думаю, я тут как в кургане. И начинаю проваливаться в сон.
Кто-то толкнул в бок… Открываю глаза, смотрю — та, мраморная. Сидит, обхватив колени, зрачки сумрачно поблескивают.
— Эй, лягаш! Или дело делай, или убирайся! — говорит она. Я холодею. Все мои члены парализованы. Только сердце колотится с таким грохотом, словно утрамбовочная «баба» забивает мне в грудь бетонную сваю.
— Ну! — говорит мраморная. — Долго я буду ждать?
Мне становится жарко. Как в тропиках. Надо мной стоит Ева с бледным непроницаемым лицом, глаза, как бездонные колодцы…
— Да проснись ты, сынок! Не дотолкаешься тебя. Иди скорей, там к тебе начальник пришел, ждет. Утро уже. Да ты что? Никак с этой каменной дурой спал? А вцепился-то, люди добрые! Посмотрел бы кто, хороша парочка… Шапку-то поправь, кокарда на затылке.
Меня ждет взводный Тищенко, гордо держа голову, постукивая каблуком и нервно вздергивая двумя пальцами очки.
— Ну, как ты тут, жив еще? — спрашивает он, пристально глядя на меня сквозь очки, и отворачивается.
— Кажись, жив, — хрипло бурчу в ответ, еще не придя в себя от ночного кошмара.
— Охромеев, золотце, слушай, такой парадокс, — бодрым звонким голосом заговаривает лейтенант, придвинувшись ко мне и крутя пуговицу у меня на шинели, — Матусевича я на другой пост отправил. А на замену тебе прислать некого. Все болеют. Понимаешь, такой парадокс. Так что, Охромеев, продержись еще суточки, а? Я тебе, золотце, потом неделю отгула дам.
— Да, но, э…
Тищенко не находит нужным дожидаться большей членораздельности моей речи и быстрой дрыгающей походкой исчезает в дверях.
Ничего! Матусевич дал мне хороший урок! Я обхватываю мраморную Еву за туловище и волоку из собора. Гулко бороздят пол ноги Евы. Чего уж. Свалю в канал — и амба.
ИСПОЛНЕНИЕ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
Комбат Жлоба говорит:
— Бойцы, есть возможность отличиться. Поступил сигнал: этой ночью готовится широкомасштабное преступление на охраняемый нашим батальоном объект государственного значения. Неизвестные лица собираются похитить изделия секретного производства. Тищенко! — обращается комбат к взводному. — Расставь людей. В проходных, по цехам, снаружи, под стенами. Бойцова, Жудяка — в засаду. Вот и Охромееву дай ответственное задание. Пусть себя покажет в настоящем деле. Проведете удачно операцию — каждому премию по окладу. Да, не бойтесь оружие применять в соответствии с уставом… Ну, шагом марш!
Что ж, расскажу и об этом сверхзасекреченном объекте. Каждое утро запыленные автобусы привозят сюда дремотную рабочую массу. Впрочем, ее доставляют сюда четыре раза в сутки, обеспечивая четыре смены беспрерывного производства. Люди выгружаются, и тут кончается город и простирается пустыня бурой бесплодной почвы. Железные башни тянут через поле гигантскую высоковольтную сеть. Ржавый трубопровод, коленчато изгибаясь, ползет за горизонт. Шум ветра тут постоянен. Покачиваются чахлые колючие репейники. И в этих беспросветных октябрьских сумерках шум ветра может смениться только шумом дождя. Люди шелестят плащами. Дорога, выложенная бетонными плитами, упирается в колоссальную стену. Внизу — ворота и проходная с вертушкой. Два усатых сержанта в милицейской форме, с автоматами за плечами, мрачно проверяют пропуска, которые должны, помимо всего, иметь особые знаки.
Секретное предприятие занимает своими многоэтажными цехами и сооружениями не меньше квадратного километра площади, ограждено мощной стеной и тщательно охраняется спецстражей.
Электрик Тихомиров машинально двигается в цепочке рабочих людей с поднятыми в руках пропусками. Его трогает за плечо Бойцов:
— Эй, электрическая сила, просыпайся! — говорит он. — Зайдешь ко мне после обеда в караулку. Дело есть.
— Ладно, зайду, — равнодушным машинальным голосом отвечает Тихомиров. Это и есть тот самый осведомитель, который дал знать нам в охрану, что намечается преступление.
В обширном помещении раздевалки ряды пронумерованных железных шкафчиков, тут Тихомиров переоблачается. Теперь на нем безукоризненно белый халат, выстиранный к понедельнику, и такой же белизны колпак на голове. Эту форму обязан носить весь персонал предприятия, от директора до последнего грузчика. У грузчиков, правда, новенькие халаты к концу смены приобретают такой же глиняно-бурый цвет, как и пустынное поле, простирающееся за стенами цехов. В конце смены все без исключения на этом предприятии получают за вредность труда ящики молока в бутылках. Молоко не ограничено, хоть залейся.
Тихомиров, пройдя лабиринт коридоров, останавливается у входа в герметическую зону. Тут, у входа, за столом с ярко-красным, можно сказать, пламенным телефоном, восседает еще один страж. Он, как и все, в белом халате и в колпаке, но с погонами и кокардой. Требует предъявить спецпропуск в гермзону.
Тихомиров вступает под своды секретного изолированного производства. Помещения цехов заливает яркий искусственный свет, блестят металлы механизмов, двигаются люди с сосредоточенными серо-стерильными лицами. Воздух тепел и густ от масляных испарений машин, химических запахов, излучений токов. В сфере гермзоны дыхание учащается, непрерывный монотонный гул мутит мозг, подступает тошнота. Не зря тут платят работникам большие деньги.
Тихомиров входит в комнату дежурных электриков. Бригадир Иван Федорович говорит Тихомирову:
— Сиди пока. Ребята без тебя справятся. Все равно от тебя не работа, а один вред. Больше напакостишь, чем сделаешь. Пиши вот лучше в журнал — какие если заявки на ремонт будут. Понял?
— Понял, — зевая, отвечает Тихомиров. Садится на стул. Монотонный рабочий гул гермзоны неудержимо тянет его в сон. Снится ему, что у него голова ослепительная и прозрачная и горит в ней вместо мозга электрический червячок. Повернул Тихомиров свою голову, как лампу в патроне, голова повернулась и потухла и стала падать с какой-то гигантской высоты — сейчас разобьется вдребезги…
Тихомиров просыпается и судорожно дергается вверх головой, которая уже чуть не перевесила его тело, увлекая к полу.
Работы нет и после обеда. Бригадир отпустил, и Тихомиров направляется в караулку, как ему сказал Бойцов. Караулка находится во дворе, в особом служебном флигеле.
В караульной комнате четыре милиционера стучат за столом костяшками домино. Медведеобразный старшина спит на стуле, раскинув ноги в сапогах и свесив голову. Козырек фуражки съехал ему на нос, а мясистая нижняя губа вяло отвисла. Это Жудяк. Утомился он. За отдельным столом с лампой что-то пишет низенький лейтенант в очках. На непокрытой голове блестит, как рубль, небольшая плешь. Взводный Тищенко работает, отчеты пишет.
Бойцов, доиграв партию домино, подходит к Тихомирову:
— Электрическая сила, слушай, ты еще не передумал? Место ведь у нас освободилось. Я уже о тебе говорил. Ну как, согласен?
— Сумею ли, — сомневается Тихомиров.
— Еще как сумеешь. Такой богатырь! — Бойцов усмехается, окидывает взглядом щуплого электрика. — Главное, здоровым воздухом дышать будешь. И капуста солидная. Тут охрана на особом положении. А в гермзоне ты совсем зачахнешь.
— Шура, — обращается Бойцов к Тищенко, — вот этот парень, я тебе говорил.
Взводный отрывается от писанины и булавочно взглядывает сквозь очки на Бойцова:
— Что, премию на пропой зарабатываешь? Посмотрел бы в зеркало. Кирпич твоей морды краше.
Бойцов отводит электрика в сторону:
— Не сокрушайся. Через месяц будешь у нас работать. А пока примерь-ка, — и Бойцов сует ему запасной комплект обмундирования.
И Тихомиров важно примеряет в зеркале то мундир, то плащ, то фуражку с гербом представителя власти.
Бойцов тем временем входит в раж, он командует:
— Теперь повторяй за мной присягу: клянусь беззаветно стоять на страже советского правопорядка и бороться с преступностью не щадя своих сил, а если понадобится, то отдать саму жизнь… Если же я нарушу эту священную клятву, пусть я понесу кару со всей строгостью советского закона…
Тихомиров повторяет механическим голосом как попугай:
— Клянусь беззаветно… со всей строгостью закона… — голос его бойко звенит под бетонными сводами.
Тищенко не выдерживает:
— Бойцов, прекрати театр! Что, тебе больше заняться нечем? Отправляйся на проходную. Жудяк! Хватит дрыхнуть! Бери Охромеева, пусть он Павлюкова на вышке сменит. Завалите операцию — три шкуры сдеру!
Тихомиров, сознавая свое повышенное социальное значение, облаченный в форму, следует за Бойцовым, в проходную. Он вроде как на испытательной практике. Там, в проходной, он начинает мрачно и строго проверять пропуска у текущей с обеденного перерыва рабочей массы. Он останавливает своего начальника, бригадира дежурных электриков, и важно говорит:
— Федорыч, пришли какого-нибудь парня лампу вкрутить в проходной поярче. Пропусков не разглядеть.
Бригадир Федорыч смотрит на своего подчиненного, преобразившегося за каких-нибудь полчаса в столь неожиданном виде, и в его широко разинутый от изумления рот вполне можно вставить лампу в 500 ватт.
Предприятие тем временем живет своей жизнью как небольшое самостоятельное государство. Гудят и лязгают цеха, дымят трубы, разъезжаются автоматические створки ворот, выпуская бронированные грузовики с секретной продукцией.
Ночью я дежурю на вышке. Поглядываю на бетонную стену, ограждающую светлые корпуса цехов от таинственной зловещей черноты осеннего поля. Стена освещается фонарями, ее требуется охранять от преступных происков, посягающих на тайны государства. Шинелка не спасает от пронизывающего ночного холода. Тоскливо шуршит дождик.
Снизу брызнул луч фонарика, и раздается визгливый голос взводного Тищенко:
— Охромеев, а ну, покажись. Жив еще?
— Жив, — уныло отзываюсь я.
— Будь начеку, Охромеев. Бди в оба, — говорит взводный.
— Я и так бдю, — отвечаю.
— Что-то в тебе энтузиазма нет, Охромеев. Скажу замполиту, чтобы он тебя малость подзажег идеями строителя коммунизма, — говорит взводный и уходит.
К концу своего четырехчасового дежурства я смертельно продрог от ночного октябрьского холода и каждую минуту смотрю на часы, отворачивая рукав шинели. На стену, которую мне приказано охранять, мне уже начхать. Провались она в болото!..
Что-то звякнуло. Я вздрогнул. И сразу замечаю на освещенной стене, на фоне ночи, отчетливый силуэт человека.
Тищенко надевает фуражку:
— Вот дурак! — обращается он к раненому — Я ж тебя знаю; ты из слесарного цеха. Чего, балда, бежал? И похитил-то всего — старую газету «Правда». У мастера из стола. Зачем, тебе, скажи, газета понадобилась? — недоумевает Тищенко.
— Зачем, зачем? — дразнит Бойцов. — Посрать хотел на вольном воздухе. На подтирку, вот зачем.
Матерящегося рабочего положили на носилки из-под цемента и куда-то унесли.
— Стой, стрелять буду! — кричу я.
Но человек бежит в сторону от меня, качаясь на высоте руками. Что делать? Стреляю в воздух. Но и это предупреждение не останавливает неизвестного человека. Тогда я выполняю пункты строжайшей инструкции и, уловив мушкой бегущего человека, как учили, нажимаю спусковой крючок. Человек на стене вздрагивает и, взмахнув руками, как подбитый журавль крыльями, рушится вниз.
На выстрел прибегают, топоча сапогами, Тищенко, Жудяк, Бойцов и прочие.
Тищенко снимает фуражку, блестит под фонарем круглая, как медаль, плешь.
— Ничего, Охромеев, не трясись. Все как надо. Ты исполнил свой служебный долг. Премия, считай, в кармане.
ПОКУШАЙТЕ В РЕСТОРАНЕ
— Жудяк! — кричит визгливым голосом взводный. — Отвезешь своего подопечного в «Бриллиант». Пусть его там Дубченко натаскает. Понял?
Что ж. Отправляемся в «Бриллиант».
На подступах к магазину заслон людей южных национальностей. Они пытаются остановить спешащих в магазин, что-то им предлагая.
— Пасутся, — фиксирует факт Жудяк. — Значит, сегодня дают.
— Как это — дают?
— Наивняк ты, Охромеев! Золото теперь дают, только у кого спецталоны имеются. Так, с улицы, всякому встречному-поперечному золото теперь не улыбается. Вот эти кучерявые и скупают по двойной цене. Денег-то у них — куры не клюют, а спецталона нема.
Группа азиатов, увидев нас, сторонится, освобождая дорогу. Их красивые агатовые глаза невозмутимо провожают нас, пока мы не скрываемся за дверями магазина.
В зале с зеркальными витринами уютно горит электричество, отражаясь и дробясь самоцветными огоньками. Очередь в кассу, у всех в руках спецталоны. За прилавком симпатичная девушка-продавщица.
Жудяк ищет глазами, загорается злорадством. Прикладывает палец к губам, показывая движением головы. Вижу: в другом конце зала — солидный лысоватый сержант. Он держит фуражку в руке наподобие подноса и интимно беседует с каким-то низкорослым братом Али-бабы. Жудяк подкрадывается, прячась за спинами. Неожиданно вынырнув своей усатой тюленьей головой перед оторопевшим сержантом, он спрашивает:
— Дубченко, почем золотишко? Опять двойную цену дерешь?
Дубченко моргает, фуражка-поднос дрожит в руке:
— Не топи! Может, что достать надо — сейчас сделаю.
— Не топи! Да ты за мою доброту кокарду из чистого золота мне отлить должен! — И Жудяк бодает воздух, гневно тряхнув фуражкой на голове. — Сварганишь мне три цепи. Самые крупные. Понял? — заключает Жудяк. Он пишет в постовую книжку, что милиционер Дубченко на месте, и у него на посту все в полном порядке, и никаких замечаний не имеется. Отводит меня в сторону:
— Что ты думаешь, — осведомляет Жудяк, — этот Дубченко еще тот деятель. Ты с ним держи ухо востро. Втянет тебя, зеленого, в какую-нибудь историю. Ну, бывай, Охромеев. Осваивайся тут. Я еще загляну. — Жудяк уходит.
Я смотрю: за прилавками с драгоценностями продавщицы, молоденькие девочки. В кассе взгромоздилась за аппаратом сова в очках.