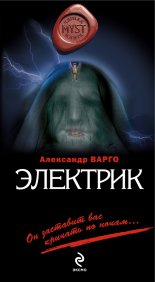Одна ночь (сборник) Овсянников Вячеслав

Дубченко подмигивает мне, говорит кассирше:
— Марья Иванна, тоска-то какая! Хоть бы напал кто. Ух бы я наделал в нем дырок. Как в ситечке!
— Дурак! Накаркаешь! — огрызается Марья Иванна.
Дубченко молодцевато прохаживается по залу, поправляя на боку кобуру с оружием. Облокачивается на прилавок, поглаживает свой пышно-рыжий, свисающий к подбородку ус.
— Маринка, — говорит он симпатичной продавщице в сиреневом служебном халатике, — серьги требуются. С брульянтом. Сообразишь?
— Что я тебе, склад, что ли? — цедит Маринка. — Подкатывайся к заведующей. Она ж от тебя тает.
Маринка отворачивается, достает из кармана зеркальце и помадный карандаш и принимается рисовать себе пламенные, как гранат, губы.
Дубченко продолжает обход вверенных ему под охрану помещений. Я сопровождаю. В особой комнате принимаются от населения изделия из драгоценных металлов на комиссию. В коридоре перед дверью сидят граждане, мирно дожидаясь своей очереди. Обаятельный молодой человек в потертых джинсах горячо убеждает двух женщин, пытаясь рассеять выражение нерешительности на их лицах. Увидев Дубченко, он выпрямляется, широко улыбаясь полным золотых зубов ртом.
— Опять ты тут пасешься? — говорит Дубченко. — Я же предупреждал. Ну, пойдем.
— Сержант. Все понял. Больше ни-ни, — заверяет золотозубый, выйдя вслед за Дубченко на улицу.
— Тебе что, больше всех надо? — спрашивает Дубченко. Места своего не знаешь? Чтоб за десять шагов от магазина ты мне не попадался.
— А это? — улыбается перекупщик, потирая большой палец об указательный.
— Что-то ты сегодня такой разговорчивый, — замечает Дубченко, закуривая. — Эх, тоска! И пульнуть-то не в кого. Хоть бы бешеная собака пробежала.
Подкатил белый, сверкающий как рояль, фиат. Откинулась дверца. Из машины появляется красивая, средних лет грузинка, горбоносая, с вороненой гривой, пальцы в перстнях.
— Я хочу с вами па-га-варить, — гордо заявляет она Дубченко. — Атайдем в сторонку. Вчера мою дочурку тут обманули. Продали фальшивый кулон. Девочка сейчас в машине.
Видим: за стеклом фиата мощный бюст дочки и ее пухлое зареванное лицо с блистающей серьгой в виде обруча.
Грузинка продолжает:
— Так вот, дочка узнала его. Вот он, этот мошенник. — И она поводит своим многозначительным глазом в сторону перекупщика.
— Надо его задержать. Я отблагодарю.
— Это наша работа, — козыряет Дубченко. И он тут же берет за воротник встревоженного маклака и предлагает пройти с ним в служебную комнату. О сопротивлении не может быть и мысли. Там Дубченко спокойно набирает номер телефона, звонит в отделение — чтобы прислали машину с милицейским нарядом.
— Чучело, — говорит он приунывшему маклаку, — кто ж так работает? Ничего. Не первый раз. Отбояришься. Завтра опять тут ни свет ни заря, как кол, торчать будешь.
Через час снова подъехал великолепный блистающий снежными отблесками фиат. Грузинка царствен-ным жестом приглашает Дубченко посидеть с ней две минуты в скверике на скамейке. Я по инерции за ним.
— Ничего. Это моя тень, — говорит он про меня грузинке.
Та раздвинула в улыбке ярко накрашенные губы:
— Я вам очень, очень благодарна. У вас сейчас будет обеденный перерыв. Покушайте чуть-чуть в ресторане, — и она протягивает Дубченко две новенькие, несколько превышающие его месячный заработок, хрустнувшие как дубовые листки, бумажки.
ОМРАЧЕНИЕ
Началось вручение наград. Полковник Кучумов объявлял фамилию. Вызванный поднимался на сцену, там Кучумов уже встречал его с протянутой в руке медалью за десять или пятнадцать лет безупречной службы, поздравлял и жал руку. Поднялся на сцену и старший сержант Черепов. Кучумов протянул ему в коробочке награду и потряс руку. Вспыхнули магнием фотоаппараты. Дзержинский в золоченой рамке тоже поздравил потеплевшим взглядом сквозь прищуренные ресницы. Зал, полный сослуживцев, ревел и лупил ладонями. Но Черепов смущен. Дрожащими пальцами раскрыл коробочку. На бронзовом диске медали сияет надпись: десять лет безупречной службы.
Но что-то невесело смотрит сержант на это блистательное солнышко чести. Не радует его сердце великолепная медаль. Награду свою он считает незаслуженной. Такой уж чудак, этот сержант. Впрочем, ее можно принять, как священный залог: который будет жечь беспощадным стыдом грудь, пока не совершит, наконец, сержант Черепов настоящий подвиг.
Кроме того, у сержанта полна тяжелым туманом голова, воспаление режет ножом горло, даже трудно глотать воздух. Наверное, простудился на дежурстве.
Аплодисменты и награды ветеранам вскоре иссякли. Собрание годовых итогов зычный полковник объявил законченным и спрятал праздничную, как яблоко, лысину под строгий козырек.
Бурное милицейство, шумя сапогами и скрипя портупеями, вскидывая на головы шапки с гербами, суя в истомленные рты сигареты, выталкивается из зала, растекается по коридорам, дробится на группы и единицы.
Сержант Черепов идет по улице. Нервное лицо, тощий шиповник власти с суровой колкостью глаз. Но… десять лет в форме блюстителя порядка — это вам не бутафория, не артистические доспехи на час спектакля.
Он идет по набережной вдоль гранитного парапета. Летит с неба то ли снег, то ли дождь, течет по щекам слякоть. Сапоги хлюпают. Промокли. Надо отдать в починку. Дождь штрихует на том берегу скучные желтые здания классицизма, и они тонут в туманной рассветной сырости. Над черным простором реки лениво пролетают чайки. По набережной проносятся с ревом машины, чихают и брызгают гриппозной слякотью. У Черепова тяжелеет свинцом голова и мутится в глазах.
Он проходит мимо двух неподвижных львов, уставившихся на воду, и вступает на мост. Там он сменяет старшину, который устрашал граждан усами, подобными двум седым саблям.
Оставшись один, Черепов начинает с пистолетом на боку охранять это гигантское железобетонное сооружение. Ни души. И машины куда-то провалились. Город словно вымер, он кажется нереальным — свинцовый застывший мираж. Черепов остается один, совсем один в этом мире, который превратился в тоскливую галлюцинацию. И бесцельно сержанту Черепову стеречь этот Мост, это стальное чудище, соединяющее два берега угрюмого миража. Он — одинокий страж Моста. Или это его свободная воля в мире высших сущностей стережет идею Моста, Города, Государства? И его форма — это эмблема, символ высшей идеи Долга?
Но что-то нехорошо Черепову в этом идеальном мире. Мокрое ненастье хлещет в глаза. И ноги мерзнут в чавкающих водой сапогах. Если бы не эта форменная шинель с погонами на плечах, этот толстый, суконный символ его беззаветного служения, Черепов бы тут и совсем пропал. Воспаление уже сжимает его горло железным ошейником с вонзающимися шипами. И вирус болезни уже властвует у него в крови.
К Черепову подходит высокий тощий мужчина в шапке с висящими собачьими ушами. Глаза в прожилках крови горят мрачным ожесточением.
— Сержант, — хрипит он, — ты мне скажи: когда с наших улиц и площадей сотрут черные имена душегубов?.. Скажи ты мне, сержант, — кричит безумный мужчина, — когда отменят статью об очернительстве партии? Кто мне вернет мои восемь лет? Зачем ты эту форму носишь, сержант?
— Гражданин! Что вам надо? Кто вы такой? — обрывает Черепов нелепую агрессию с неба свалившегося психа.
— Кто я такой?.. Микроб я. Понял? Вирус. Поймай! Попробуй! Охранничек! Стрельни в белый свет, как в копеечку. Не промахнешься!..
Черепов озирается. Никого. Мост тонет в угрюмом тумане, зарешеченном черными полосами дождя.
«Убить микроб — это не подвиг. Это обыкновенное дело, — думает Черепов. — А микроб, он везде. Что такое человек? Вирус жизни, неутолимость преступлений против порядка природы…»
Сержант расстегивает кобуру, вынимает пистолет, сдвигает флажок предохранителя, лязгает затвором и, наставив ствол в злорадствующий в его омраченной голове вирус жизни, стреляет себе в мозг.
ОДНА НОЧЬ
Я шел и шел. Ноги расползались и чавкали, с трудом влача налипший груз земляной грязи. Кругом было мрачное картофельное поле, перепаханное тракторами. Валялись поломанные ящики. Совсем стало темнеть, и в сумерках посыпался мелкий противный дождь. Я тяжело дышал, еле тащился. Но небо впереди уже широко освещалось, как розоватый пепел. Город! Густые огоньки большого человеческого общежития оживили меня своим теплым манящим мерцанием. Я сел на ящик, отдышался, сбил с башмаков тяжелые глиняные галоши. И пошел дальше бодрее.
Когда я, наконец, выбрался из мрачной пучины поля на залитый светом городской асфальт, прочный, гладкий, блестящий, словно алмаз — ноги мои будто сами по себе окрылились удивительной легкостью и отвагой, и я полетел по улице, как греческий бог, обутый в крылатую обувь. Но легкость тела меня обманывала. Через несколько минут мне захотелось прилечь на кровать где-нибудь в теплой сухой комнате и спать, спать, спать… Все-таки я очень устал.
Передо мной открылась площадь. На площади возвышалась колоссальная арка триумфальных ворот, воздвигнутых когда-то городом в честь легендарной победы отечественного воинства. Тут когда-то торжественно проходили при криках ура боевые, пахнущие порохом колонны. Грозовели знамена… Сверху ворота были украшены конями и воинами в древних доспехах. Металл отливал угрюмой многовековой зеленью.
Когда я вступил под арку, густо затушеванную темнотой, меня остановил внезапный, как укол, луч фонарика. Два усача ледяными немигающими глазами разглядывали мой облик. На их касках поблескивали эмблемы власти. Они были в форменных плащах цвета октябрьской ночи, их уродливые, как тумбы, сапоги были забрызганы грязью. Сбоку у каждого рельефно фигурировал пистолет в кобуре, с плеча свешивалась на ремешке рация, в руке покачивалась черная, как головня, резиновая дубинка. Патруль.
— Тебя-то нам и надо! — сказал приземистый и сиплый. — Паспорт есть?
Я растерялся и судорожно подал ему из внутреннего кармана книжицу в кожаном переплете.
Приземистый развернул, осветил фонариком.
— А парень-то с юмором, — просипел он, обращаясь к своему длинному собрату. — Что это? — помахал он книжкой с золоченым крестом у меня под носом.
— Это евангелие… — ответил я.
— Ты что, поп, что ли?
— Да нет, я так… Я, видите ли, в каком-то смысле посланец…
— И кто же тебя к нам послал?
— Он…
— А! Он, значит. Ну что ж, и то хлеб. Как говорится, что бог послал. Только вот не послать ли тебя к нему обратно в зад? А? Прямым ходом. Как ты думаешь?
Тут вступил в разговор длинный:
— Что ты его пропагандируешь, Харченко. Ему что в лоб, что по лбу.
— Ну, тогда разоблачайся, — приказал мне Харченко.
Я попытался возражать, но он угрожающе поднял надо мной дубинку:
— Поговори у меня, мозги вышибу! Чтоб ни одной тряпки на тебе не болталось! Все сымай! Понял?
Я стал стаскивать с себя куртку, рубашку, брюки. У башмаков никак не развязывались шнурки… Длинный брал у меня одежду, тщательно шарил пальцами и бросал в кучу у моих ног. Из куртки он вытянул мой кошелек с небольшой суммой денег, три рубля бумажкой и медная мелочь…
— А, ворюга, карманник! — радостно воскликнул длинный, пряча вещественную улику себе за пазуху. — Признавайся, где кошелёк срезал?
Больше у меня в карманах ничего ценного для них не обнаружилось.
— Что с ним будем? — спросил длинный.
— А купаться пустим. В люк. Пусть поплавает… — отвечал приземистый.
Меня сжал ледяной ужас. Я уже вообразил, как сейчас буду захлебываться в дерьме канализации. Какой конец!..
— Погоди, Харченко, — сказал длинный, — по рации передают, майор к нам едет, сейчас будет.
Подкатила бронированная машина, лязгнула дверца. Вылез майор, грузный, с густыми, как у медведя, бровями. Вслед за ним выбрались из машины два сержанта в касках, с автоматами. Майор окинул гневным взглядом мой плачевный посинелый вид Адама и закричал:
— Харченко, Чумаков! Мерзавцы! Опять за свое: я предупреждал. Позор моей седой голове и всему нашему великому государству! Что за бандитские приемы!.. Ребята, отобрать у них оружие! — приказал он двум коренастым сержантам-автоматчикам. — В машину их, под суд, прикладами в шею, в Сибирь, сосну валить. Пора очищать наши ряды от остатков периода нарушения законности!
Потом майор вежливо обратился ко мне:
— А вы, молодой человек, примите всяческие извинения. Давно надо было избавиться от этих чудовищ, да все руки не доходили. Знаете, людей совсем нет. Некому работать. Где найдешь честного беззаветного человека? Вот вы, молодой человек, и замените нам этих двоих негодяев. Не возражайте! Это ваш гражданский долг.
— Василий! — сказал майор внутрь машины. — Выдай-ка сюда полный комплект обмундирования.
— Одевайтесь, молодой человек, одевайтесь, — опять повернулся ко мне майор. — Живот-то совсем синий. Холодно ведь. Осень. Октябрь уже. Время-то как бежит. Пора, молодой человек, за дело браться.
— Да, но…
— Все формальности потом, — прервал майор. — Фамилия, имя, возраст, биография, анкеты — это все потом, это теперь не важно. С бюрократизмом у нас борьба.
Что было делать? Возражать бесполезно. Автоматчики помогли мне облачиться в доспехи сержанта охраны, накрыли голову каской, привесили к поясу пистолет, вложили в руку дубинку и оставили сторожить гигантские триумфальные ворота на площади. Бронированная машина газанула бензинным чадом, круто развернулась и с ревом унеслась в ярко освещенную улицу.
Я осмотрелся. На площади никого не было. Блестели белые шары фонарей, как луны в черном космическом безлюдьи. Тускло светились кое-где окна зданий, они казались такими далекими, словно на краю вселенной. Зверски хотелось спать. Зевота разверзала мой рот шире, чем триумфальные ворота, которые мне надо было тут охранять. Где приткнуться? Форма скрежетала на мне при каждом движении и была неповоротлива, как скафандр. Я не знал, куда мне деть эту дубину в одной руке, связку звякающих наручников в другой. Наконец я заметил около стены ворот сторожевую будку. Она была вся стеклянная. Я залез в будку, устроился в кресле и сразу заснул. Но только я уснул, навалился на меня кто-то большой и темный и стал душить. Я очнулся и в ужасе вскинул голову. Сердце колотилось в груди, как кролик в клетке. Тут же за стеклом будки я различил крадущиеся силуэты. Справа крались, пригибаясь к земле, каждый держал в руке какое-то орудие, похожее на молоток. И слева подкрадывались на цыпочках — у каждого в руке поблескивало что-то изогнутое, словно серп. Я закричал, выскочил из будки, и стал размахивать дубиной. Но непонятные бандиты и не подумали испугаться. Тогда я отчаянно засвистел в свой сторожевой свисток, вырвал сбоку пистолет, раздался выстрел. Силуэты оскалились, как крысы и разбежались. Я вздохнул со всхлипом, ноги у меня стали ватные, и я опустился на асфальт.
Опять с ревом вынырнула как из-под земли бронированная машина. Опять лязгнула дверца. Опять вылезли седые медвежьи майорские брови.
— Ты еще жив, сержант! — опешил он. — Обычно на этом посту больше часа не стоят. Трупы увозить не успеваем. Замучились. Что же теперь с тобой делать? Мы тебе замену привезли, а ты живехонек, как голубок. Так не годится. Подобные случаи у нас не предусмотрены. Придется тебя пристрелить.
— Михал Иваныч, — сказал утробный голос из машины, — у нас каждый патрон на строгом учете. Истратишь патрон — потом рапортов на километр писать надо для начальства.
— Ну что ж, и напишем, — добродушно отвечал майор.
— В том-то и дело, что не написать. Рапорта-то у нас все еще в понедельник кончились.
— Так что ж с ним тогда делать?
— А заберем его с собой в Управление. Пусть главный решает.
Я возблагодарил судьбу и спасительный голос из машины. Это оказался капитан. У него было как будто никелированное вогнутое лицо. Я даже сначала подумал, что это рупор, в который говорят, чтобы усилить голос военного приказа. Впрочем, он улыбнулся мне вполне приветливо. Да и майор отечески похлопал меня по плечу
— ничего, парень, теперь все будет в порядке. Я уже на него не сердился и спросил:
— А что это за люди хотели меня убить? У них были в руках серпы и молотки.
— Это наш трудовой народ.
— За что же они хотели меня убить?
— Видишь ли, друг, они хотят жить без нас.
— Да кто же тогда их будет защищать от грабителей и убийц и всякого преступного сброда?
— В нашей стране, сержант, преступность начисто ликвидирована.
— Как это?
— У нас, понимаешь, экспериментальное государство. Мы в виде опыта объявили всему преступному миру амнистию и обеспечили их законным правом на труд в наших же органах.
— А!..
— Да. Бесплатное обмундирование, бесплатный транспорт, люкс-номера, как в гостиницах для интуристов, право пить и жрать задарма во всех ресторанах и зарплата, как у министра. Чего еще нужно! Да если бы кто и захотел у нас грабить и убивать — так ведь не из-за чего.
— Это почему же?
— А потому что мы весь прочий трудовой народ уравняли в правах жизни и обеспечили всеми необходимыми благами для счастливого совместного проживания. В нашем государстве, так сказать, совершеннейшая демократия. Самая лучшая в мире.
— Ничего не понимаю. А вы-то тогда зачем?
— Вот дурило. Я же тебе толкую. Мы же весь преступный элемент вобрали, так сказать, внутрь своих органов, взяли весь яд общества на себя, перевариваем теперь, перевоспитываем. Дело-то не скорое. И пускай уж они лучше у нас друг друга иногда чуть-чуть прирежут от скуки, чем опять начнут гулять на свободе. Тут они все-таки под присмотром. Так что в тюрьмах теперь нет никакой необходимости. А кроме того есть у нас еще очень ответственная функция — сохранять в трудовом народе полное равноправие благ. Надо следить, чтобы, так сказать, никто не высовывался. Ни на волосок. Понятно? А кто высовывается — мы того быстренько сбриваем. Теперь ты все понял? Как говорится, и волки сыты, и овцы целы.
— По-нял… — отвечал я. — Но почему все-таки хотели меня убить эти с серпами и молотками?
— Сознательность у них низкая, — вздохнул майор. — Они, видишь ли, хотят жить без нас, без органов власти и порядка. Им подавай свободное народоуправление. Но они сами не знают — чего добиваются. Это же абсурд, анархия. Еще никто никогда без нас не обходился. Но все равно, наш город самый лучший в мире…
— А как называется ваш город?
— Содом, — гордо отвечал майор.
Да, красивый город Содом. Великолепный город. Даже и ночью. Прекраснейший в мире город. Мы проезжали каналы, закованные в гранит, освещенные уходящими вдаль фонарями в голубых ореолах. Вода черным-черна, покачивалась в столбах отраженного света. Мы проезжали башни, соединенные циклопическими цепями, грифонов, распростерших тусклое золото крыльев, каменных львов, играющих в мяч, сфинксов с божественно-прекрасными женскими лицами. Серые в ночном воздухе силуэты колоннад, дворцов, соборов, конных неподвижных императоров — бывших властителей города.
Мы поехали по набережной широкой реки в арках мостов. Справа, на том берегу, тускло блестела игла шпиля. К игле прилепился какой-то золотистый крылатый силуэт.
— Что это? — спросил я.
— Это собор Ангела, — охотно отвечал майор.
Слева потянулся роскошный фасад дворца в завитушках барокко, увенчанный аллегорическими скульптурами. За дворцом открылось безлюдное пространство площади. На площади высилась гигантская колонна. На колонне светилась крылатая фигура с перстом, грозно указывающим на небо.
— А это что? — опять спросил я.
— А это, товарищ, колонна Второго Ангела, — тоном гида отвечал майор.
— Что все это значит? Первый. Второй. Может, сейчас и третий будет?
— Нет. Третьего не будет. Эти поповские басни давно потеряли всякую актуальность.
— Какие басни?
— Вот темнота необразованная! Ты с неба свалился?
— Да. Как будто…
— Вот-вот, и рожа у тебя какая-то не наша. Может, ты инопланетянин?
— Да, в общем-то можно и так выразиться…
— А парень-то с юмором, а, Василий, — обратился майор к капитану, вогнутое лицо которого было похоже на рупор. Капитан блеснул никелированной улыбкой и одобрительно кивнул:
— Ценный кадр.
— Но все-таки, что это за монументы с ангелами?
— Есть, видишь ли, легенда. Будто прилетел в наш город когда-то в допотопные времена посланец. Ну, что-то типа инопланетянина от космической цивилизации. А по-поповски, значит, ангел. А посланец этот был не простой. Короче говоря, ни больше ни меньше — инспектор из космоса от Самого, от Главного. Видит он, непорядки тут у нас и всеобщая гнусность в народе. Он и предупредил — чтобы срочно исправлялись, и срок дал. Народ, конечно, в штаны наклал от страха, и чтобы ангел не сердился, и сварганили ему этот собор с ангелом на шпиле. Ну, ангел чуток оттаял и улетел… Первое время после него в городе шла срочная перестройка сознания и повышение всеобщей моральности. Добились стопроцентных показателей добра и поголовной радости. Грабить, насиловать, убивать — баста. Страшно все-таки — а вдруг Тот, с неба, бабахнет! Но время шло, потихоньку все позабыли. Кто прилетал? Зачем прилетал? И такие тут начались безобразия! Жуть! Еще почище прежнего. Тогда сверху не стали больше болтать лишних слов, открыли там свои краники и напустили на наш город потоп. Дождь хлестал целый месяц, как из лопнувшей трубы. Море поднялось и залило весь город, как какую-нибудь муравьиную кучу. Куда ни посмотри — одна вода, и дождь хлещет. Только торчит из волн башня со шпилем, а на шпиле ангел с перстом. Ну, потом вода ушла. Спасся от потопа один кораблик. Из него поразвелся опять в нашем городе народец. Ну а потом, как в сказке про попа и собаку.
- У попа была собака,
- Он её любил.
- Она съела кусок мяса,
- Он её убил.
Короче говоря, прошла, может, так тысчонка-другая лет, опять явился посланец, опять произвел инспекцию, опять предупреждал — чтобы наконец исправились. Опять все наклали в штаны, соорудили второму ангелу колонну с его изображением — высокую-пре-высокую, до самого неба. И этот ангел убрался обратно в выси. А народ опять скурвился. Опять потоп… И так далее. В общем, все это поповские басни. Религиозный дурман и опиум для народа. Говорят, еще будет третий посланец. Последний! Уж после него всю землю в порошок сотрут и по ветру развеют. Но это уже совсем ахинея. Ты же видишь — у нас поголовное счастье и процветание жизни. Наконец-то мы построили идеальное общество. Это же, так сказать, лучший из миров. Есть, правда, еще кое-какие недоделки. Но это уже нюансы. Так что никаких ангелов — ни первого, ни второго, ни третьего не было, нет и быть не может. Мы сами, можно сказать, государство ангелов.
— Да, как у вас тут интересно, — сказал я. — А этот, на горке, что за всадник с кошачьей головой? Зеленый, как из глины.
— Это наш древний император. Основатель города. И не из глины он, а из меди.
— Ну, значит, это так кажется… А вот еще такое красивое здание с колоннами, а наверху тоже ангелы — только черные, и с книгами…
— Тут, мой дорогой, раньше заседало царское правительство. Теперь тут тоже наш пост. Охраняем архивы истории. Да, — хмыкнул майор, — такой тут был смешной случай, когда стали мы переделывать наше государство. Видишь ли, в этом здании стоял на парадной лестнице бюст императрицы прошлых времен. Большой, я тебе скажу, бюст. Габаритная была женщина. И весь из золота. Высшей пробы. Пять пудов золота. Преступность в те времена цвела у нас, как маков цвет. И вот жил-гулял в городе один замечательный бандит по кличке Гамлет. Бывший артист императорского театра. Любил, гад, красиво работать. И вот, представь, день, на площади туристов тьма, иностранцы с биноклями, фотоаппараты щелкают. Машины потоком. Регулировщик стоит на углу, жезлом дирижирует. Центр города. А во дворце этом как раз правительство заседает, индюки в орденах, решают важные государственные вопросы. И в том числе — как справиться с невиданной волной преступности в стране. В столице уж наводнение. Девятый вал, можно сказать, накатывает. И вот в это самое время подшуршала к подъезду роскошная правительственная машина, так и сверкает черным лаком, как башмак какого-нибудь заграничного принца. Взбегает по ступенькам сам Гамлет, наследник датского престола, в белоснежных кружевах по плечам. С ним еще двое при пистолетах и шпагах. Все подумали — кино снимают. А у них — как по нотам. Швейцару и двум охранникам надевают на голову балахоны, связывают и аккуратно кладут у входа. Берут под ручки золотой бюст императрицы, сажают в машину и укатывают, сделав красивый прощальный жест. А! Как работал, мерзавец! Теперь уж таких гениев нет. Так, мелочь. У нас ведь эра ликвидированной преступности. Скучно мы живем, а, Василий? — обратился майор к капитану.
— Ску-у-чно, — утробно отвечал капитан-рупор.
Наша машина свернула на мост и помчалась через широкую ночную реку в пятнах и полосах фонарей. На середине моста машина затормозила. Сбоку я увидел стеклянную сторожевую будку, точно такую же, в какой я ютился у триумфальных ворот.
— Тишина, — сказал майор, и его медвежьи брови встали дыбом.
— Никого, — утробно пробурчал капитан-рупор.
— И на рацию он не отвечал, — сказал, обернувшись, шофер, и его сивые, как сабли, усы чуть не отхватили у меня голову. Так неожиданно близко выросло его лицо.
— Зайченко, Кириллюк! Приготовиться! — приказал майор двум сержантам, громоздившимся сзади, как бронированные сейфы с автоматами.
— Идем с нами, — сказал мне майор, — посмотришь. Тебе надо учиться нашей службе.
Дверь будки была распахнута. И внутри был беспорядок. На столе валялась фуражка с расколотым козырьком, и из-под нее растекалась клейкая лужа крови. Кровь была и на полу. Еще на столе, рядом с фуражкой лежал тяжелый молоток с раздвоенной бородкой для выдергивания гвоздей. А ударная часть молотка блестела, заляпанная свежей пурпурной краской.
— Ну вот! — вздохнул майор. — И так каждое дежурство. Скоро у нас весь личный состав иссякнет. А ведь каждый раз инструктируем весь наряд самым тщательным образом: орлы, бди в оба! Не спать! Сами знаете, чем пахнет сон на посту… Какое там! Только примет смену, плюхнется на стул, положит на стол буйную головушку… Тут и подкрадутся, и тюк молотком по башке. Пистолет себе, а труп с моста, рыбам на закусон… Еще и молоток оставят на столе для издевательства.
Майор сурово сдвинул медвежьи брови:
— Кириллюк, — приказал он мощному кубическому сержанту с маленькой круглой головой в каске, — принимай пост. Поспи вот только у меня! — погрозил он поросшим черной шерстью пальцем.
Мы поехали дальше.
— Куда теперь? — спросил саблеусый шофер.
— Гони на кладбище жертв революции! — приказал майор.
Улицы стали некрасивые, дома мрачные, однообразные.
Сворачивали несколько раз туда-сюда, потом долго катили по шоссе, справа тянулся чахлый лесок. Наконец, показалась стена, ограждающая кладбище, и запертые железные ворота.
— Ну-ка, Василий, подай им голос, — сказал майор.
Капитан вытянул свое лицо-рупор, покашлял, и сотряс воздух мощным металлическим голосом:
— Костюков, открывай ворота! Быстро!
Но с кладбища ответил только нечеловеческий вопль. Как будто там кого-то резали. Стало жутко.
— Опять, сволочи, собак мучают. Ну, я предупреждал, — сказал майор.
— Костюков! Сидоренко! Замурую! Насидитесь вы у меня в склепе! — надрывал свой рупор капитан.
Наконец ворота заскрежетали, раздвинулись. В проеме масляно улыбалась физиономия в пышной шапке рыжего меха, одно ухо торчало, загибаясь, с болтающейся тесемкой. На лбу блестела кокарда.
— Костюков, почему шапка не по форме? Так-так. Где ты собак держишь? А ну, веди в вольер.
— Но, товарищ майор, они же при патрулях, по кладбищу ходят. Где же их сейчас отыщешь?
— Помолчи! — угрюмо сказал майор. — Веди! Быстро!
Пройдя аллею уже безлиственных октябрьских деревьев, среди которых смутно белели по сторонам кресты и плиты, мы остановились у кирпичного строеньица с одиноким светящимся окном. Майор уже хотел толкнуть дверь, но резко повернулся, вглядываясь в сумрак.
— Это у тебя там что? — елейным голосом спросил майор.
Тут и я заметил висящие на суках продолговатые предметы. Мы подошли. Это оказались освежеванные туши. Еще капала с тихим стуком кровь. Рядом на сучьях мы обнаружили и сохнущие шкуры.
— Что же это такое? Я тебя спрашиваю? — зарычал майор. — Где псы? Где собачки? Отвечай! За месяц три партии собак сменили. Бандиты, говоришь, шалят? А? Костюков? Отвечай! Где псы? Что ты рот разинул, как могила!
— Что ж отвечать, товарищ майор. Сами видите, — произнес могильным голосом Костюков.
— Где остальной наряд?
— В сторожке.
— А ну пошли.
Мы очутились в грязном душном помещении. На столе валялся фонарик с треснутым стеклянным лицом. На стене висела старая серая, как из глины, шинель. Из-за стола, где на развернутой газете лежал хлеб и розовые ломтики сала, резко вскочили трое и, отдавая воинскую честь, приложили руки к пышным, как рыжие облака, шапкам собачьего меха с кокардами на лбу.
— Так. Все ясно, — металлически отчеканил майор. — Пора нам с этой живодерней кончать. Капитан! — обратился он к своему рупорообразному помощнику. — Расстрелять!..
— А теперь куда? — спросил шофер.
— А теперь и нам отдохнуть надо. Мы тоже не железные. Газуй в Управление.
Штат Управления занимал все этажи громадного бетонного небоскреба, у которого не было ни одного окна. А может быть, окна были забронированы, и поэтому их было не отличить от однообразия стены. На площади перед зданием роились в луче прожектора лозунги и транспаранты. Визжали женщины. Качались над головами буквы на кумачовом полотнище:
«Голосуйте за народного депутата Тищенко!»
Сам Тищенко, по-видимому, был тот угрюмый изможденный мужчина, который сидел на стуле, окруженный со всех сторон своими приверженцами.
— Что делает этот человек? Что им нужно? Чего они требуют? — спросил я майора.
— Этот человек голодает. В знак протеста. Голодает он тут, не двигаясь с места, вот уже седьмой день. А требуют они — чтобы их представителя, этого самого голодающего типа, пустили в Управление, в наши ряды, на должность: истинный представитель интересов народа. Что делать — кончится тем, что мы его туда пустим. Но это нам ничем не грозит. Правда, у нас есть уже такой «представитель». Но он их, видишь ли, не устраивает! Продался, говорят. А впрочем, я тебе по секрету, — и майор наклонился к моему уху, — этот голодающий — наш человек. Мы его в штатское переодели. Выполнит задание — капитана получит.
У мощных бронированных дверей нас ослепили прожектором и тщательно рассмотрели. После этого дверь автоматически раздвинулась, и мы вошли внутрь здания. В караульном помещении майор сдал меня коренастому старшине с широким медным лицом и приплюснутым носом. Казалось, это было не лицо, а большая бронзовая кокарда. Мне стало как-то нехорошо.
— Жрать хочешь? — прохрипела кокарда.
— Да так себе… Я и сам не пойму, хочу я или не хочу.
— Ну, один хрен, пошли, накормлю.
Кокарда повел меня по длинному узкому коридору, мы спустились по ступенькам на нижний этаж, свернули направо, опять пошли по коридору, опять поднялись по ступенькам, потом ехали на лифте, потом опять коридор, еще сворачивали, еще поднимались. Наконец до меня донесся капустный запах столовой. Там, в зале, за столиком, сидели двое сержантов в расстегнутых мундирах и пили компот.
— Сапогов, накорми парня, — приказал кокарда. — А потом найдешь ему свободную койку.
— Григорьич, не беспокойся. Это мы в один секунд, — откликнулся Сапогов.
И вот я уже хлебал густой жирный борщ и посматривал на второе блюдо, где меня дожидался кусок жареного мяса с картофелем. Пока я ел, Сапогов очень уж пристально разглядывал меня каким-то неприятным масляным взглядом. И вид у него был совершенно уголовный. Мне стало не по себе, и кровь бросилась мне в лицо и в шею. Когда я расправился с пищей, Сапогов, улыбаясь, перемигнулся со своим дружком и кивнул на меня:
— Ну, куда мы эту красную девицу спать уложим?
Я уже собирался выразить свое возмущение, но Сапогов поманил меня пальцем, и я пошел. Я очень хотел спать. Опять начались блуждания в лабиринтах коридоров. Наконец Сапогов толкнул дверь ногой и ввел меня в комнату, где помещались четыре кровати. На двух спали в форме, в сапогах, с паровозным храпом, со свистом. Две кровати были свободны. На столе горел ночник.
— Выбирай любую, — сказал Сапогов, — там все есть, белье чистое. Форму в шкаф вешай.
Сапогов ушел, я разделся и нырнул под одеяло. За стеной шумели пьяные голоса. Рокотала гитара. Я стал погружаться в сон, поплыли образы… И вдруг словно что-то кольнуло меня в сердце, и я очнулся и стряхнул липкую паутину сна. Дверь была приоткрыта, и за ней вполголоса спорили несколько человек. Один говорил: «Его майор привел. Григорьич тоже предупреждал — не трогать». «Что нам твой майор, — говорил второй, — а Григорьич просто старая кокарда». «И так без баб живем, — говорил третий. — Тоже мне, идеальное государство. В лагере, пока в уголовниках числились, и то лучше было. А ну, ребята, вставим ему по пистолету в зад…»
Тут я все понял слишком ясно, и когда они бросились на меня, я успел забиться под кровать. Они стали ловить меня руками и тащить за ногу. Я вырвался и юркнул под другую кровать.
— Тащи его, гада! Степа, не дай ему уйти!.. — кричали озверелые содомиты и топотали сапогами. Казалось, их тысячи!
Мне уже удалось выскочить в дверь, и я помчался по коридору, не чуя ног. За мной гнался грохот тысяч сапог. Все! Конец! Некуда. Впереди тупиковая стена. Что делать? У меня не было даже ножа — чтобы перерезать себе горло. И в полном отчаянии я ударился с ревом всем телом о крашенную в грязно-голубой цвет стену. Она треснула и рассыпалась, как стеклянная, и я полетел наружу, в небо…
Я летел в широком ночном пространстве, набирая высоту, уходя в холодную черноту и мрак. А Город подо мной взрывался и рушился, вскидывая столбы огня; низвергалось с грохотом, как водопад, гигантское здание.
Меня обвевало свободное черное пространство широкого мира, где не маячило в ночи ни одного огонька.
ЧЕЛОВЕКОПАД
— Ефрейтор, подъем! На вокзале ночевать нельзя! Дрыхнет, как в казарме, и в ус не дует!
Хрипунов встрепенулся, приподнял голову. Около его жесткого ложа в зале ожидания стоял старик в малиновом женском пальто. Старик был внушителен, покрытое седой щетиной лицо выражало властность. На голове шерстяная шапочка со свисающей у виска кистью. Из-под длинного, до пят, пальто виднелись сине-белые спортивные тапочки.
— А куда я пойду? Негде мне. — Хрипунов нехотя оставил лежачее положение, сидел, нахохленный, с поднятым воротником шинели.
— Встать, когда с тобой разговаривает комендант вокзала! — закричал непонятный старик и топнул ногой в спортивном тапочке.
Хрипунов встал, невольно подчиняясь властному голосу, рука у него сама собой потянулась к съехавшей на затылок шапке — отдать честь.
Облаченный в странную форму комендант смягчился.
— Ну, что, дембель-штемпель? Чего тебе в нашем великом городе на Неве понадобилось?
Хрипунов усмехнулся:
— Ясно — чего. Пристроиться бы где. Работенку…