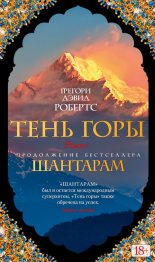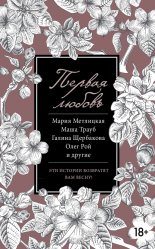Наш китайский бизнес (сборник) Рубина Дина

Все население Неве-Эфраима собралось здесь, все сто двадцать три семьи. Шел «Видуй» — молитва, которую читает каждый от имени всего народа. Женщины сидели наверху, на галерее с резными деревянными перилами, и смотрели вниз, на мужчин — белые кипы, белые плечи, несколько винтовок, перекинутых через плечо, поверх талеса.
Стонали, качаясь, просили и каялись мужчины поселения Неве-Эфраим:
— «За грех, который мы совершили пред Тобою по принуждению или добровольно,
И за грех, который мы совершили пред Тобой по закоснелости сердца,
И за грех, который мы совершили пред Тобою надменностью,
И за грех, который мы совершили пред Тобою дерзостью,
И за грех, который мы совершили пред Тобою злым умыслом против ближнего,
И за грех, который мы совершили пред Тобою упрямством,
И за грех, который мы совершили пред Тобою беспричинной ненавистью,
И за грех, который мы совершили пред Тобою насилием,
И за грех, который мы совершили пред Тобою смятением сердечным,
За все это, Бог прощающий, прости нас, извини нас, искупи нас!»
— «И за грех, который мы совершили пред Тобою недостойным высказыванием,
За грех, который мы совершили пред Тобою распутством, — выводил Рабинович, чистый и искренний, как стеклышко.
— За грех, который мы совершили пред Тобою в беспутном сборище,
За грех, который мы совершили пред Тобою сквернословием,
За грех, который мы совершили пред Тобою открыто или сокрыто».
Ему становилось все легче. Он молился страстно и внятно, вкладывая в каждое слово утроенный смысл. Он знал, что от него требуется.
Доктору же было плохо, плохо было Доктору. Нога болела так, что хоть на пол сползай. К тому же у него началась мигрень, и каждое слово молитвы, которую он старался бубнить потише и помягче, вспыхивало в голове предупредительными лампочками:
— «И за грех, который мы совершили пред Тобою пустыми разговорами,
И за грех, который мы совершили пред Тобою насмешками,
И за грех, который мы совершили пред Тобою легкомыслием,
За грех, который мы совершили пред Тобою ложной клятвой,
За все это, Бог прощающий, прости нас, извини нас, искупи нас!»
…В синагоге «русских», которую и синагогой трудно было назвать — так, подвальное помещение с плохой вентиляцией, — вообще невозможно было протолкнуться. В адской духоте молились рядом Перец Кравец, Агриппа Соколов, Ури Бар-Ханина, раввин Иешуа Пархомовский.
Рядом с Ури, с молитвенником в руках, в нелепо сидящем на нем талесе, стоял Боря Каган. Вообще-то в гробу он видал всех этих нашкодивших за год жидов вместе с их долбаным Судным Днем. Но вечером Юрик молча нацепил на Борины плечи талес и чуть ли не силой выволок его из дома. Поэтому Боря стоял рядом, невнимательно глядя в текст молитвы «Видуй», ошибаясь, повторяя слова за другими и значительно опаздывая:
— «За грех, который мы совершили пред Тобою отрицанием божественной власти…»
Его уже успели уволить с работы, на которую три месяца назад его устроил Юрик. Так что он тихо и покорно повторял за Юриком слова молитвы.
Боря молился не Богу, Твердыне Израиля, в которого он не верил. Он молился своей собственной Твердыне, Юрику, которого любил больше, чем Бога, больше, чем родную сестру и племянников, и, конечно, больше, чем себя самого. Искоса время от времени он взглядывал на друга, и ему было страшно.
Бледный, с катящимися по скулам каплями то ли пота, то ли слез, раскачиваясь и никого вокруг не замечая, молился гер Ури Бар-Ханина.
Он был кругом виноват. Он был виноват перед всеми: перед родителями, которые так и не приняли и не поняли все, что он совершил со своей жизнью, перед Борей, который вновь оказался без работы, а главное — виноват, страшно виноват перед Зиной: он мало уделял ей внимания и посмел уехать на два месяца в Бостон, куда его пригласили поработать в Университете, а за это время у Зины случился выкидыш. У них уже было три дочери, и должен был родиться мальчик, первый сын. И в гибели этого нерожденного сына, как и во всем остальном, виноват был он, и только он один.
И за все это, в грозный Судный День, в тяжкой духоте, сглатывая пот и слезы, молился гер Ури Бар-Ханина:
— «Бог мой! Прежде, чем я был создан, я не стоил того; теперь же, когда я создан, я как бы и не создан. Прах я при жизни моей, тем более в смерти моей. Вот я, пред Тобою, как сосуд, полный стыда и позора. Да будет благоволение от Тебя, Господь Бог мой и Бог отцов моих, чтобы не грешил я более, а те грехи, которые я совершил пред Тобою, изгладь по великому милосердию Твоему…»
И до накаленных на Божьей наковальне ослепительно белых звезд, в черную бездонную утробу Вселенной — из переполненных по всей земле Израиля синагог — возносились к открытым Вратам Милосердия плач и ропот, мольба и ужас — вопль стыда и покаяния.
Зяме бы, конечно, не понравилось, что он приперся работать в ночь Иом Кипура. Да ей не привыкать к его безобразиям.
Конечно, ничего не горело. И эти семь полос, которые Витя сверстал на удивление быстро, подождали бы до исхода праздника. Просто не было сил оставаться дома, ругаться с Юлей, смотреть по телевизору российские программы… Он бежал, просто-напросто бежал. И не исключено, что от себя самого…
Сверстав полосы уже к часу ночи, Витя от нечего делать принялся за свежую статью Кугеля. Это его немного развлекло.
«Как мы дошли до жизни такой? — вопрошал политический обозреватель Себастьян Закс в первой же фразе статьи и сам себе отвечал: — Под гнетом власти роковой!»
— «Под гнетом власти роковой»! — повторил Витя саркастически. — Пушкин, блядь! — И движением «мыши» стер с экрана бессмертные эти слова.
Между тем наверху, в «Белых ногах», покоем и не пахло. Ни покоем, ни покаянием. Морячки там, что ли, опять гуляют? Сверху доносились визг, странный вой, глухое хлопанье, как будто били в боксерскую грушу…
В общем, надо было бы, конечно, убираться подобру-поздорову…
В крепость железных решеток Витя уже не верил. Настолько не верил, что сегодня даже не запер ее. Так только — повернул дважды ключ в хлипкой редакционной двери. И когда наверху в глухом шуме взмыл тонкий смертный вой, стало ясно, что удочки надо сматывать. И Витя торопливо принялся закрывать программу, чтобы одеться и тихонько выскользнуть из этого вертепа, пока сюда полиция не нагрянула. Полиция, с ее контингентом из местных уроженцев, вызывала у Вити ненависть более сильную (экзистенциальную), чем служащие и посетители престижного салона.
Но одеться он так и не успел.
По коридору протопали шаги, и сильный хриплый голос крикнул: «Шай, сюда! Здесь кто-то есть!»
В дверь саданули кулаком и тот же голос гаркнул:
— Открывай!
И Витя (ненависть — экзистенциальное чувство!), вместо того чтобы торопливо открыть полиции дверь и подобострастно объяснить — кто он здесь и для чего, — Витя крикнул с плохо скрываемым азартом:
— А такого блюда — «хрен рубленый» — не хочешь попробовать?
После чего дюжие полицейские навалились на хлипкую дверь и после нескольких молчаливых ударов выбили ее без особого усилия. Ввалившись в редакцию еженедельника «Полдень», они увидели маленького толстого человека в трусах и пляжных сандалиях.
— Голый! — проговорил пожилой полицейский другому, что помоложе. — Из той же компании. Руки за голову! Лицом к стене!
— Допроси его, я — наверх! — сказал он и вышел.
Витя — руки за голову — стоял лицом к стене и думал — что скажет Зяма на всю эту историю. А сказать она должна приблизительно следующее: так тебе и надо, Иом Кипур не ярмарка, еврейский Бог не барабашка. Стой теперь в трусах и рассматривай свои сандалики.
Первым делом полицейский — рослый и избыточно, по-индийски, красивый молодой мизрах, обхлопал Витины трусы, хотя странно было бы предположить, что Витя мог спрятать в них оружие.
— Не забудь задницу обыскать! — предложил Витя мизраху наглым и отчаянным тоном. — Найдешь там ядреный геморрой. Но учти — он стреляет не пулями.
И следующие минут десять тем же хамским тоном (с руками за головой) он объяснял полицейскому Шаю, что имеет право верстать свою газету в каком угодно виде и в какой угодно позе, хоть раком, потому что он законопослушный гражданин и платит налоги, и ему нет дела ни до борделя со всеми его обитателями, ни до бравой израильской полиции с ее облавами, чтоб все они разом провалились и лопнули.
После того как Шай достал из кармана его висящих на стуле брюк удостоверение личности и проверил его, Витя еще добавил, что он думает об израильской полиции вообще и о государстве Израиль — детально.
— Ладно, опусти руки, — сказал Шай. — Можешь одеться.
Витя обратил внимание, что лицо мизраха заросло многодневной щетиной — знак траура.
— А что, — спросил он, — опять моряки бедокурят? Случилось чего?
— Случилось, — ответил тот. — Мы их давно пасем.
— Ты что — похоронил кого-то?
— Да, — сказал полицейский Шай. — Племянника, сына сестры. Единственного.
— Леванон?
— Да.
— Так не берут же единственных! — удивился Витя.
Шай усмехнулся:
— А ты не знаешь, как это бывает, когда приходит твой ребенок и хватает тебя за горло, и говорит, что ему стыдно перед друзьями, и обещает всю жизнь ногой не ступить в родной дом, если ты не подпишешь эту проклятую бумагу в армию, разрешение… Вот и она подписала, моя сестра… А я теперь говорю: пусть бы он всю жизнь домой не ступил, правильно? Но пусть бы он в других местах ступал, и бегал, и ездил, и баб трахал…
Он подошел к окну, выглянул.
— Сколько стоит здесь съем?
— Триста долларов, — сказал Витя, переобувая туфли.
— Дешево…
— А ты думал, я за ради удовольствия бок о бок с блядями работаю?
— Слушай, что я тебе скажу… — ответил Шай со вздохом, — бляди — еще не самое страшное в жизни.
Минут через десять спустился пожилой полицейский и велел идти за ним.
Они поднялись на лестничный пролет и остановились: на полу, привалившись спиной к стене и подняв колени, сидел вчерашний расписной Витин посетитель, проходящий сквозь железные двери.
Он усмехался, полуприкрыв глаза, и обеими руками сжимал темный продолговатый предмет в низу живота. Вите даже показалось сначала, что он цинично демонстрирует полицейским свои мужские доспехи.
Но уже через секунду стало ясно, что это — рукоятка ножа, а своим полуприкрытым взглядом расписной человек смотрит уже совсем в иные дали, проходит в иные Врата и демонстрирует в иных инстанциях все ипостаси души…
Однако, подумал Витя, дорожной молитвой тут не отделаешься.
Уже привычные за последние годы тошнота и пустынный холод подкатили к его сердцу. Господи, подумал он, а ведь этот парень уже абсолютно и бесконечно свободен…
— Ты знаешь этого человека? — спросил Шай.
— Да, — сказал Витя. — Это Машиах…
Острый нож для разделки мяса — не очень длинный, но с удобной рукояткой, она купила в лавке недалеко от Еврейского квартала Хеврона. Теперь надо было только дождаться первой звезды, когда у евреев закончится их Иом Кипур и в Эль-Кудсе[15] открываются кафе, бары и ночные клубы.
В город она доберется на арабском такси, это недорого. У нее уже приготовлены деньги.
На самом деле ей никого не хотелось убивать. Она вообще была вялой некрасивой девушкой зрелого возраста — весной ей стукнуло двадцать два года. И пока четыре месяца назад она не встретила на рынке в Хевроне своего бывшего учителя Абд-Эль-Вахаба, из школы «Алия», где она закончила девять классов, у нее, да и у всей семьи, была еще надежда, что ее засватают. Мало ли бывает! Вдовец или инвалид… Вон, Риджа, например. Без руки, но все остальное ведь на месте…
Нет, дольше тянуть было нельзя. Сегодня ее вырвало чуть ли не за столом, она успела выбежать. Брат Фатхи так странно, так внимательно весь день следит за ней.
Братья просто убьют ее, а иначе нельзя. Нельзя: никто не отдаст свою дочь в опозоренную семью. И младших сестер никто не придет сватать. Над папой будут смеяться соседи в деревенском кафе, где мужчины смотрят телевизор и играют в шешбеш…
Может, она и не станет убивать всерьез, не станет всаживать нож по рукоятку — ведь для этого сколько силы нужно! Хотя, Абд-Эль-Вахаб сказал, чтоб ударила в шею, он показал — с какой стороны.
Он не хочет жениться. Сказал — лучше убей еврея, тебя возьмут в тюрьму, там родишь и оставишь. И семье будет почет… Не такие он говорил слова, когда тянул ее в темноте к себе и шарил горячими руками под платьем…
Она натянула джинсы, которые уже застегивались с трудом, поверх надела широкое арабское одеяние — нечто вроде платья серого цвета. На голову — белый платок. Нож она заткнет за пояс джинсов — это хорошо, что она догадалась купить такой удобный, не слишком длинный нож.
Скоро выглянет первая звезда, она выйдет на шоссе и остановит арабское такси, какие курсируют между Хевроном и Эль-Кудсом. Сядет она сзади, на сиденье для женщин. Это недорого — всего пять шекелей.
— Поехали, поехали, жрать хочется до смерти! Сейчас как закажем «меурав», да «мараккубэ», да водочки! Доктор, плюнь на свою ногу, хватит ныть! Мы внесем тебя в злачное место на своих натруженных плечах!
По традиции вечером после Иом Кипура выезжали в город целой кавалькадой: на одной из темных улочек старого района Мусрара в известном курдском ресторане под названием «Годовалая сука» кормили вкусно и недорого.
Доктора еще поуговаривали, обещали покрепче перевязать ногу. Он был бы рад сейчас, перекусив по-домашнему, свалиться в постель. Но жена просила, да и неудобно было перед писательницей N. с мужем. У тех не было машины, а значит, им, беднягам, пришлось бы добираться на автобусе чуть ли не час. Поистине сдохнешь с голоду.
— А что ж вы солдата не прихватили? — спросил Доктор писательницу N. — Ведь и он, поди, голодный?
— Во-первых, он жрал весь Иом Кипур, как нанятой, не закрывая холодильника, — сказала мать солдата, — а во-вторых, «я б хотел забыться и заснуть».
На самом деле, она предложила Шмулику ехать. Но тот сказал, что сидеть в обществе старперов — незавидная участь. К тому же он надеялся, что родители будут гудеть за полночь, а часов в одиннадцать по одному из каналов немцы транслировали крутую порнуху. Короче — отослать младшего гаденыша спать, а самому спокойно балдеть перед телевизором.
Докторское копыто наскоро перевязали, жена села за руль, сзади усадили милых друзей-соседей, бросили клич Ангел-Рае с мужем Васенькой, и — кавалькада тронулась…
Витя уже сидел в машине, он должен был, как обычно, завезти в центральный офис готовые полосы «Полдня», но тут он вспомнил, что забыл снести вниз большую синюю папку, где полосы хранились. Он чертыхнулся, вылез из машины и пошел назад в офис.
У входа в подъезд в сумерках стоял Хитлер. Витя вдруг разглядел, как он стар — тот поседел, ссутулился, у него недоставало двух передних зубов. Увидев Витю, он страшно обрадовался.
— Ну, как дела? — спросил Витя.
— Мои дела… — неопределенно усмехнулся Хитлер. — Вот, подсобрал немного деньжат, жду мальчика. Поведу его в ресторан…
Когда Витя проснулся, он подивился тому, какой ясный и подлинный, какой грустный был этот сон.
Он вспомнил вдруг, как много лет назад, в юности, Хитлер всучил ему в подарок пластинку с песнями Шарля Азнавура. Потом Витя понял — ради чего. Ради одной песни… Сейчас уже не припомнить слов… В общем, это была песня голубого… Как это там?.. Вроде бы так:
«Вечерами я пою в маленьком кафе… И живу вдвоем с мамой… Я люблю мыть посуду… Я никогда не доверяю маме это дело, она не умеет так хорошо мыть посуду, как я…»
Черт, подумал Витя, а ведь у Хитлера была язва желудка. Может, его и в живых-то уже нет? Может, он только и околачивается в моих идиотских снах?
«…Я так люблю мыть посуду… — повторял Витя почти бессмысленно, — ведь мама не умеет этого делать, как я… А вечерами… вечерами я пою вам песни в маленьком кафе».
Он вдруг заплакал, тяжело, лающим, кашляющим плачем. И долго лежал на спине, одинокий барсук, глядя в потолок, отирая ладонью слезы и тщетно пытаясь замять, затоптать в себе предчувствие беды, гораздо более страшной, чем его собственная смерть, которая давно уже его не волновала…
До города их обещал подбросить Давид Гутман. А там остается сдать Мелочь на руки бабки и деда, встретить на центральной станции чревоугодника Витю, который приезжает из Тель-Авива первым автобусом, и часов до одиннадцати забуриться в дивное место — на огромную террасу старого каменного дома, где и размещался их любимый ресторан «Годовалая сука».
Сесть, как всегда, — за крайний столик и пьянеть, пьянеть, пьянеть, — от замечательной еды и хорошего пива, — зная, что сегодня не нужно возвращаться домой через Рамаллу.
Сегодня они ночевали у родителей.
Пес сходил с ума — утаскивал и прятал куда-то Зямины туфли, украл и со страшной ненавистью, никого к себе не подпуская, в клочья разодрал новые колготки. Заработав выволочку, лег на пороге с трагическим выражением на физиономии, вероятно означавшим «только через мой труп!».
— Чует, что ты сегодня не вернешься, — сказал муж. — Страшно разбалован. Просто распоряжается тобой, как своей собственностью. Смотри — разлегся, не пускает.
— Бедный Кондраша! — причитала Мелочь. — Остается один на всю ночь!
Зяма присела у двери, пошептала псу, потрепала его за ухо.
— Кондрашук! — сказала она, — Прекрати трагедию ломать. У нас с тобой впереди целая жизнь!
Когда запирали «караван», пес зарыдал пугающе человеческим голосом и стал колотить лапами в дверь.
— Ты знаешь, — сказала Зяма, — мне даже не по себе. Может, попросить Рахельку переночевать у нас?
— Глупости! — воскликнул муж. — Пес остался сторожить дом. Что тут такого? Жратва и вода у него есть, завтра утром мы вернемся. Он недопустимо разбалован, хуже, чем Мелочь!
Наверху уже стояла машина Давида Гутмана. И они стали подниматься в гору. Зяма шла последней, оборачиваясь и расстроенно прислушиваясь к неутихающему собачьему плачу.
— Доктор, — пробормотал Рабинович, наклоняясь, — скоси глаз вправо и глянь, какая обалденная шея восседает за крайним столиком.
Писательница N. услышала Сашкины слова и оглянулась. За столиком, недалеко от двери, ведущей в кухню, сидели трое — немолодой суховатый человек в свитере, словно он мерз в такой теплый вечер, толстяк неопрятного вида с взъерошенной гривой и всклокоченной бородой. Толстяк, наоборот — одет был чуть ли не в майку. Хотя ему не повредила бы приличная рубашка.
Между этими двумя столь разными господами сидела женщина и вправду с очень красивой шеей. Собственно, не в шее было дело, а в той особенной посадке головы, в некоем трепетном повороте, пленительном наклоне, кивке, — то самое виртуозное «чуть-чуть» в искусстве природы… А в остальном — баба как баба. Вполне уже среднего возраста.
Писательнице N. показалось ее лицо знакомым, и минуты три она даже вспоминала — где могла видеть эту женщину, но не вспомнила, а потом отвлеклась.
Они сидели за двумя сдвинутыми столами в той части широченной террасы, где она заворачивала за угол дома, образовывая небольшое уютное пространство. Отсюда вела дверь во внутреннее помещение, из которого доносились громкие голоса официантов, стук посуды и запахи кухни, а чуть поодаль искусно витая железная ограда террасы переходила в перила лестницы, заросшие виноградной лозой. Виноград поднимался над лестницей в виде арки, на полу по обе стороны входа стояли две огромные — почти в человеческий рост — глиняные амфоры, и каждый входящий, таким образом, на мгновение попадал в картину, похожую на те, что намалеваны были в фотографических ателье конца прошлого и начала нынешнего века. (Просуньте голову в это отверстие, и вы превратитесь в русалку, отдыхающую на седых камнях.)
После целых суток изнурительного воздержания — их застолье было дружным, легким, приятным и — как обещано — отменно вкусным. Как будто и впрямь Судный День унес с собой весь морок прошлогодних проблем, обид и тягостей. (Искупительные деньги — горсть шекелей — они раздали нищим в центре города. А сами вступили в жизнь добрую, долгую и мирную.)
— …Пива, конечно! — сказала Зяма. — И только пива.
— Тебе надо было родиться немецким бюргером, — заметил муж, наливая ей пива в бокал. — К тому же ты хотела выпить за здоровье Хаима, а пиво за здоровье не поднимают.
— Очень даже поднимают. Однажды в Тель-Авиве мы с Хаимом накачались пивом, как две свиньи, так что по обратному пути пять раз останавливались в безлюдных местах и разбегались по кустикам. А пили исключительно за здоровье: мое, его и поселения Неве-Эфраим.
Выпили за Хаима — за его жизнь, за его рассудок.
Вокруг сновали юркие, как ящерки, мальчики-официанты, пар от тарелок и сигаретный дым дырявыми облачками скользили вверх и уплотняли сизое облако над головой, сквозь которое едва виднелись камушки звезд.
Народу все прибывало. Люди поднимались снизу по лестнице, на мгновение возникали меж амфорами, под увитой виноградом аркой, оглядывались… К ним уже торопился — как всегда, с виноватой улыбкой приблудного сироты — Авнер, хозяин заведения, старый курдский еврей, человек неистового сердца. Шепотом пересказывали посетители друг другу потрясения его жизни. Авнер отбил невесту у одного из своих внуков. Авнер увел жену у друга, с которым тридцать лет назад открыл и содержал этот ресторан… Авнер закрыл ресторан и уехал на Северный полюс! Да, было и такое… Он действительно навесил замок на двери ресторана и действительно достиг Северного полюса. Говорят, на последние несколько сот километров нанял вертолет. Возможно, километров на двести его и обштопали, но ведь дело не в этом… Все это он совершал с той же виноватой, заискивающей улыбкой приблудного сироты. Где-то здесь на стенке висит фотография: Авнер на Полюсе — в унтах и шубе, виновато улыбается: бедный еврей, вот до чего довела его жизнь…
— А теперь, господа, — сказал Витя, — не грех обмыть первую круглую дату одного безумного предприятия: через три дня исполняется пять лет газете «Полдень».
— Какая газета! — сказала Зяма. — Тебе все приснилось. В твоей жизни был только контрабасист Хитлер.
— Пять лет ежедневного ожидания провала и увольнения, — сказал он.
— А все-таки, мы делаем с тобой неплохую газету, — сказала она. — Ура.
— Ура.
Муж наклонился к ее плечу, состроил озабоченную физиономию многодетного вдовца-портного и жалобно прошептал: «Зяма, ви мине нравитесь, ви мине подходите. Кто у мине остался, кроме ви?»
И она засмеялась. Она почему-то всегда, как в первый раз, смеялась этой шутке.
Шмулик загнал брата в постель и еще раз просмотрел программу телепередач. Ах ты ж!.. Он все перепутал. Немецкая порнуха идет завтра, когда все дома торчат, а сегодня — какой-то пресный боевик. Он читал аннотацию, ерунда на постном масле…
Минут двадцать с пультом в руках он прыгал с одного канала на другой, и везде была скука, такая скука, что хоть вешайся. Не нагрянуть ли к старикам, подумал он. Явиться так в ресторанчик — здрасьте, я ваша тетя, а закажите мне шашлычок…
Мать при посторонних выступать не станет. Он часто пользовался этим приемом: вытягивал из нее все, что ему было нужно, в присутствии гостей например. У нее при этом становилось такое лицо… ужасно смешное!
И чем дольше он думал о шашлычке, тем больше склонялся к мысли поехать в город. Хотелось одеться по-человечески, не в форму. Но денег, как всегда, не было, материна сумка, откуда можно бы вытащить пару шекелей, в данный момент у нее в руках… Ничего не оставалось, как ехать в форме, на солдатский проездной.
По уставу он и винтовку должен был брать с собой. Как она ему осточертела — эти четыре постоянных кило через плечо!.. Он еще пошарил по карманам материнского плаща, залез даже в осеннюю куртку художника, но собрал только сорок агорот. Ничего не поделаешь: придется надевать форму и ехать на свидание с шашлычками в полной амуниции.
— Дуду! Тут какая-то арабка в уборную просится! — крикнул повару из коридора его помощник, Шломи. — Вроде ей плохо. Может, беременная. Пустить?
У Дуду на двух гигантских сковородах жарился «меурав» — куриные печеночки, пупочки, сердца, переброшенные луком и фирменными специями, — его коронное блюдо, ради которого полгорода съезжалось сюда на исходе праздников и суббот. Огромный, вспотевший, в белом фартуке, плотно облегающем поистине поварское брюхо, он щурился, чтобы брызги раскаленного масла не попали в глаза. Какая еще арабка! Тут, гляди, не пережарь!
— Ну пусти! — крикнул он. — Только приглядывай, черт ее знает! — И Шломи молча кивнул девушке, подбородком указывая направление — по коридору и направо. Налево вела дверь на просторную террасу, где уже не было ни одного свободного столика.
Впервые за долгие месяцы известной писательнице N. было по-настоящему хорошо. Впервые она совершенно не думала ни о деньгах, ни о счетах, ни о будущем детей. Отличное сухое вино не дурманило, а действительно согревало сердце. И Сашка шутил так кстати, и собственный ее муж вдруг рассказал две очаровательные, забавные истории из своей юности…
Как меняется ее лицо, думал Доктор, сидящий напротив писательницы N., когда она хоть на минуту высвобождается из-под завала своих тяжелых комплексов. Вот ведь все дано человеку — талант, успех, даже красота — какого черта все обязаны лицезреть этот вечный оскал трагизма?
— Ребятки, дорогие, — пропела Ангел-Рая, — давайте выпьем за то, чтоб мы всегда добивались того, чего хотим!
— А чего мы, кстати, хотим? — осведомился Рабинович.
— Всего! — необычным для себя, нежалующимся тоном сказала Ангел-Рая. — И никак не меньше.
Вся терраса гудела — русский, английский, французский, арабский, иврит, — и никто не мешал друг другу здесь принято было разговаривать в полный голос и громко хохотать. Есть моменты, подумала известная писательница N., когда эти левантийские нравы совершенно не раздражают…
Через мгновение ее эйфория оборвалась: отпив из бокала и поставив его на стол, она подняла голову и в арке, увитой виноградом, увидела своего старшего сына, с голодным азартом озирающего столы. Она задохнулась от ярости: этот болван опять за каким-то щеголеватым чертом примкнул к винтовке магазин с патронами!
А еще через секунду за ее спиной завизжали, заголосили женщины. И раздался выстрел.
— Доброе утро. Радиостанция «Русский голос» ведет свои передачи из шестой Иерусалимской студии. Прослушайте обзор последних событий, который подготовил для вас Вергилий Бар-Иона.
— Здравствуйте! Нидаром паэт очень метко выразился аднажды: «Настанит час крававый, и я паду!» Крававый час настал вчера в известном иерусалимском ресторане для репатриантки из Рассии, каторую случайным выстрелом убил салдат срочнай службы, также русский репатриант. Ракавая ашибка праизашла в тот мамент, кагда жительница арабскай диревни Бани-Наим, что на севера-вастоке от Хеврона, бросилась с нажом на упамянутую жертву, как точно заметил классик — «Пад гнетам страсти ракавой».
Нет сил, нет сил его слушать. Скорее, выключите радиоприемник и больше не включайте его никогда. Вот я расскажу, как все оно было.
В уборной ее и вправду вырвало — от страха. Она постояла, держась за стену, отдышалась. Домой возвращаться было нельзя. Она закатала платье, вынула из-за пояса нож и выглянула наружу. Коридор был пуст. Где-то на другом его конце, в кухне, в чаду суетились и перекрикивались официанты и повара. Каждую минуту кто-то мог оттуда появиться.
В проем ведущей на террасу двери она увидела за ближайшим столом женщину в открытом платье, которая сидела к ней спиной и смеялась тому, что шептал ей на ухо сухощавый человек, похожий на доктора, хирурга, что нынешней весной вырезал отцу грыжу. Но тот был в белом халате, а этот — в сером свитере. И он так приблизил лицо к плечу своей женщины, — а то, что она была его женщиной, не вызывало сомнений, — как будто встретился с ней после долгой разлуки.
И та смеялась и наклоняла шею так послушно, так удобно, словно просила об ударе…
Девушка сжала оцепенелыми пальцами рукоять ножа, выскочила на террасу, судорожно вскинула руку и — не выдержав напряжения — вдруг сама завизжала, заверещала, будто не она должна была всадить нож в другого, а ее резали.
Все повскакали с мест, поднялся ужасный гвалт.
Зяма обернулась и увидела за спиной визжащую, как от боли, арабку с ножом. И этот всеобщий, ни во что не выливающийся, нестерпимый окаменелый визг, длящийся бесконечно крик ненависти, простертой над этой террасой, этим городом, этой землей, невозможно было вынести более ни мгновения. Одновременно в свалке на выходе боковым зрением Зяма увидела длинного «джобника», вскинувшего винтовку. Тогда она вскочила, опрокинув стул, и сильным аккордом на fortissimo «от плеча» швырнула девушку на пол.
Шмулик выстрелил.
Он выстрелил наконец.
Все-таки он был лучшим ночным стрелком в роте…
Ибтисам Шахада, жительница арабской, как верно замечено, деревни близ Хеврона, лежала на полу, судорожно и бессмысленно обнимая упавшую на нее женщину. Арабка была залита кровью — и это спасло ее от немедленной расправы: обезумевшие люди думали, что она ранена. Кровь сильными горячими толчками все лилась и лилась на нее, ей не было конца, можно было захлебнуться этой кровью…
Во всеобщей свалке истерично плачущих женщин и беспорядочно суетящихся мужчин неподвижными оставались двое: муж погибшей и известная писательница N.
Этот немолодой человек повидал на своем веку достаточно колотых, резаных и пулевых ранений. Старый хирург, он — по бурному извержению крови — понял мгновенно, что минуту назад, на этой террасе, потеряла всякий смысл его дальнейшая жизнь.
А писательница N. почти завороженно глядела на лежащую в трех шагах от нее, убитую Шмуликом, героиню своего романа. Того романа, дописать который у нее уже не достанет ни жизни, ни сил.
Через минуту приехали машины полиции и «амбуланса», и девушка по имени Ибтисам Шахада была спасена навсегда.
Братья не убьют ее.
Велик Аллах, они ее не убьют.
…А та, другая, медленно входила в родниковые воды Иерусалима, опускалась все глубже, раздвигая толщу их лодыжками, коленями, животом и грудью. Наконец погрузилась с головой и, раскинув руки, поплыла на спине к лестнице, где между глиняными амфорами уже встречал ее под виноградной лозой живой и радостный дед. Он был почему-то бос, но чисто выбрит, и красиво улыбался своей новенькой вставной челюстью.
— «Отряхнись от праха, встань, воссядь Ершолойм, — проговорил дед тоном, каким обычно произносил тосты на семейных торжествах. — Развяжи узы на шее твоей, пленная дочь Сиона!»
«Теперь и я — Ершолойм», — поняла она, погружаясь все глубже в эти восходящие пузырьками со дна грозно-веселые воды, жадно глотая их, заполняя ими легкие. И когда они проникли в каждую пору ее души, она вдруг все поняла.
— Деда, — спросила она изумленно и счастливо, — Деда, ты — Машиах?
— Ну Машиах! — сказал он. — Ай, мамэлэ, встань, не валяйся, я так рад тебя видеть!
…И она поплыла над старыми ржавыми холмами Самарии, в молодом родниковом небе, между желтыми отмелями облаков. Чтобы через мгновение вынырнуть, очнуться и воочию узреть, как изо всех сил пляшет перед Господом Машиах, — опоясанный льняным эйфодом, красивый человек из дома Давида…
Мне нравится эта женщина… Как любил повторять ее муж: «Зяма, вы мне нравитесь!»… И когда я приду, когда явлюсь, наконец, к дому мятежному, — коленам непокорным, — я, как обещано, подниму ее из мертвых, — эту женщину с лебединой шеей, эту женщину, которая боялась темноты и пули, но не устрашилась лица своего народа.
Так скажем же словами искупительного обряда:
«Сыны человеческие, обитающие во мраке и в тени смерти, закованные в страдание и железо… утратившие разум в греховности своей, страдающие из-за беззаконий своих, — любую пищу отвергает душа их, и приходят они к вратам смерти…
И если есть у человека ангел-заступник, хотя бы один на тысячу, то пусть молвит слово в его оправдание, и скажет: „Сжалься над ним, ибо вот за него выкуп“.
Это замена моя, это подмена моя, это искупление мое».
Подмена и искупление мое.
Искупление мое.
Искупление.
1995–1996. Иерусалим
РАССКАЗЫ
Наш китайский бизнес
«Хотел бы уйти я
В небесный дым,
Измученный Человек.»
Ли Бо
Беда была в том, что китайцы и слышать не хотели о китайцах. Наверное, потому, что были евреями.
Яков Моисеевич Шенцер так и сказал: нет-нет, господа, вы китайцами не увлекайтесь! Речь идет о еврейском Харбине, о еврейском Шанхае…
Словом, беседуя с ними, было от чего спятить.
Когда мы вышли, Витя сказал:
— Ты обратила внимание на их русский? Учти, что многие из них никогда не бывали в России!
— Полагаю, все мы нуждаемся в приеме успокоительного, — отозвалась я.
— Я менее оптимистичен, — сказал Витя. — И считаю, что всех нас давно пора вязать по рукам и ногам.