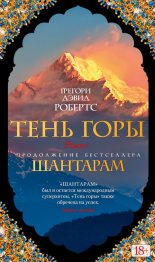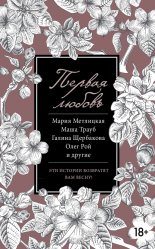Наш китайский бизнес (сборник) Рубина Дина

— Ты почему в школу не идешь? — спросил отец умеренно грозно.
Тамар не отвечала. Она смотрела в телевизор, но не видела ничего. Вчера на тусовке учениц седьмых классов школы среди прочих жгучих тем обсуждалось явление поллюций у мужчин. На дворовом иврите это называлось «шпих». Поэтому со вчерашнего дня, игнорируя все остальные заботы, Тамар обдумывала всю многозначность, весь глубинный смысл ослепившей ее новости, без конца повторяя про себя это фонтанное, салютное, тугой струей стреляющее слово — «шпих»! «шпих»! «шпих», черт побери!!!
Рабинович вспомнил любимое присловье Людмилы Прокофьевны, хозяйки дачи, которую они десятилетиями снимали в Барвихе: «А касаемо детей — так это как себя поставишь…»
Поставишь, вздохнул Рабинович. Ты себя ставишь, ставишь, а они тебя роняют…
И он зашел в кухню. Сегодня надо было еще замариновать в белом вине мясо для шашлыков и куриные крылышки.
* * *
В белых шортах и белой майке, в плетеных сандалиях на босу ногу, загорелый и веселый, Доктор через кухню вышел на террасу и, увидев писательницу N., торжественным тоном произнес:
— «Гости съезжались на дачу…» Вот магия великих фраз! — продолжал он. — А почему, собственно, великих? Что, собственно, такого значительного заключено в этих трех словах? Ничего. Гости. Съезжались. И куда — не в палаццо какой-нибудь, не в замок, наконец, не в поместье графини Потоцкой, а на дачу, эка невидаль! «Все смешалось в доме Облонских». Да просто мы эти фразы десятилетиями повторяем, а до нас их десятилетиями повторяли наши мамы и бабушки. Притерлось. Отполировалось, как старые штаны на заднице, сверкает и отбрасывает в подсознание солнечные зайчики… Повторяйте все за мной двадцать раз кряду: «А пойду-ка, сдам бутылки»… Что? Прислушайтесь — не потяжелела ли эта фраза, не пропиталась ли, как ломоть белого хлеба — в соевом соусе, подливкой дополнительного смысла? А теперь попробуем повторять ее каждое утро, продрав глаза: «А пойду-ка, сдам бутылки!»
— Да ведь их здесь не принимают, — заметила писательница N., не отводя взгляда от восходящей к Иерусалиму застывшей гряды холмов.
В пятом часу дня, ранней осенью, здесь все пропитано медовым, золотым светом и зрелой синью. Но когда ветер нагоняет облака, когда они несутся в сторону Средиземного моря, переваливаясь через Масличную гору, все это волнистое море беспокоится, гонит волну за волной к подножию великой горы — прибой вечности застылой.
Интересно, подумала она, что бы отдал Александр Сергеевич Пушкин за немногие минуты созерцания этой картины, которую ежедневно мы видим перед собой шестой уже год?
(Опыт с распространением «Группенкайфа» не принес ей ничего, кроме нескольких хамских звонков: «Машя! Ну, и что вы мне гарантируете, что?! Речь идет об отмывке бабок, так? Я должен подставить свой счет, так?» — и еще два-три звонка в этом роде.
Так тебе и надо. Не суетись, неси гордо. Машя, понимаешь… Если хоть пятая часть этой Великой алии произносит шипящие таким вот образом, бедных аборигенов, с их испуганной неприязнью к «русским», можно понять. Жили тут, не тужили, воевали себе спокойненько, нарабатывали героическую историю страны. Тут вваливаются эти. С шипящими…)
— Как поживает солдат? — спросил Доктор, усаживаясь в соседнее кресло, а ноги пристраивая на круглый пластиковый табурет. — Вижу его каждое утро на остановке. Рожа довольная.
— Спасибо, Доктор. Ты мой спаситель… Солдат раздает противогазы населению… А вот скажи-ка, если человек каждое утро вытаскивает из материного кошелька пять шекелей, несмотря на скандалы, уговоры и прочувственные беседы с объятиями, это что — клептомания?
— Нет. Это молодость и отсутствие денег. Попробуй выдавать ему каждое утро по десятке.
— Хороший совет, — сказала она, — если б не старость и отсутствие денег. Ты, Доктор, великий психотерапевт. Как продвигается научная работа — все уже заполнили твою гениальную анкету «Как разнообразить способы ухода из жизни»?
Доктор рассмеялся, показывая, что оценил, оценил юмор. Вот так — делай людям добро, подумал он, чтобы потом эта злющая, снедаемая комплексами баба изобразила тебя идиотом в каком-нибудь своем трехгрошовом памфлете.
Вышел Сашка, стал устанавливать в стороне мангал на железных ножках.
— А ну-ка, за работу, сачки! — пригласил он. — Вот вам шампуры, вот мясо, вот стальные руки-крылья. Навалитесь дружно. Перемежайте луком, вот так, — он показал, как следует нанизывать мясо на шампур.
— Кстати! — он подмигнул писательнице N. — Поцелуй дядю-благодетеля. Грядут, грядут перемены! Старика Штыкерголда — на пенсию, учительницу музыки — к «Полонезу» Огинского… Готовь визитку:
«Редактор литературного еженедельника…». Название поменяем, а? Что это за вялый, ни к чему не зовущий «Полдень»?
Трепач, устало подумала писательница N., но как обаятелен…
— К слову о русской прессе, — вклинился Доктор, продевая голову в фартук жены Рабиновича и завязывая сзади веревочки бантиком, — моя студентка-дочь покупает еженедельно только две газеты: этот самый «Полдень», невинных сотрудников которого вы хотите удушить колготками, и — стыдно сказать — помойную «Интригу». Что в ней привлекает мою рафинированную девочку — никогда не понимал. Сегодняшняя бессонница на многое открыла мне глаза. Я полистал оба эти издания. Моя дочь, покупая и читая «Полдень» и пролистывая поганую «Интригу», как бы охватывает весь корпус прессы русского Израиля. В «Полдне» — прекрасное эссе Бориса Хазанова, подборка стихов Валентина Ромельта, а главное — неожиданный, новый перевод «Экклезиаста», где в каждой строке — неведомый ранее смысл. Перевод Себастьяна Закса. Такая точность, столько поэзии, столько вселенской боли! Я дважды перечитал… Сделаю ксерокопии и пошлю в Россию друзьям-филологам. Все мы, оказывается, раньше пережевывали сухое сено…
А вот в «Интриге» — умопомрачительный эротический роман Князя Серебряного. За один псевдоним надо расстрелять. Это какой-то шедевр гнусной тошниловки: белые груди соседствуют с загорелыми ягодицами, так что непонятно — в каком виде персонаж принимал эти странные солнечные ванны, там и тут со всех заборов свешиваются гроздьями огромные члены. О диалоги спотыкаешься, как о труп замерзшего в подъезде алкоголика… И все это сдобрено воняющей, как цветочный одеколон с хлоркой, рыночной лирикой…
— Вкусно рассказываешь, Доктор, — заметил Рабинович. — Дай почитать.
— И я задумался, как психиатр: если в один и тот же день на страницах русской прессы появляются утонченный Себастьян Закс и абсолютно хулиганский Князь Серебряный, — это говорит о широчайшем разбросе предпочтений русской общины…
— Ну и что? — спросил Рабинович.
— А то, — ответил Доктор назидательно, — что никаких семи мандатов вы не получите. Ваш русский электорат просеется сквозь пятнадцать партий и уйдет в песок.
— Объединимся, — пообещал Сашка, — вот увидишь. Нет ничего страшнее русского бунта.
— Ты пропустил слово, — сказал Доктор, — «и бессмысленнее»…
— А говорил — не будет пьянки! — послышалось сверху, с балкона Таньки Голой. Она стояла в теплом банном халате, и все вздохнули с облегчением. Но, заметив мангал, она вдруг восторженно вскрикнула, всплеснула руками, халат распахнулся.
Под ним ничего не оказалось. Вернее, все то же: полные, редкостной упругости на вид груди с пьяными вишнями сосков, великолепный втянутый живот, ну и далее по маршруту со всеми остановками.
— Шашлык!!! — заорала она. — Я обожаю шашлык!
— Ну, спускайся, Танюсь, — ласково проговорил Доктор, совсем еще нестарый мужчина, внимательно нанизывая на острие шампура кусочки мяса. — Только оденься потеплее. К вечеру ведь похолодает, — и, не давая ей произнести коронную фразу о дышащем теле, спросил приветливо: — У тебя есть такие шорты, как у меня?
— Фи, конечно, есть! — Она просунула тонкое голое колено сквозь прутья решетки.
— А маечка?
— Ну.
— Так надень их и приходи! — простодушным тоном предложил он.
Когда повизгивающая от восторга Танька Голая исчезла с балкона, писательница N. сказала уважительно:
— Доктор, ты велик.
— Погоди еще, — отозвался он. — Она майку наденет, а про шорты забудет.
— Вот ответь мне как профессионал — это патология?
— Нет, — сказал он. — Это куриные мозги.
Сашка сновал между кухней и террасой, озабоченно что-то подсчитывая, перетаскивая бутылки, тарелки с зеленью, рюмки.
Стал разжигать мангал.
— Рабинович, можно мы с прозаиком выпьем сухого?
— Господи, да я думал, вы давно пьете!
— Мы ж на тебя работали, сука! — ласково заметил Доктор, разливая вино. — Прозаик, вот скажи, чем моя великая фраза хуже их великих? А? «А пой-ду-ка, сдам бутылки…», «А пойду-ка, сдам бутылки!»
— «…я в соседний гастроном», — закончила она.
Доктор прижал бутылку к груди:
— Мэтр!
— Мэтр шестьдесят пять, положим, — поправила она его. Вино ей нравилось. На нее вообще всегда хорошо действовало спиртное, она становилась добрее, снисходительней. Плоско шутила, что всегда нравилось окружающим.
— А где же ваши русские миллионеры? Где Сева? Он не повесился в пятый раз?
— Сева будет обязательно! — воскликнул Рабинович, отрываясь от мангала, над которым ожесточенно махал картонкой. — Он приведет двух миллионеров. Вернее, миллионера с братом.
— А брат — что же, не миллионер? — строго поинтересовался Доктор, наливая себе и писательнице N. еще сухого.
— Он бывший пиротехник. В цирке работал.
— Достойная компания, — одобрил Доктор. — Кстати, циркачи — люди отменного душевного здоровья.
Наконец первая порция шашлыков была любовно уложена рядком на мангале.
Солнце ушло, небо над Масличной горой еще теплилось яблочным светом, но фонари внизу на шоссе уже наливались топленым молоком.
По соседнему холму, где утром паслось стадо коз, бродил в светлых сумерках пастушок-бедуин. Наверное, коза заблудилась, подумал Рабинович, вот и ищет.
Две большие птицы — одна повыше, другая пониже, — попеременно меняясь местами, совершали плавные и слаженные полукружья над ленточкой шоссе и были похожи на руки дирижера в «Adagio». На трепетные кисти рук, парящие в сумраке зала над оркестровой ямой…
На душе у него было спокойно и элегично. Он любил всех своих друзей, всех, кого собрал сегодня. Он и террасу за это любил. Как удачно, что он не пожалел тогда денег на ее строительство…
Завтра Судный День, подумал Сашка, это хорошо, что я завершаю год, окруженный друзьями, хорошо, что они сидят за моим столом и едят мой хлеб и пьют мое вино. Это — хорошая примета.
Постепенно гости съезжались-таки на дачу. Явились Ангел-Рая с Фимой. Она купила недавно облегающее фигуру платье из натурального черного шелка, поэтому волосы пришлось перекрасить под вамп-брюнетку. Ожерелье из тончайших пластинок черного агата и такой же браслет придавали ее коже — по контрасту — цвет прозрачного светлого меда. Ангельская улыбка, озарявшая ее лицо, как всегда, была обращена ко всем сразу. Она была прекрасна.
Ее появление напоминало возвращение домой мамы к своим изголодавшимся и истосковавшимся деткам. Она принесла: для мужа писательницы N., который вел детскую изостудию в ДЦРД, — специальную лампу для нужного освещения. Она купила ее на свои деньги.
Для Сашки Рабиновича — адрес одного немецкого фонда содействия развитию культуры, который всеми стипендиатами всегда был тщательно скрываем. Один из счастливых обладателей стипендии не устоял перед сиянием Ангел-Раи и раскололся. Вот эту-то драгоценную бумажку с адресом она и принесла в клювике.
Доктору она припасла пятьдесят полноценно заполненных анкет, которые распространяла среди читателей Библиотеки — те не могли ей отказать, хотя, конечно, взглянув на первый же вопрос, шарахались от анкеты, как черт от ладана.
Для жены Доктора она добыла древнеримский рецепт питательной маски, укрепляющей корни волос. По слухам, ею пользовалась сама Клеопатра.
Словом — каждому она принесла что-то совершенно ему необходимое. Ну не Ангел ли, не Ангел ли небесный, радость дарующий?!
Поспели шашлыки.
Первой выхватила сразу четыре палочки Танька Голая, на удивление и вправду нацепившая шорты и какую-то, хоть и неприличную, хоть и пузо наружу, но все-таки майку. Ай, молодец Доктор!
Набросились на шашлыки. Сашка, бедный, трудился, как на конвейере. То раскладывал сырые, то снимал поспевшие. Господи, приговаривал он, когда вы нажретесь-то! Налейте мне водки, гады, у меня ж руки заняты! Пили сухое, и «Голду», и еще какую-то шведскую водку, которую случайно нащупал Сашка в паршивом минимаркете, тут, у Яффы.
Настроение у всех было отличное.
Расслабились, Сашка выпил и стал рассказывать свои любимые истории про Уссурийск, где три года работал главным художником местного драмтеатра.
— …И вот власти решили поставить памятник неизвестному солдату… Приехал скульптор из Киева, страшный забулдыга. Неделю пил в гостинице без просыпу, слушал песни из динамика, плакал и приговаривал: «Эх, Ротару, Ротару, не видать мне твоей… как своих ушей…» Ну, наконец памятник открыли. Торжественное открытие, народ согнали, все, как положено. Сидит солдат в позе «Мыслителя», только в руке каску держит. И вроде задумчиво так, в эту каску смотрит… Ну, хорошо… А на другое утро лично я иду в свой театр мимо памятника и вижу, как говорится, беспорядок в одежде неизвестного солдата. И не столько в одежде… Голова у него, братцы, отвалилась и аккурат в каску упала. Сидит солдат и свою задумчивую голову держит…
Пошли истории за историями.
Доктор рассказал несколько своих коронных из серии «А вот у меня был пациент!». В частности, об одном предпринимателе из Карачаевска. Тот приехал туристом, увидел, что Иерусалим обклеен воззваниями «Готовьтесь к пришествию Мессии!», и придумал выпускать майки с надписью: «Ну, нате, я пришел!» Взял гражданство, вернулся на родину и создал совместную карачаевско-иерусалимскую хевру. Симпатичные такие маечки, чистый хлопок. Морда осла на груди и вокруг нее надпись. Ну, нате, мол, вот он я… Прилично, доложу я вам, мужик заработал. Что вы думаете? Во второй деловой приезд его долбанул иерусалимский синдром, прямо в Старом городе, на Виа Долороза… Дело ведь известное — у нас таких случаев до шестидесяти в год, палаты переполнены. Бился головой о тротуар, пена на губах, кричал — я пришел, мол, я пришел, нате… Сам в этой же маечке… малопривлекательное зрелище. Ну, прямиком в палату, да-с…
По поводу «палаты», а также всяческих синдромов, Ангел-Рая поведала о недавней лекции, которую в Духовном центре читал Левушка Бронштейн. Удивительно, но она и название вспомнила: «Фаталистический мазохизм культур-эссеизма». А тут надо сказать, что неизменно на все мероприятия Духовного центра, на все лекции, встречи, концерты, кружки и прочая ходит один старичок олигофрен. Ну, ходит, и ладно, главное, чтоб всем хорошо было, правда? Садится в первый ряд и умильно слушает, жуя печеньку — кажется, что за дряблой щечкой мышка бегает… Ну, Левушка явился, разложил свои бумаги, а у него только один-то слушатель и сидит. И внимательно два часа слушал лекцию, время от времени забрасывая за пергаментную щечку сухую печеньку.
Ангел-Рая спросила потом — мол, ну что, Левушка, правда, здорово было? Тот поморщился и сказал, что никогда не был высокого мнения о русской общине.
Тут все взревели от восторга, потому что разом вспомнили о «серных козах» Левы Бронштейна, — эту байку целую неделю с удовольствием пересказывал всему русскому Иерусалиму Мишка Цукес. Услышав о серных козах, Сашка вдруг как-то погрустнел, зашел в дом и вышел с Торой в руках.
— А знаете ли вы, легкомысленные друзья мои, что именно сюда, вот сюда, да, где мы с вами сидим и пошло балагурим, Первосвященник иудейский в Иом Кипур отсылал с нарочным козла отпущения?
— Все мы до известной степени козлы, Рабинович! — подал голос Доктор.
— Цыц! — серьезно сказал уже выпивший, но все еще разумный и внятный Сашка. — Иом Кипур завтра. Слушайте все! Читаю из книги «Левит». Тиха!.. — Он вынул закладку, раскрыл том и прочел торжественно: — «Козел же, на которого выпал жребий, — к Азазелу, пусть предстанет живым перед Господом, чтобы совершить через него искупление, для отправки его к Азазелу в пустыню…»
— Ну хватит, Рабинович, ты что — рехнулся? Учили уже все это…
— Ти-ха! — крикнул Сашка. — Слушайте, жестоковыйные: «…и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и признается над ним во всех беззакониях сынов Израилевых и во всех преступлениях их, во всех грехах их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным в пустыню. И понесет козел на себе все беззакония их в страну необитаемую…» Так это он сюда, сюда отсылался! Понимаете?!
— Налейте ему содовой, — заметил Фима, муж Ангел-Раи, — а то он заплачет.
— Вы ничего не понимаете, — сказал Рабинович. — Ни-че-го!
Ангел-Рая подошла к нему, обняла, стала что-то тихо говорить, поглаживая по руке. И Сашка очухался. В конце концов, Судный День начинался лишь завтра вечером. А сегодня предстоял еще важный разговор. Обсуждение деталей проведения предвыборной кампании.
Собственно, обсудить нужно было лишь одну деталь: как вытащить из миллионера деньги.
…В десятом часу Сева привез наконец русского миллионера с братом-пиротехником.
И все с этой минуты заколесило по такому странному, нереальному, да и, скажем прямо, — малопристойному переулку, что и не знаю даже — стоит ли рассказывать? Не вспомнить ли в эту минуту один из еврейских запретов — «лашон-а-ра», запрет на злословие, который, впрочем, никогда и никого из смертных не удерживал в особо судьбоносные моменты?
Боюсь, не удержит и меня.
Начнем с того, что миллионер с братом оказались близнецами.
Годам к сорока-пятидесяти, с обзаведением индивидуальных семей, детей и тещ, с наращиванием жирка собственной биографии, близнецы, как правило, приобретают каждый собственное усталое лицо. В зрелом возрасте их, конечно, уже не спутаешь.
Эти же — миллионер и пиротехник — как двойняшки-первоклашки, как два новеньких шекеля, как… ну, словом, как две капли из пипетки были похожи друг на друга. Хуже того: они были абсолютно и до мелочей одинаково одеты, что уже просто неприлично. Доктор заметил даже (и после вспоминал!), что на левой руке у каждого сидели недешевые часы швейцарской фирмы.
Одного звали Мирон, другого — Тихон. Сева сказал — знакомьтесь: Тиша и Мироша. Писательница N. подумала при этом: при таких деньжищах, конечно, об имени заботиться уже не нужно. Любопытно, подумала она, может ли мультимиллиардер представиться в обществе Жопой, защитят ли его мультимиллиарды от улыбок окружающих? И еще она подумала — а интересно, если б с его счета тихо сползли пару тысчонок долларов на творческие нужды некоей писательницы — заметил бы он этот невесомый убыток?..
Всем сразу налили, стали представляться: само собой, начали аb оvо: Рая, Раечка, Раюся, красавица наша (о, видим, видим! Позвольте ручку! — дважды), наш Ангел, Серафим шестикрылый, руководитель многих и многих международных культурных проектов, директор Иерусалимской Русской Библиотеки, член правления многих фондов и комиссий по присуждению и…
Сева запутался, всех титулов не назвал, ему подсказывали, потом сбились.
— Мой муж, Васенька, — представила Ангел-Рая мужа. Фиме пожали руку. Дважды.
— А это наша знаменитость, известная писательница N.! Вы там, конечно, читаете ее произведения в ваших толстых журналах?
— Да, да, конечно, читаем, читаем! (Ни хрена не читаете, братцы, кроме биржевых сводок, вам не до чтения.) Поцеловали ручку. Дважды.
И так далее, — Тиша и Мироша жали, целовали, жали — все двоекратно. Пока не дошли до Таньки Голой.
Тут обнаружилось…
На приезжих, то есть на нездешних, аура Танькиной младенческой неприкосновенности не распространялась. Они приняли ее за бабу, роскошную бабу, которая, одеваясь подобным образом, очень даже намекает…
Обнаружилось-то это не сразу. Поначалу к Танькиной ручке дважды церемонно приложились и отошли. Но двух пар глаз с Танькиных ног, голого живота и во все стороны выпирающих из майки грудей уже не сводили.
Подоспели для гостей горячие шашлыки. Гости вгрызлись. И Тиша и Мироша уминали палочку за палочкой и нахваливали мясо. Сашкина жена Роксана с писательницей N. отправились на кухню дорезать салаты, которые таяли на глазах. Сева принес из своего «понтиака» дюжину неслабых бутылок и кучу тяжеленьких упаковок с разного вида копченостями — к пиву.
— Я ж у него сегодня танкер купил, мать еття, — пожаловался на кухне Сева, — на хрена мне танкер? Все равно все сдохнем!
— А где танкер-то? — спросила Сашкина жена Роксана, вываливая в миску резаную морковь. — В Яффском порту?
— Какой там! — застонал Сева. — На Курилах, мать еття! Остров Хоккайдо! Плавучий завод по переработке рыбы, с двумя тыщами рабочих. Ну! Как тут не повеситься?
И дамы с ним согласились. Опрометчиво согласились.
Вскоре выяснилось, что отменная жратва — это далеко не все подарки, припасенные гостями. Но прошло не менее получаса, и пропущено было не менее четырех рюмок, так что потяжелели, потяжелели сальные взгляды двух пар одинаковых глаз, щупающих издали гитарный зад Таньки Голой, впихнутый в потрепанные белые шорты.
Вот тут-то и обнаружилось некоторое отличие миллионера Мирона от пиротехника Тихона. Воистину одинаковых людей в природе не бывает: миллионер от выпитого мрачнел и старился, а пиротехник — веселел и молодел. И вскоре повеселел и помолодел настолько, что решил: пришло время для сюрпризов.
Первый взрыв раздался на крыше Сашкиного коттеджа. Рвануло синим, зеленым и золотым, что-то пронеслось над головами, крутясь в воздухе и сея красно-желтый огонь, и рухнуло в овраг, где рвануло еще раз, сильнее.
Женщины страшно закричали.
Тут надо кое-что пояснить.
Боюсь, я слишком часто употребляю эту вышеупотребленную фразу. Но пояснять действительно приходится.
Особенности нашего непростого региона в том, что взорваться, именно — взлететь на воздух и приземлиться уже в неукомплектованном виде — у нас можно когда и где угодно: на автобусной остановке, с которой ты мирно каждое утро едешь на работу, на рынке, в тот момент, когда ты вертишь перед носом пучок петрушки, на пляже, где собственная трехлетняя дочка зарывает тебя в горячий песочек, в своей машине, от которой ты на минутку отошел — купить сигареты.
Вот поэтому-то здесь и написано не «дамы завизжали», а «женщины страшно закричали». Потому что рвануло по-настоящему, и золотая смерть пронеслась над головами, посыпая террасу фиолетовыми брызгами.
И прошло еще минуты две, пока все не осознали, что это веселый пиротехник Тихон, близнец миллионера, незаметно исчезнув с террасы и достав из машины заготовленные им сюрпризы, со двора швырнул первую шутиху на крышу дома. Ура!
Перепуганный Доктор (он уже успел сбегать домой за сердечным для своей, чуть не умершей от потрясения, жены) отозвал Рабиновича в сторонку и тихо спросил — нельзя ли этого козла отослать с нарочным в пустыню? Встревоженный Рабинович, который на тот момент еще помнил о завтрашнем Судном Дне, расстроенно ответил, что все вообще идет не по плану: миллионер не мычит и не телится, и мрачнеет, и Таньку пожирает совиным глазом, а пиротехник, наоборот — вошел, сука, в азарт, и тоже из-за Таньки.
Он еще взорвет весь город к чертовой матери. Сука.
Отозвали посоветоваться Ангел-Раю, которая при миллионере находилась неотлучно, как сестра милосердия, а точнее сказать — как акушерка, принимающая роды. Тяжело шли роды. Миллионер полулежал в кресле и шумно отдувался. Уже и схватки кончились, а деньги все не показывались. Ангел-Рая опасалась даже — не придется ли щипцами тащить. Или, не приведи Бог, кесарить.
Когда Рабинович с Доктором отозвали ее и спросили — не отключить ли козла-пиротехника, она сказала кротко:
— Еще не время. Отключите Таньку. Уведите ее, уложите в постель, расскажите сказку. И заприте… Я не могу так работать, он все время на нее смотрит и отвлекается. — Потом лицо ее озарила нежнейшая улыбка, и она сказала: — А здорово рвануло, правда, мальчики?
Но Танька покинуть общество не захотела, уперлась, как упирается в зоопарке ребенок, не желающий уходить от клетки со львом. Она, как Буратино, единственная пришла в восторг от «чудненького салюта» и просила еще и еще. Пиротехник Тихон уже положил ей руку на плечо, норовя ощупать — что там еще имеется пониже.
Но тут и миллионер тяжело поднялся из кресла и, слишком уверенно ступая, подошел к Таньке. Оба близнеца — мрачный миллионер и веселенький пиротехник — с двух сторон горячо принялись убеждать в чем-то Таньку Голую, которая хохотала и просила «еще салютику!». Оба уже придерживали ее за задницу один за правую, другой за левую половинки. Она — святая душа! ребенок! — этого просто не замечала.
— Будем бить! — решил Рабинович, наблюдая издали эту картину. — X… с ними, с миллионами!
— Ну погоди, — останавливал его Доктор. — Ну помацают эту дуру за задницу. От нее не убудет. А гостеприимство?
— А воспитание? — горько спросил Рабинович. — Вот я знал, знал, что хорошего не жди. Судный День, старик! Это тебе не День Благодарения…
Опять со свистом взвилось в воздух мохнатое, дьявольски вертящееся, распускающее павлиний огненный хвост, рухнуло в овраг, громыхнуло сине-зеленым. По террасе стлался кипящий туман, как на концертах Аллы Пугачевой.
Пиротехник хохотал и время от времени делал сальто-мортале, всякий раз останавливаясь у края террасы. Танька Голая верещала от восторга. Сквозь клубы театрально-циркового тумана Рабинович различил, как миллионер что-то надел Таньке на пальчик — может, бриллиант. Вот мерзавец!
К весьма озабоченным Доктору и Рабиновичу пробралась писательница N. Она раскраснелась от выпитого, странный блеск азартного удовольствия в глазах очень украшал ее, обычно мрачное, лицо.
— Сейчас полиция приедет, — сказала она. — Мы хоть и на отшибе, но весь город перебудили.
Доктор посмотрел на нее и подумал с тоской: «Все опишет, стерва!» — а вслух бодро сказал:
— Ну, что ж, полиция, мигалка — синий свет. Старые евреи могут греть с балконов свой геморрой…
Сева между тем ввинтился в самую настоящую депрессию. Он ходил от одного к другому и жаловался на совершенно невозможную жизнь, на невозможность продолжать эту собачью жизнь.
— На хрена мне танкер, мать еття? — допытывался он. — Все равно все сдохнем!
С ним все соглашались.
Вообще-то многим из присутствующих перестала нравиться ситуация на террасе. Кое-кто из гостей покинул общество, не желая давать показания полиции. А в том, что аборигены, уж конечно, полицию вызвали, никто не сомневался.
Шел первый час ночи. Неуемный близнец-пиротехник одну за другой подбрасывал высоко в воздух какие-то, похожие на ручную гранату, предметы, они рассыпались в небе сине-красными брызгами, чем-то напоминая цветы на полотнах пуантилистов, а потом черной бомбой валились в овраг, где страшно рвались. Клубы дыма поднимались со дна оврага, причудливо свиваясь в неприличные фигуры. Когда над головой художника, мужа писательницы N., проплыли фигуры двух собак в недвусмысленных позах, он отметил, что искусство пиротехники со времен его детства достигло значительных успехов.
В пьяной эйфории пиротехник Тиша выкрикивал Таньке в лицо ошметки каких-то цирковых реприз, тянул ее к себе и объяснял, как им будет хорошо, если она «составит компанию». Близнец-миллионер хватал ее за руки, мрачно что-то бормоча, очевидно тоже про компанию. Несколько раз он лягнул ногой брата-пиротехника.
— Сейчас подерутся, — сказал Фима, — смотри, а ведь близнецы обычно дружат.
Какое там дружат! Они уже набычились оба, и каждый тащил Таньку к себе.
Следовало что-то предпринять. Женщины уже сбежали с террасы. И только Ангел-Рая повела себя странно. Она отошла к дальнему краю террасы, повернулась к обществу спиной, лицом же обратилась к Иерусалиму и застыла, замерла. Сзади можно было принять ее за отрешенно молящуюся. Всем видом она показывала, что не желает иметь ко всей этой мерзости никакого отношения.
Загремел битой посудой опрокинутый пиротехником пластиковый стол.
— Все! — отрезал Рабинович, отодвигая стул с дороги. — В моем доме! Я их миллионы воткну им сейчас…
Но ничего уже не надо было никуда втыкать — близнецы ринулись мутузить друг друга, как голубчики. Причем сразу выяснилось, что один сейчас убьет другого, так как дерется не в пример лучше брата. Пиротехник дрался — как на скрипке играл: виртуозно и вдохновенно. Миллионер в основном пинал его ногами, но уже два раза упал, и ясно было, что в третий раз не поднимется.
Летали стулья, два вообще улетели в овраг, близнец-пиротехник подтаскивал за шиворот близнеца-миллионера к низкому бортику террасы и спрашивал: «Хошь туда? Хошь туда, пидор?»
— Да, — уважительно проговорил Фима, — из близнецов всегда один крепче другого. Интересные ребята.
И тут заверещала трубка радиотелефона, лежащая на подоконнике распахнутого окна. Сашка подскочил к окну и схватил трубку. Полиция, мелькнуло у него.
— Сашенька! — раздался в трубке спокойный и нежный голос Ангел-Раи, который невозможно было спутать ни с каким иным. — Вот теперь пора. Развезите их в разные стороны, мась!
И Рабинович вместо того, чтобы заорать дурным голосом — а он, не отрывая от уха трубки, безумным взглядом уперся в спину Ангел-Раи, молчаливо стоящей на краю обрыва, — вместо того, чтобы сойти с ума, спросил тупо:
— А — как же?..
— Он дал пятьдесят тысяч.
— Как?!! Когда?!!
— Ну… потом, мась, потом. Сейчас оборви это безобразие, прошу тебя. Сил нет.
Сашка с Доктором, Фимой и депрессивным Севой с трудом оторвали пиротехника Тихона от полумертвого Мироши, погрузили в Севин «понтиак», и тот помчал пиротехника куда-то отсыпаться. Сопровождать до гостиницы миллионера Мирошу, избитого и тяжелого, как куль цемента, который Сашка купил для ремонта террасы, отмыть его и уложить в постель вызвался добряк Фима.
— Не задерживайся, Васенька! — неслось ему вслед.
Минут через пятнадцать на террасе остались только Рабинович с верным Доктором, никогда не бросающим друга в беде.
Они и сами с трудом держались на ногах. Но сообща подняли стол и стулья, Сашка даже принес веник с совком и, тяжело кряхтя, подмел пол.
— Сколько закуси! — с горечью проговорил он. — Салаты, мясо, рыба! Гудеть бы и гудеть, как люди… Доктор, все-таки люмпен, он и с миллионами — люмпен, а?
— Может, мясо обтереть? — предложил Доктор. — Сдуй с него пыль.
— Ты что, а микробы?
— А ты и микробы сдуй! Верь мне, я доктор.
— Смотри, а бутылки-то: ни одна не разбилась! Давай выпьем. Черт, ни одного бокала целого… Подожди, я кружки принесу…
Они выпили, посидели в тишине, закусывая квашеной капустой, найденной в холодильнике. В свежайшем просторном воздухе ночи слезились и перемигивались холодные голубые огоньки в окрестных арабских деревнях.
Рабинович вдруг вспомнил про ангельский голос в трубке радиотелефона и, навалившись грудью на стол, прошептал:
— Доктор… слушай… а ведь Ангел-Рая…
— Ну?
— Знаешь, кто она?
— Директор… этого… — Доктор напрягся, но сразу махнул рукой, — да всего!..
— Нет, старик, не-ет! Ангел-Рая… — Сашка подался еще вперед, навалился на миску с квашеной капустой и страшным шепотом сказал:
— Ангел-Рая — Машиах!
Доктор неподвижно и внимательно смотрел на Рабиновича блестящими глазами.
— Баба — Машиах?! Ты сбрендил! Я тебя в психушку упеку.
— Машиах, Машиах! — настаивал Рабинович. — Царь иудейский. Царица.
— Царица — да, — согласился тот. — А Машиах — нет. Верь мне, я доктор…
На горизонте, над невидимой во тьме Масличной горой и горой Скопус висело длинное веселое облако электрического света. Это мерцал и радовался огнями Иерусалим. И небо над ним, подсвеченное бесчисленными желто-голубыми фонарями, было как светлое дрожащее облако, привязанное миллионами нитей к этому, единственному на Земле, месту.
Доктор и Рабинович посидели бы еще чуток и разошлись спать, довольные друг другом.
Но, видно, испытания этого вечера, вернее, этой последней, перед Судным Днем, Ночи Трепета не были исчерпаны.
И в тот момент, когда, разлив себе по последней, они поднесли ко ртам кружки, столб пламени и дыма — отнюдь не библейский, заметим, и далеко не пиротехнический — встал из оврага, взметнулся над террасой и заметался — куда бы податься, как бы перевалить через бортик, дотянуться до деревянных дверей и окон.
Секунды две пьяные и сонные Доктор с Рабиновичем завороженно глядели на этот огненный фонтан.
— Опять — салют? — пролепетал Рабинович.
— Какой салют, дурак! — заорал шальным тенором Доктор, сразу трезвея и холодея. — Горим!!!
Он лучше Сашки держался на ногах и лучше соображал (он вообще был крепче Рабиновича в выпивке), поэтому немедленно ринулся в кухню, немеющими от ужаса руками размотал шланг, которым Сашка поливал обычно цветочки в псевдоамфорах, насадил его на кран и открыл воду на всю катушку. Обливая все вокруг, он протащил по гостиной шланг и вбросил через окно на террасу. А там его подхватил Рабинович и направил струю вниз, в овраг, откуда и произрастал и ширился столб дыма и огня.
На вопли Доктора минуты через три уже сбежалась к Сашкиному коттеджу половина жильцов квартала «Русский стан». Кто-то приволок более длинный шланг, кто-то таскал воду ведрами и тазами.
— Лейте вокруг! — командовал Доктор. — Вокруг, на сухую траву! Чтобы не занялось!
Суматоха, крики, ругань, звон ведер и тазов и неприличное оживление соседей продолжались минут сорок. Когда с пожаром сообща справились, приехала «пожарка», вызванная кем-то с испугу (или все от того же оживления).
Пожарные тоже выкатили огромный шланг и, несмотря на протесты, топая и громко перекрикиваясь на иврите, еще минут пять поливали в гостиной мебель и ковер, а заодно и пол на террасе. Уехали они только после того, как Рабинович подписал, ругаясь, какие-то неведомые бумаги.
К тому же во всем городке погасло электричество. Очевидно, пожар задел проводку.
Мокрые, дрожащие от холода и совершенно очумевшие от всех событий, сидели Сашка и Доктор на террасе в полной тьме и полном одиночестве.
Они давно уже обсудили причины пожара и пришли к выводу, что, конечно, пиротехнические увеселения близнеца Тихона тут ни при чем, скорее всего, виноваты сухая трава и один из окурков Рабиновича, которые он отщелкивает по дурости в овраг. Но заплатит за пожар, конечно же, близнец Мироша. Он за все, сука, заплатит…
Тьма, всеобъемлющая тьма сожрала городок. Доктор и Рабинович едва различали друг друга.
И в этой глухой клубящейся тьме, сверху справа, где должен был нависать Танькин балкон, мерно закачалось мерцающее нечто, нежно-перламутровые семядоли… Рабиновичу сначала показалось, что это одна из дымовых пиротехнических фигур, все еще всплывающих со дна обгоревшего оврага.
Он пихнул Доктора локтем в бок.
— Что там… в углу, — прошептал он, — колышется?..
Доктор поднял голову, сощурился.
— По-моему, задница, — меланхолично проговорил он. Зрение у него было лучше, чем у Рабиновича. — Ага… Это она вышла пожар тушить, что ли… с балкона… Не разберу… полотенечком, кажется, машет…
Танька Голая и вправду вышла принять участие в борьбе с пожаром. Просто, когда все боролись, она нежилась в горячей ванне. А как вылезла из ванной да унюхала гарь, так и выскочила на балкон, и давай полотенцем дым гонять. Дура. Наделала сегодня делов.
— Рабинович, — в бешенстве процедил Доктор, — ну-ка, дай по жопе этой… Маугли!