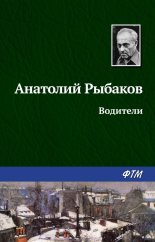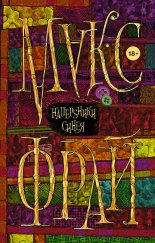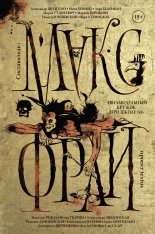Как мы пережили войну. Народные истории Прилепин Захар

Когда мы уезжали из Башкирии, нам не смогли заплатить за все трудодни, так как эвакуированные уезжали все сразу. Сказали, чтобы приехали за трудоднями через год. Мама поехала через год с братиком Сашей. С детьми через комнату матери и ребенка давали билеты без очереди. Привезла ведро меду, ведро сливочного масла и еще что-то. Мед и масло променяли на телочку. Только на второй год у нас появилось молоко. Еще мы держали кроликов. Жить стало полегче. У кого был скот, то для него стали продавать жмых и овес. Жмых мы и сами хорошо ели и угощали детей из нашего двора. А овес вымачивали сутки или двое, мололи на мясорубке, выжимали. Из выжимок варили себе кисель, а что оставалось, давали скоту.
На ночь корове надо было давать траву. Мы ее жали серпом сами по краям канав, у моря и таскали по полмешка. Трава была очень тяжелой. Младший брат Саша брал мешок за узел, а я за два конца, и потом мы менялись. Иногда возили траву на самокате. Однажды жали траву около пушек, которые стояли между Немецким (Лютеранским) кладбищем и старой свалкой. Пушки были громадные, блестели на солнце. Охранял их матрос. Войны не было, пушки были недействующие. Территория огорожена колючей проволокой, никто там не ходил. Трава была не мятая. Мы подлезали под эту проволоку и жали, думали, что он нас не видит. А он прекрасно все видел, только делал вид, что не видит.
Когда денег не хватало заплатить за стадо, корову пасли сами у взморья. Это место, которое сейчас расположено за 424-й школой. Корова паслась, а мы бегали по мелководью, играли в пятнашки. Залив очень мелкий, у берега вода доходила только до косточек, прогревалась на солнце. Кое-где мелькали стайки маленьких рыб, появлялись островки тины. Если мы хотели выкупаться, то шли подальше. Купались вволю. Ведь взрослых рядом не было. Выйдем из воды – зуб на зуб не попадает. Завернемся в байковое одеяло и согреваемся. Никогда не болели.
Однажды пришлось мне корову гнать в стадо. Оно далеко ушло, за Шанцы. Гнала я ее мимо Немецкого кладбища, потом по Кронштадтскому шоссе, сквозь Русское кладбище. Это будет около пяти километров от нашего сарая. Погода была отличная, солнце, птицы поют. Туда я не боялась идти – ведь со мной была корова. Это живое существо. А назад пришлось идти одной. А лет-то мне было, может 11–13. Страшно. Хоть бы одна живая душа встретилась – никого. Как я назад прошла сквозь Русское кладбище – не знаю. Если корову надо было доить три раза в день, то мама ходила в обед пешком туда и обратно. Автобусы за город не ходили. Девятнадцатого квартала еще не было, был пустырь. Иногда брат Аркаша ездил на велосипеде и сам доил корову. Когда в начале пятидесятых годов запретили держать скот, мы были очень рады. Наконец-то будем свободны, как все наши сверстники.
Мясо в магазинах продавали трех сортов. Где побольше костей, то дешевле. Мама всегда брала то, что подешевле, варила студень, суп, а косточки не выбрасывала. Мы их сдавали в утиль-сырье. Еще искали и сдавали в утиль-сырье алюминий, медяшки. За это нам давали немного денежек. Иногда – сладенького петушка на палочке.
В субботу и воскресенье мы приходили к КПП одной из воинских частей, просились в кино. Ведь в эти дни в клубе матросам показывали кино бесплатно. Нас пропускали, радости не было предела.
После войны на здании, где сейчас Кадетский корпус, было натянуто белое полотно, показывали кино. Мы залезали на дрезину, которая стояла около их забора. Забор был из колючей проволоки. Все было видно. Мимо забора проходила железная дорога. А жители дома, что был напротив этого здания, через дорогу, смотрели кино прямо из окон своего дома.
До войны и после войны мы жили в доме, где было всего 12 квартир, а жили в них представители пяти национальностей: русские, белорусы, украинцы, евреи, татары. Между собой мы жили очень дружно, можно сказать одной семьей. Национальность нас не разъединяла, а наоборот, нам было интересно как такое-то слово на их языке или как тот или иной обычай отмечают у тех или у других представителей национальностей.
Наш дом давно расселили. Многих уже нет в живых, а если с кем встречаемся, то рады встрече, как родные.
В 1944 году я пошла в первый класс. Школа была недалеко от дома, я шла мимо здания, в котором сейчас располагается Кадетский корпус. На нем большими черными буквами было написано: «Смерть немецким оккупантам!» Возвращалась из школы и тоже читала этот лозунг. В школе на Новый год как-то нам дали кульки с шоколадными конфетами, говорили, что это от американцев.
…Уроки мы делали за тем же столом. Сядем сразу вчетвером. Дима ходил в седьмой класс (он два года в Башкирии не учился, было далеко ходить в школу), я – в шестой, Саша – в четвертый, Тамара – в первый. Пока делаем уроки, не раз передеремся. Все нам места не хватало.
Самые светлые дни моей жизни – это время пребывания в пионерских лагерях – в Ковашах и Малой Ижоре. Впервые я была в лагере, когда мне было восемь лет. Везли нас на обычной грузовой машине, покрытой брезентом. Сидели на досках, которые были вместо скамеек. Один мальчик, пионервожатый из первого отряда, играл на аккордеоне или баяне, а мы все пели:
- От петровских до наших дат
- Гордо стоит Кронштадт,
- Здесь мы родились в нем
- И песню Кронштадту поем…
Далее были слова:
- Володя бегал босиком,
- Володя умер моряком…
Больше слов не помню.
Пионеры, которые уже были в лагере, были выстроены в линейку и встречали нас пионерским салютом. Было красиво и торжественно.
Раньше мальчики и девочки учились в разных школах. И в лагерях были отдельно отряды мальчиков и девочек. Кормили нас хорошо, мы загорали, купались, были литературные викторины, разные игры.
В 1948 году отменили продуктовые карточки. Каждый год было снижение цен. Жить становилось легче.
Через несколько лет взяли в армию третьего брата, Аркадия. Когда приходили повестки, мама всегда говорила:
– Ну вот, опять пришла повестка. В каких условиях живут дети, чем питаются, никому дела нет. А как наступит призывной возраст – сразу повестка и забирают.
Родственники и друзья пришли провожать призывников к военкомату Их выстроили и повели с оркестром по улице Советской к пристани, а мы шли параллельно по панели. Посадили ребят на буксир. Они дружно пели:
- Все, что с детства любим мы, храним,
- Никогда врагу не отдадим.
- Лучше сложим голову в бою,
- Защищая Родину свою.
Все провожающие и отъезжающие были в приподнятом настроении, только одна мама стояла на пристани и плакала. Я смотрела на нее и думала: «Чего она плачет? Ведь войны же нет».
Когда Дима, четвертый брат, поступал в училище, то медкомиссия у него обнаружила грыжу. Пришлось до поступления сделать операцию. В училище поступил в своем же городе. В субботу и воскресенье приходил домой в увольнение. Это была радость.
Пятый брат, Саша, поступал в летное училище, но медкомиссия не пропустила из-за того, что когда-то в детстве была сломана одна рука. Отправили служить солдатом в строительные войска.
У нас была коммунальная квартира. Одну комнату дали молодой женщине с ребенком. Это была главврач тубдиспансера Таисия Исааковна Фрейдович. Однажды она разговорилась с моим старшим братом. Оказалось, что она служила в армии в том же городе, где и мой брат.
Литвиновский Сергей Иванович
Литвиновский Аркадий (Аверкий) Иванович
Раньше была шестидневная рабочая неделя. Выходной был только один. Папа в свободное время ремонтировал обувь, клеил резиновые галоши (раньше носили галоши на валенки и ботинки, чтобы дольше служила обувь), перетягивал матрасы, выделывал шкурки. За это ему платили, что дополняло наш бюджет. Братья тоже все умели, что умел отец. Он всегда нам говорил: «Работать надо, ребята, работать».
Живы мы остались благодаря тому, что у нас было три старших брата, которые во всем помогали родителям.
В 1946 году родился шестой брат, Коля. Он же был восьмым ребенком, и стало нас десять. Служил он на Северном флоте матросом.
Война прошла. В нашей семье все остались живы, только погибли два маминых брата: Леонид Иванович Терновой – при бомбежке в Житомире, а второй, Николай Иванович Терновой, был офицером, воевал в Сталинграде и там погиб.
После войны было много инвалидов. То идет человек без руки, то без ноги, опирается на протез, сделанный из бревна, отточенный с одного конца и с железным наконечником. Вот такую колобашку тянет он за собой и опирается на нее. А то и без двух ног сидит на досточках, к которым приделаны колесики. В руках колобашки, которыми он отталкивается и так продвигается дальше. А мы идем мимо. Маленькие, худенькие, аж синие.
Потом все инвалиды пропали куда-то разом.
В 1946 году подняли из воды часть линкора «Марат», останки офицеров, матросов и специалистов из Морского завода, положили в гробы. Их, обтянутых красной тканью, несли по городу. Все прохожие останавливались, мы пристроились в конце процессии. Через несколько лет были на братской могиле. Посчитали списки погибших. Их было 450 человек. Да, это поколение не зря жило на свете. Оно свое дело сделало: защитило честь и славу нашей страны и спасло мир от фашизма.
В 1948 году было 30 лет Советской армии и флоту. В честь этого события в нескольких местах нашего города прожекторами от земли до неба было написано римскими цифрами «XXX». Это было несколько дней. В годовщину великих праздников в нашем городе всегда дают салют на Якорной площади или в Петровском парке. Народу собирается много.
…Было и так, что по какой-либо причине мы поздно приезжали из Ленинграда или Ломоносова. Ночь, темно, ни души, улицы безлюдные. Жутковато. Но если мы вдалеке увидели матроса, то уже ничего не боялись. Мы знали, что он нас всегда защитит.
Видела я несколько раз, что строем по нашему городу вели немецких солдат и думала: «Зачем их сюда привезли, может, в Ленинграде в тюрьме места не хватило, а может, они здесь работают?»
В то время, после войны, была очень развита сеть художественной самодеятельности; во всех воинских частях, на предприятиях, Морском заводе, в школах, офицерском, базовом матросском клубе. Были шефы и подшефные. Все они обменивались художественной самодеятельностью.
Вечером и утром каждый день матросы проходили по окраинным улицам города и пели. У каждого строя была своя песня:
- Ленинград мы не сдадим – моряков столицу,
- В сине море мы уйдем, встанем на границе…
(Пели задорно, с присвистыванием).
Или
- По булыжной мостовой города Кронштадта
- Уходили с песней в бой флотские ребята.
- Эх, ленты золотом горят в пламени заката –
- Это, люди говорят, – флотские ребята!
Или
- Морская гвардия идет уверенно.
- Любой опасности глядит она в глаза.
- В боях испытана, в огне проверена.
- Морская гвардия для нёдругов гроза…
И еще пели много других песен. Мы всегда любили слушать их. Тогда, можно сказать, пел весь город.
Много приезжало к нам артистов с Большой земли. Наш город тогда был островом, а всю остальную часть нашей страны мы называли Большой землей. Впервые я увидела Эдиту Станиславовну Пьеху еще с косичками. Две грузовые машины ставили рядом, откидывали борта, получалась сцена, Артисты выступали на этой сцене. Мы, стоя, смотрели их выступления.
Шаркова (Литвиновская) Валентина Ивановна
Когда нам, блокадникам, вручали памятные значки в Доме детского юного творчества, то встал весь зал. Я обратила внимание на то, что ни одного человека не было высокого роста. Почти все были, как говорится, «метр с кепкой». Вот что значит эта проклятая война.
Отдыхать многие жители нашего города приходили в Летний сад. Несмотря на то что недавно прошла война, наш Летний сад просто благоухал цветами. Их было много насажено. Вдоль аллеек посажены были мальвы, или роза-шток, как их иначе называют. Идешь по аллейке, как по цветному коридору. Много было разных аттракционов: парашютная вышка, стрела, качели, две танцевальные площадки, играл духовой оркестр. На Бассейке (котлован еще при Петре I вырытый вручную) была лодочная станция. Удивительно, что случилось – чем дальше время шло от войны, тем хуже становился Летний сад. А сейчас он совсем заброшен.
А на Итальянском пруду был каток, бесплатно. Играла музыка. Зимой почти вся молодежь собиралась там.
Сейчас самодеятельность осталась только на некоторых предприятиях. Хорошая самодеятельность, можно сказать замечательная, в Доме культуры им. Мартынова. Это свет и звезда нашего города. Многим из нас уже далеко за 70 лет, но мы все равно идем туда, а когда дождь, мороз, слякоть и гололед, то, можно сказать, ползем к нашему любимому Дому культуры.
Когда объявили, что кончилась война и мы победили, а вечером будет салют, то мама и несколько женщин из нашего дома забрались на крышу, смотрели салют и кричали от радости.
Почему я написала об этом? Я хочу, чтобы наши дети, внуки и правнуки на примере одной семьи увидели, как тяжело выживало гражданское население в годы Великой Отечественной войны, чтобы нынешняя молодежь знала историю нашей страны, любила ее и берегла.
Г. Кронштадт, «Морская газета» В. Шаркова (Литвиновская)
О двух ветвях одного дерева…
Село Ивашкино, затерявшееся среди оврагов, несмотря на свое, с виду шутливое имя, слыло известными на всю округу мастеровыми, работящими крестьянами с их крепкими хозяйствами. Молчаливая речка Вадок, плавно огибая окраины, отражала в своей глади, словно в зеркале, красоту крайних изб, утопающих в сирени, вместе с историей своего народа. Арзамас, один из старейших городов, возникший на Мордовских землях для защиты государства Московского, наложил определенный отпечаток на окрестные села. Он испокон веку славился своими воинами, умевшими защитить себя от набегов иноземцев. А пути, проходившие через него в Нижний, известный на весь мир своими ярмарками, стали одной из причин появления множества предприимчивых и мастеровых людей в здешних местах.
Жизнь в Ивашкине протекала ладным мирком, спокойно и размеренно. Его обитатели, находясь, словно в русле, подобно реке, многие века оттачивали до изящества свои устои и традиции, выращивали хлеб, занимались животноводством, регулярно посещая церковь.
Кузьма Голубев (мой дедушка) один из зажиточных крестьян, по совместительству был церковным старостой в местной церквушке, куда по воскресеньям и праздникам кроме своих, стекалось много народа из соседних деревень. Он был малообразованным, но в то же время очень тонким, культурным, обладающим глубоким разумом и благородством человеком. Его способность найти то или иное решение, выход из трудных ситуаций притягивала к нему людей. За мудрыми советами к нему обращались все, в том числе и ходоки из окрестных сел. Обращался народ с разными вопросами, от супружеской измены, ссоры, или даже драки с соседями, до того, как, или где выкопать колодец, построить сарай, а то и дом. Основным его занятием было обувное дело, он валял валенки. В валенки, свалянные его руками, был обут весь район. Переизбытки своей продукции он продавал на Нижегородских ярмарках. Рано овдовевший, Кузьма наслаждался жизнью в окружении целой оравы любимых внуков, с раннего детства приучая их к труду.
Работа в крепком хозяйстве кипела, словно в муравейнике. Одни были заняты скотиной, другие заготовкой дров и огородом, третьи нянчили совсем маленьких. В зимнее время все дружно помогали деду валять валенки. На внуках была одна из самых неприятных и трудоемких операций – затирка. Валенки затирали, чтоб они не были лохматыми. Одним словом, община моего деда Кузьмы, словно артель, с ее работниками, безмолвно выполняющими команды главного, давала возможность безбедно существовать всей его семье и его родственникам. Все шло своим чередом, ничего плохого не предвещая…
Беда пришла в 1932. Трагедией Русской деревни можно назвать коллективизацию.
Не миновала эта беда и Кузьму.
Становить колхозы в районе было поручено молодому активисту Ивану Писулеву.
И тем ужаснее и циничнее выглядело глубочайшее унижение, что Писулев приходился Кузьме зятем. Именно с Кузьмы, крепкого крестьянина, нареченного кулаком, было и приказано начать унизительную процедуру.
У него отобрали все. И с начала, выселив из добротного дома в баню, сослали на семь лет в ссылку. После отбытия повинности Кузьму поселили в полуразвалившуюся избу напротив некогда принадлежавшего ему дома, чтоб не забывался, кто он. Только дом этот, отданный беднякам, совсем уже не походил на тот, который находился в руках крепкого Русского мужика, хозяина. В крыше зияли дыры, упавший забор зарос бурьяном, резные наличники – варварски отодраны и сожжены в печке, а из окон, заткнутых соломой, доносилось пьяное оранье, вроде частушек под гармошку. И какую же несгибаемую волю нужно было иметь человеку, чтобы все это пережить. Пережить оскорбление такой глубины и масштаба, нанесенное не иноземным врагом, а своими. Стонала сквозь слезы и вся Русская деревня, вся Россия. Стонала и плакала по былому урожаю, по вымершей скотине. Трагедия под названием коллективизация, загубила, смела, словно зловещий ветер, миллионы человеческих судеб, унеся их в никуда, вместе с их добром.
Во многих регионах России начался голод.
Два года спустя дом Кузьмы словно улыбался новенькими застекленными рамами, а из сарая доносился едкий запах купороса. Он восстановил производство. Ему, одному из немногих, благодаря железной воле, не объяснимой силе и любви к родному краю, удалось выстоять. Грех голодать, если под ногами есть хоть пядь земли – это было его основной заповедью.
…Деревню окутало пьянящим запахом сирени. Разбавляя лазурную бездну облаками тополиного пуха, вместе с благоуханием природы и прохладой, об эту пору ветер приносил надежду. Восторженную надежду на богатый урожай, созидающий деревенское счастье.
В этом июне, 41-го, ветер принес войну. По деревне, словно кони в упряжке, неслись бабы.
Их лица, искаженные ужасом, наполненные безутешной скорбью и болью глаза, извещали о том, что пришла беда. Беда вместо обычного лета. Одни орали и плакали, другие наперебой голосили, проклиная то фашистов, то Гитлера, а кто-то ругал почтальона за дурную весть.
Народ стекался к сельсовету, где безмолвно стояли Иван Писулев и председатель колхоза. Потерявший на Гражданской войне ногу, знавший об ужасах тех дней не понаслышке, председатель начал говорить. Зависшую над деревней тишину, нарушаемую отдельными всхлипываниями, разрезал словно ножом хриплый дрожащий голос. Война пришла. Война пришла, бабоньки. Словно пытаясь утешить их, молодых, красивых, беременных, кому вскоре предстоит, возможно, навсегда, расстаться со своими сыновьями, мужьями, а еще не родившимся детям не суждено будет увидеть своих отцов. Начинается мобилизация! Завтра первая подвода. Деревянная нога председателя неугомонно топталась, будто живое существо, прячась от страха, предчувствуя неладное, за другую ногу – в хромовом, начищенном до блеска, сапоге. Он говорил не долго. Писулев приказал готовить к погрузке на эшелон лошадей.
Да, знать одна беда не приходит, затягиваясь самокруткой с самосадом, пуская желтые клубы дыма, размышлял Кузьма, сидя на завалинке, затерев очередную пару валенок. Обладая глубоким разумом, талантом, обретенным от природы земли русской, способностью прощать, он давно простил Писулева. Он давно понял, что не отправь зять его тогда, в 32-м году в ссылку, отправили бы самого Ивана, молодого коммуниста, не выполнившего приказ партии. Только сослали бы не в степи Сызрани, как его, Кузьму, а подальше, на Колыму, и тогда уж точно пропала бы вся семья. Будучи глубоко верующим человеком, дедушка не позволял себе обижаться на бога и не гневил его. Но мысли о несправедливости, не имеющей размеров по своим масштабам, сотворенной по отношении к Русскому народу, о его страданиях и нечеловеческих испытаниях, не покидали его сознание. Он точно знал и был уверен, что кровью Русской и слезами захлебнутся ироды, враги его. Каждый, кто ступит с мечем, на землю святую Русскую, должен полечь.
За все страдания бог его отблагодарит позже…
Одиннадцатилетняя Клава старательно выводила последние буквы на конверте. Она написала письмо на фронт своему отцу Ивану Писулеву. Он ушел на войну одним из первых, как коммунист, передав семейные бразды правления в надежные руки Тестя. На плечи женщин, детей и стариков в те годы легла непомерно тяжелая ноша. Они обязаны были выжить! Выжить сами, не дать погибнуть полуразвалившемуся за годы советской власти колхозу, а самой важной задачей было помогать фронту. Невероятной силы потенциал открылся в каждом человеке. Люди недоедали, недосыпали, совершенно не думая о себе. Самоотрешнность стала нормой, это их сплачивало, придавая нечеловеческую силу. Девочке Клаве была поручена нелегкая задача – боронить пашню под озимь, на быках. Она, маленькая хрупкая, должна была управляться с непредсказуемыми животными, обладающими ломовой силой. За ней были закреплены два быка. И упрямые быки ее почему-то слушались. Но не всегда.
Однажды она привязала быков к столбу и побежала домой перекусить. Вернувшись минут через пятнадцать, она не обнаружила ни быков, ни столба. Быкам вдруг захотелось пить, и они побрели к речке, не замечая бороны и вывороченного с корнем столба с обрывками проводов. Не по годам развитая Клава знала, что тянулись провода к сельсовету, там был установлен громкоговоритель. Она понимала, что ее будут сильно ругать, и мама, и, наверно, председатель. Уж больно люди к нему серьезно относились, ведь он передавал сводки с фронта. Но дело было гораздо серьезней, чем думала Клава. Председатель просто обязан был доложить о Ч. П. в райком, ведь по проводам шла еще и телефонная связь. И не надо долго объяснять, какой величины был причинен ущерб, кроме поврежденной линии связи. В подобных случаях на место выезжала «Тройка», а это, ой как серьезно. Выездной суд судил по законам военного времени и, как правило, не уезжал без приговора. Оправдательные приговоры являлись редчайшим исключением, скорее даже отсутствовали. За подобное диверсионное действие, а скорее всего, именно так было бы квалифицировано это преступление, судить должны были уж точно не быков. И, скорее всего, у преступника были бы еще и соучастники. Может, бригадир, пославший на работу, может, родители, а в данном случае мать, жена фронтового политработника, а может, и сам председатель. Но, к счастью, искушенному председателю, добрейшей души человеку, удалось все уладить. Он сумел отписаться всего лишь несколькими письмами, свалив все на бродячих собак, которые, дескать, загнали быков прямо соединяющей их поперечиной на столб, чуть не закусав до смерти работницу. По-другому поступить он не мог – ведь все, кто был в тылу, все кто работал с ним ради победы, забыв о себе, стали для него как родные, вся деревня была одной его семьей. Все вместе они ждали и верили! Ждали победы, ждали сыновей и мужей, ждали почтальона, верили в чудеса, даже получая похоронки. Почтальонша стала чуть ли не самым важным человеком на селе. Ее любили за письма. За письма из госпиталя – слава Богу жив! Ненавидели за похоронки. Не любили за повестки из райвоенкомата. К середине 1943 года более чем полдеревни из тех, кто отправил своих на войну, получили самые страшные известия, похоронки. К концу сорок третьего в деревне не осталось людей призывного возраста, людей в колхозе становилось все меньше, работать стало еще тяжелее. Платили за работу в колхозе трудоднями. Эта форма оплаты не содержала в себе ничего материального, но люди радовались их количеству, снова и снова полуголодные шли работать, одержимые огромной волей к жизни, волей к победе. В светлое время все люди были заняты на поле и ухаживали за скотиной. Вечерами вязали носки, шили полушубки для фронта. Периодически приходили подводы с одеждой раненых из Горьковского госпиталя. Окровавленные гимнастерки, галифе, шинели и фуфайки, сначала стирали в пруду, потом сушили и ремонтировали, распределяя по домам. Вода в пруду от крови была почти всегда красного цвета, не успевая обесцветиться до поступления очередной партии. В безветренную погоду над деревней висел неимоверно тяжелый запах крови, пота, одним словом, запах войны. Это было очень тяжелым занятием, скорее даже испытанием. Многих это доводило до истерики, кто-то громко навзрыд плакал, кто-то безмолвно тихонько всхлипывал. Тринадцатилетняя Клава, ставшая к сентябрю 43-го звеньевой, отвечавшая за молотьбу на уборочной, не была исключением. Они с мамой (моей бабушкой) и маленьким братом Сашей, ремонтируя солдатскую одежду, зашивали под подкладку бумажку, с надписью «Господи, сохрани». Они были уверены, что это поможет… Они были уверены, что это поможет и их сыну и брату Сереже, которому вот-вот исполнится 17 лет, а это призывной возраст…
Проводы Сережи (моего дяди) были более чем скромные. Во главе стола сидел дед Кузьма. Мама Анна Кузьминична, Катерина, старшая сестра. Она заменила ушедшего на фронт отца на посту председателя сельсовета. Клава, Саша, несколько соседей. Сергей, маленького росточка, всего метр пятьдесят два, поддельно веселился, словно уходил не на войну, а в пионерлагерь. Говорили тихо, вполголоса, в основном о том, как хорошо будет после войны. Еще полностью не понимая и не веря, что Сергей уходит туда, откуда порой не возвращаются. Да, что там порой – в деревню почти каждый день приходили похоронки. Мама почти все время плакала, причитая: ты пиши сынок, каждый день пиши. Береги себя, больно-то не высовывайся.
После второй стопки крепкого самогона, Сережа окончательно захмелел и буквально валился с табуретки. Дед Кузьма скомандовал «Все, хватит, отдыхать!» и закинул его почти бездыханное тело, как сноп, на печь.
Около пяти утра постучали в окно, пришла подвода. На ней уже с песнями восседала пара в доску пьяных героев-новобранцев. Они, еще мальчишки, так же, как и Сергей, плохо понимали, куда их увозит эта подвода. Они не понимали и не догадывались, что их ждет ад на земле, ад войны. Провожающие долго брели за подводой, в полной темноте, тихонько всхлипывая, пока извозчик как следует не хлестанул лошадь…
Третьи сутки шли пешим маршем по снежной каше, после эшелона до Москвы. В полном снаряжении с трехлинейкой идти было невыносимо тяжело. Останавливались лишь на пару-тройку часов на привал, чтобы перекусить и отдохнуть. Шли по Смоленщине в сторону Белоруссии, к расположению части. Нет-нет да попадались места, где явно проходили бои. В одном месте, на открытом поле вдоль дороги повсюду валялась искореженная техника, а земля от обочины и сколько глаз видит, серая от таявшего снега земля, была залита кровью и усеяна трупами. Трупами нашими. Их еще не успели убрать.
Сергей Писулев
Старшина сказал, что пару дней назад здесь фашисты с помощью авиации почти полностью уничтожили мотострелковый полк, в живых остались единицы. От страшной картины по колонне пробежал шепот, почти как шорох, и она стихла. Сергеем овладел ужас и страх. Он понял, еще даже пороху не понюхав, что карантин, или курс молодого бойца, в Гороховце под Горьким, казавшийся ему адом, был просто настоящим раем.
Воевал Сергей на первом Белорусском фронте, вместе со своим земляком, Петькой.
Однажды, когда он сидел в окопе, за пулеметом, ожидая команды в атаку, его вызвал ротный.
Усадив за пулемет Петьку, он побежал по окопу в блиндаж командира. Вернувшись, через каких-то десяток минут, окликнув Петьку, не услышал ответа. Земляк был убит снайпером. Сергей, проклиная себя, горько заплакал. От этого он стал еще злее и с еще большей яростью продолжал бить врага. Он мстил врагу за Петьку, за свою деревню, за страну. Дрался бесстрашно, был дважды ранен. За это он неоднократно был представлен к орденам и медалям.
Да, его щадила судьба. Возможно за страдание предков. Но еще был у него и старший фронтовой товарищ, полюбивший его как сына. Ему тогда было за пятьдесят. Он не отпускал Сергея от себя ни на шаг. Ночью укрывал своей шинелью, подкармливал, отдавая часть своего пайка. Когда по команде «В атаку! Ура! За Родину! За Сталина!» все вскакивали из окопов, он со словами «куда, едрена мать!», за шиворот стаскивал его вниз. Он говорил: «Сынок, если не умеешь воевать, сиди в окопе, никто не ждет твоей похоронки, особливо мамка. Выскакивать надо, пригнувшись, с умом, тогда довоюешь до конца, добьешь врага. А Вы, молодые, больно быстрые. Первые выскакиваете из окопа, да сразу в полный рост, вот фриц вас и косит как траву, а воевать, кто будет?!»
И довоевал Сергей до конца, до Берлина. И опять щадила его судьба и берёг Господь. После взятия Берлина, 8-го мая 45-го, они праздновали победу. В комнате на втором этаже одного из отвоеванных зданий, накрыли стол. Выпивали шнапс, закусывали трофейной тушенкой и шоколадом. Ликование нарастало. Дошло до песен. Периодически салютовали, давая очереди в потолок. Вдруг Сергею пришла мысль дать длинную очередь в небо. Он встал и направился к окну, прихватив свой ППШ. Фронтовой друг, сидевший ближе к окну, поняв его затею, решил его опередить, и буквально вскочив со стула, подбежал к окну. Друг высунулся на полкорпуса в разбитое окно и дал длинную очередь в воздух. И тут присутствующие увидели, что их друг безмолвно сползает с подоконника на пол. Он был убит. Убит проходящим мимо нашим патрулем, принявшим его за немца.
В Ивашкино с войны вернулись только двое – отец и сын Писулевы.
Дед Кузьма еще больше стал верить в Бога и благодарить его. Он дожил до 90 лет и умер, окруженный любимыми детьми и внуками.
Клаву (мою маму) через несколько лет после окончания войны найдет Борис (мой папа), который не дождался своего отца с войны. Мои родители проживут вместе 50 лет, до самой смерти папы в 2005 году. Мама, слава Богу, жива, ей уже 85 лет.
Александр Цветков
Что помню…
В 1944 году ранней весной наша часть из Гороховецких лагерей прибыла в Белоруссию на 3-й Белорусский фронт в 1208 стрелковый полк. Командующий фронтом маршал Рокоссовский. Наша часть готовилась к наступлению. Пришлось пройти путь по лесу и по болотам по колено в воде. Немцы хотели этот путь пройти, но им не удалось, слишком много болот. Нас они там не ждали. Очень был тяжел этот переход. Но наша часть прошла, для немцев это было неожиданно, они вынуждены были отступить. Наша часть готовилась к наступлению сильным артиллерийским залпом. Многих убило, ранило. Многих оглушило. Мой друг, командир 1-ro отделения из Ленинграда, Василий Кузнецов был убит, а я оглушен, как и многие другие. Меня ударило в левую сторону головы, в ухо. Все кричали, плохо слышали, но наступление не сорвалось и было успешным. Наша артиллерия, особенно «катюши», сильно ударили по переднему краю противника и дальше и вовремя! О Василии Кузнецове я написал его сестре в Ленинград все как было. После мы с ней вели долгую дружескую переписку. Ее звали Римма. В наступлении под Варшавой я был ранен. Я был помощником командира взвода. Меня ранило в правое бедро. Вместе со мной одной миной ранило и командира отделения Сундукова Николая из г. Ярославля. Остался во взводе командир Воробьев, остальные были убиты раньше. Когда нас из медсанбата выносили, навстречу нам на носилках несли Воробьева, командира взвода, с закрытыми глазами. Я лежал в госпитале в Польше в г. Лансберг около 1,5 м. После госпиталя меня направили на 1-й Белорусский фронт, которым командовал Жуков Г. К., в полк 597 Стрелковый к Ковязану И. Д. Однажды во время подготовки к наступлению и форсированию реки Неман к нам на помощь присоединилась другая воинская часть, чтобы не сорвать наступление. И в этой части я случайно встретил своего земляка из села Ивашкино, Петра Червякова. В армию нас призывали вместе. Форсировать реку нужно было на плотах, плоты готовила другая часть. Во время этой операции много наших погибло, утонуло. В том числе был убит и утонул Петр. Позднее я сообщил в Ивашкино отцу Петра Вас. Васильевичу. Дальнейший мой воинский путь тоже был тяжелым, но наступление шло очень успешно. Бои шли уже в Германии. В г. Берлине, в боях 1–2 мая, на улицах Берлина я со своим подразделением в бою уничтожил 9 немцев и захватили в плен 22 немца.
Как мы пережили войну
НА ФРОНТЕ
На фронте
В 1941 году Вторая мировая война вступила в новую фазу К этому времени фашистская Германия и ее союзники захватили фактически всю Европу В связи с уничтожением польской государственности установилась совместная советско-германская граница. В 1940 году фашистское руководство разработало план «Барбаросса», утвержденный Гитлером 18 декабря 1940 года, цель которого состояла в молниеносном разгроме советских Вооруженных сил и оккупации европейской части Советского Союза.
Дальнейшие планы предусматривали полное уничтожение СССР. Для этого на восточном направлении были сосредоточены 153 немецкие дивизии и 37 дивизий ее союзников (Финляндии, Румынии и Венгрии). Они должны были нанести удар в трех направлениях: центральном (Минск – Смоленск – Москва), северо-западном (Прибалтика – Ленинград) и южном (Украина с выходом на Черноморское побережье). Планировалась молниеносная кампания в расчете захвата европейской части СССР до осени 1941 года.
К лету 1941 года на границе СССР от Баренцева до Черного моря были сконцентрированы 5,5 млн солдат и офицеров Германии и ее союзников, почти 5 тыс. боевых самолетов, более 3700 танков, свыше 47 тыс. орудий и минометов. Численность советских вооруженных сил на этом участке границы составляла 2,9 млн человек.
Остальные полтора миллиона человек были рассредоточены на других участках, прежде всего на Дальнем Востоке и юге, где ожидалось вторжение войск союзников Германии – Японии и Турции.
Великая Отечественная война прошла в своем развитии три крупных периода: первый – начальный период (22 июня 1941 г. – 18 ноября 1942 г.); второй – период коренного перелома (19 ноября 1942 г. – конец 1943 г.); третий – период освобождения территории СССР от агрессора и разгрома фашистской Германии (начало 1944 г. – 9 мая 1945 г.). Участие СССР во Второй мировой войне продолжилось периодом советско-японской войны (9 августа – 2 сентября 1945 г.).
Осуществление плана «Барбаросса» началось на рассвете 22 июня 1941 года широкими мощными бомбардировками с воздуха крупнейших промышленных и стратегических центров, а также наступлением сухопутных войск Германии и ее союзников по всей европейской границе СССР (на протяжении 4,5 тыс. км). Уже в первый день немецкая авиация разбомбила 66 аэродромов и уничтожила 1200 советских самолетов. За несколько первых дней немецкие войска продвинулись на десятки и сотни километров. На центральном направлении в начале июля 1941 года была захвачена вся Белоруссия и немецкие войска вышли на подступы к Смоленску.
С 10 июля по 10 сентября 1941 года проходило Смоленское оборонительное сражение, в ходе которого войска Резервного фронта под командованием генерала армии Г. К. Жукова провели успешную Ельнинскую наступательную операцию, был ликвидирован ельнинский выступ – удобный плацдарм противника для наступления на Москву – и освобожден город Ельня.
На северо-западном – занята Прибалтика, 9 сентября блокирован Ленинград. Главная база КБФ в результате героического перехода балтийских кораблей под непрерывным огнем артиллерии, налетами немецкой авиации, ежечасно рискуя подорваться на минах, была перебазирована из Таллина в Кронштадт. На юге гитлеровские войска оккупировали Молдавию и Правобережную Украину. Таким образом, к осени 1941 года был осуществлен гитлеровский план захвата огромной территории европейской части СССР. Прорвавшись в Крым, гитлеровцы начали штурмовать ВМБ Черноморского флота Севастополя.
Стремительное наступление германских войск на советском фронте и их успехи в летней кампании объяснялись многими факторами объективного и субъективного характера. Германия имела значительные экономические и военно-стратегические преимущества. Для нанесения удара по Советскому Союзу она использовала не только свои, но и ресурсы союзнических, зависимых и оккупированных стран Европы. Гитлеровское командование и войска имели опыт ведения современной войны и широких наступательных операций, накопленный на первом этапе Второй мировой войны. Техническое оснащение вермахта (танки, авиация, средства связи и др.) значительно превосходило советское в подвижности и маневренности.
Советский Союз, несмотря на прилагаемые в годы третьей пятилетки усилия, не завершил свою подготовку к войне. Перевооружение Красной армии не было закончено.
Военная доктрина предполагала ведение операций на территории противника. В связи с этим оборонительные рубежи на старой советско-польской границе были демонтированы, а новые создавались недостаточно быстро.
Крупнейшим просчетом И. В. Сталина оказалось его неверие в начало войны летом 1941 года. Поэтому вся страна, и в первую очередь армия, ее руководство, не были подготовлены к отражению агрессии. В результате в первые дни войны была уничтожена прямо на аэродромах значительная часть советской авиации. Крупные соединения Красной армии попали в окружение, были уничтожены или захвачены в плен.
Сразу после нападения Германии советское правительство провело крупные военно-политические и экономические мероприятия для отражения агрессии. 23 июня была образована Ставка Главного командования. 10 июля она была преобразована в Ставку Верховного Главнокомандования. В нее вошли: И. В. Сталин (назначенный Главнокомандующим и ставший вскоре наркомом обороны), В. М. Молотов, С. К. Тимошенко, С. М. Буденный, К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и Г. К. Жуков.
Директивой от 29 июня Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) поставили перед всей страной задачу мобилизовать все силы и средства на борьбу с врагом. 30 июня был создан Государственный комитет обороны (ГКО), сосредоточивший всю полноту власти в стране. Председателем ГКО стал И. В. Сталин. Коренным образом была пересмотрена военная доктрина, выдвинута задача организовать стратегическую оборону, измотать и остановить наступление фашистских войск. Крупномасштабные мероприятия были проведены по переводу промышленности на военные рельсы, мобилизации населения в армию и на строительство оборонительных рубежей.
Уже в первый месяц войны Красная армия оставила почти всю Прибалтику, Белоруссию, Молдавию и большую часть Украины. Она потеряла около 1 млн бойцов, в том числе 724 тыс. пленными. Были разгромлены практически все армии Западного фронта, по которому Германия нанесла главный удар. Чтобы отвести вину от себя, руководство страны организовало суд над группой генералов во главе с командующим войсками Западного фронта генералом армии Д. Г. Павловым. Их обвинили в измене и расстреляли.
В конце июня – первой половине июля 1941 года развернулись крупные оборонительные приграничные сражения (оборона Брестской крепости и др.). На центральном, московском, направлении враг был временно остановлен в 300 км от Москвы в ходе двухмесячного Смоленского сражения (10 июля – 10 сентября 1941 года). Стратегический план германского командования овладеть советской столицей к середине лета дал трещину.
На северо-западном направлении провалился немецкий план захвата Ленинграда. На юге до сентября 1941 года велась оборона Киева, до октября – Одессы. В конце сентября советские войска потерпели серьезное поражение под Киевом. Пять армий попали в окружение. Незначительная часть окруженных вырвалась из кольца, но более полумиллиона человек попали в плен, большинство воинов гибло в боях вместе с командующим Юго-Западного фронта генерал-полковником М. Д. Кирпоносом.
Упорное сопротивление Красной армии летом – осенью 1941 года сорвало гитлеровский план молниеносной войны. Вместе с тем захват фашистским командованием к осени 1941 г. огромной территории СССР с ее важнейшими промышленными центрами и зерновыми районами являлся серьезной потерей для Советского Союза.
Овладев Киевом, противник смог переломить ситуацию на московском направлении, прорвав оборону Красной Армии. Началась немецкая операция «Тайфун», нацеленная на взятие Москвы. Фашисты полагали, что группа армий «Центр», подобно тайфуну, сметет советскую оборону и захватит столицу СССР до наступления зимы. С конца сентября развернулась четырехмесячная Московская битва, в первые недели которой пять армий ополчения оказались в «котле». В окружение попало 600 тыс. человек (каждый второй защитник Москвы).
Первая линия советской обороны была прорвана на центральном направлении 5–6 октября. Пали Брянск и Вязьма. Вторая линия под Можайском на несколько дней задержала германское наступление. 10 октября командующим Западным фронтом был назначен Г. К. Жуков. 19 октября в столице было введено осадное положение. В кровопролитных боях Красная армия сумела остановить противника – закончился октябрьский этап гитлеровского наступления на Москву.
Трехнедельная передышка была использована советским командованием для укрепления обороны столицы, мобилизации населения в ополчение, накапливания военной техники и в первую очередь авиации. 6 ноября было проведено торжественное заседание Московского совета депутатов трудящихся, посвященное годовщине Октябрьской революции. 7 ноября на Красной площади состоялся традиционный парад частей Московского гарнизона. Впервые в нем участвовали и другие воинские части, в том числе ополченцы, уходившие прямо с парада на фронт. Эти мероприятия способствовали патриотическому подъему народа, укреплению его веры в победу.
Второй этап наступления гитлеровцев на Москву начался 15 ноября 1941 года. Ценой огромных потерь им удалось в конце ноября – начале декабря выйти на подступы к Москве, на расстояние 25–30 км, охватить ее полукольцом на севере в районе Дмитрова (канал Москва – Волга), на юге – около Тулы. На этом немецкое наступление захлебнулось. Оборонительные бои Красной армии, в которых погибло много солдат и ополченцев, сопровождались накоплением сил за счет сибирских дивизий, авиации и другой военной техники.
5–6 декабря началось контрнаступление Красной армии, в результате которого враг был отброшен от Москвы на 100–150 км. Были освобождены Калинин, Малоярославец, Калуга, другие города и населенные пункты. В ходе контрнаступления Красная армия потеряла более 600 тыс. человек; противник же, отступая, – 100–150 тыс.
Гитлеровский план молниеносной войны окончательно провалился. Под Москвой войска Германии потерпели первое с 1939 года крупное поражение, противник перешел к стратегии затяжной войны. Победа под Москвой в условиях военно-технического превосходства противника явилась результатом героических усилий наших граждан.
Исследование реальных потерь Советского Союза в войне началось лишь в конце 1980-х с приходом гласности. До этого в 1946 году Сталин объявил о том, что СССР потерял в годы войны 7 миллионов человек. При Хрущеве цифра возросла до «более 20 миллионов». Споры о количестве жертв продолжаются и по сей день.
В 1988–1993 годах коллектив военных историков под руководством Григория Кривошеева провел комплексное статистическое исследование архивных документов.
Итоговая цифра людских потерь в Великой Отечественной войне была впервые обнародована в округленном виде («почти 27 млн чел.») на заседании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 года, посвященном 45-летию победы нашей страны в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день результаты, полученные группой Кривошеева, признаны официальными и наиболее надежными. Однако нередко они подвергаются критике в силу того, что данный коллектив фактически получил монополию на доступ к рассекреченным документам по потерям: подтвердить либо опровергнуть их результаты другие историки не могут, поскольку соответствующие документы им недоступны.
Николай Егорыч, пулемётчик
Мне было уже за двадцать, когда за обедом я вдруг спросил всерьёз:
– Дед, а ты немецких офицеров видел?
– Да я их убивал, – ответил дед спокойно и просто, и то ли откусил хлеба, то ли огурец посолил, и, сразу забыв о моём вопросе, начал за что-то отчитывать бабушку Она норовисто отругивалась.
В течение почти трети века, пока дед был жив, я то так то эдак расспрашивал его о войне – тут вполне ожидается ироничная подсказка, что рассказы об одном и том же, рассказанные в разное время, существенно различались, но нет, всё иначе. Рассказы были цельны, последовательны и, судя по всему, очень правдивы – дед вообще был человек простой, начисто лишённый фантазии, и врать не умел совершенно. Просто я их всегда слышал по-другому. Понимаете, да? – одно и то же, услышанное в разное время, иначе высвечивается.
В детстве очень нравилась история про самолёт. Дед, что твой Тёркин, действительно подбил самолёт, даром что не из винтовки.
Мы укладывались с братом спать, нам было лет по семь, и дед наш Николай Егорыч заглядывал к нам, садился на разложенный диван, цепкими руками плотника хватал в шутку нас за пятки, мы хохотали.
О войне он рассказывал сам, почти ежевечерне, просить его не приходилось. Дедовские рассказы подсвечивались недавно просмотренными фильмами к очередному юбилею Победы. Всё выходило очень красочно.
Самолёт он подбил после ранения в руку, году уже в 44-м, кажется. Подлечился, и главврач предложил деду пока остаться при госпитале – нужно было кому-то нести дежурство на крыше: там, как я понял, стояли две установки из счетверённых пулемётных стволов. Госпиталь тоже бомбили, он был недалеко от линии фронта.
Только много позже я обратил внимание на то, что деда после излечения не сразу отправили на фронт: видно, у него с главврачом сложились добрые отношения, и тому глянулся дельный рязанский пацан, который всё умел делать руками. Днём, поди, чинил всё, а вечером – на крышу, на пару с ещё одним пулемётчиком, излечившимся от ранения.
В очередную бомбежку они и задолбили самолёт, как раз пошедший на очередное снижение, раскрывавший своё поганое, полное бомб пузо. Вражина рухнул в нескольких километрах от госпиталя.
Тут же, конечно, в госпиталь пришёл запрос, что за меткий парень тут объявился. Известно кто: Николай Егорыч, мой дед по материнской линии, 1923 года рождения – первый военный призыв, поколение, которое проредили в Отечественную больше всех. Им предстояло пройти почти все четыре года – и это мало кому удалось…
Только когда мне было за двадцать пять, я вдруг заметил, что дед часто вспоминает не столько войну, сколько как его туда везли. Он ни в коей мере не обладал литературным языком, не прочёл за всю жизнь ни одной книги, единственным украшением его речи было изредка и по делу вставляемое «ет-ттить твою мать!» – однако именно эта бесхитростность его речи помогла мне кожей прочувствовать ощущение грядущего ужаса, надвигающегося когда-то на восемнадцатилетнего мальчика, извлечённого из родительского дома в деревне Казинка.
Как-то само собою всё это нарисовалось в моей голове: учебка, жестокая нервозность начальства (немец прёт по всем фронтам!), глупое ожидание, что, может, война вот-вот кончится – но война, напротив, всё ближе и всё ужаснее.
Он стал пулемётчиком, получил свой, 600 выстрелов в минуту, пулемёт «максим» 20 кг весом – и это без станка, обязательной (спасающей от перегрева) воды и патронов. Без патронов всё это богатство весило уже 65 кг, больше самого деда, он был 1,65 ростом и весил, может, кг 50. А были ещё и патроны – по тысяче в каждой ленте.
После учебки его подразделение оказалось под Сталинградом. И тут в бесхитростных рассказах деда концентрация ужаса достигала апофеоза: какой-то полустанок, оттуда неведомо куда потащилось подразделение, и то ли поздняя осень вокруг, то ли ранняя зима, мерзотная ледяная грязь, по которой шли, шли, шли…
Попали под бомбёжку, всех за час разнесли и перебили. Деда контузило.
Вернулся в строй после контузии.
У деда за войну погибло семь «вторых номеров». «Второй номер» – это который пулемётную ленту подает пулемётчику.
Дед об этом говорил безо всякой аффектации, как про косьбу.
– Один раз из лесу снайпер – щ-щ-щёлк! – по нам, и «второй номер» мне – тук! – на плечо. Я плечом повёл, вижу – всё, готов. Пулемёт развернул и засёк снайпера. Дал несколько очередей, и…
Он не договаривал обычно – не знал, что после союза «и» надо говорить. Или знал, но у него природного вкуса хватало на этом остановиться?
В другой раз снаряд попал в голову «второму номеру», и голова улетела вместе со снарядом. Остался человек без головы рядом с дедом. Такое бывает, я слышал.
Имён «вторых номеров» дед не помнил, ни одного.
Несколько раз в мгновение погибал весь расчёт: кроме «вторых номеров» был ещё и расчёт – те самые солдатики, что носили всё это пулемётное хозяйство, пока дед тащил хоть по грязи, хоть по снегу свой «максим».
Однажды, когда форсировали Днепр, снаряд угодил прямо в плот, на котором плыл дед со товарищи. Все погибли, пулемёт утонул – а он выплыл, один, целый. Дед, надо сказать, плавать не умел, не научился – в деревне не было водоёма.
– Как же ты выплыл? – подначивала бабушка. – Не тонулось?
Дед не умел ни шутить, не отшучиваться, а слов у него, чтоб передать, чего там творилось в воде, – не хватало. Он только качал головой – даже не сокрушённо, а так, просто качал, задумавшись.
Вода кровавая кипела вокруг, он пошёл ко дну, потом его неведомо как опять вынесло наверх, барахтался, захлёбывался, сходил с ума, потом зацепился за какие-то доски – на них и выплыл сквозь ад, далеко не первый ад за ту войну и далеко не последний.
– Случалось, идём в атаку, немец встретит хорошим огнем, всех положат… и обратно нас возвращается трое ото всего взвода… – рассказывал дед снова так, как будто все пошли на покос, а остальные куда-то пропали, и вот они втроём вернулись.
Один раз, после того как очередной дедовский взвод растрепали в пух и прах возле очередной высотки, дед вернулся на позиции с пулемётом, но без станка. Потерял в аду.
Куда делся расчёт, деда не спросили – понятно куда, – а вот за станок вызвали в спецотдел, и там какой-то тип орал на деда, что отправит его под трибунал за эту железяку Понятное, впрочем, дело – запчастей не напасёшься, если их на поле боя оставлять. Без иронии говорю.
В советской школе, когда нам задали написать сочинение о том, как воевали наши деды, я взял и описал этот случай. Мама моя прочла и говорит: а ты допиши, что он после этого разноса пошёл на поле боя и оттуда эту железку приволок. Я и дописал, хотя действительности это не соответствовало. Учительница всё равно как-то скептически оценила нашу окопную правду. Что она понимала вообще…
– Дед, как же тебя не убили? – спрашивал я, любопытный подросток.
– А я не ленился никогда. Ни разу за всю войну, – отвечал он очень серьёзно и начинал рассказывать о каких-то, как мне казалось в детстве, совсем неважных вещах. – Если в атаке взвод ложится – иные падут плашмя и лежат как мешки, а я сразу доставал лопатку, окапывался, потом выкачу «максим», и… – тут он изображал несколько раз изуродованными на пилораме большими пальцами, как нажимал на гашетку, – та-та-та…
– Или если мороз, или сырость, промокнем, промёрзнем – я всегда при первой возможности портянки высушу, сапоги высушу… Это строго! Потому что и больной – не солдат… И пьяный – не солдат… Лениться нельзя.
Слушая это, я немножко подёргивал плечами: нет бы дед рассказал, как он ловко кидал гранаты и как метко стрелял. (А он метко стрелял и даже отпуск за это получил однажды.) Но ему всё это казалось менее важным.
И я потом понял, что он был прав. Но это потом, потом.
Насмотревшись фильмов, я всё спрашивал: а остались ли у деда друзья после войны. Дед отвечал просто: что, когда после ранений возвращался в свою роту, состав был, кроме двух-трёх человек, иным. Все остальные погибли.
Он почему-то вспоминал только одного солдатика – которому оторвало по колено ногу, и дед его вынес из-под обстрела, после чего добрый час, по какому-то болотистому лесу тащил его до, не знаю, санчасти, что ли.
…Это я тоже хорошо видел: дед на закорках тащит человека без ноги по лесу…
После войны, когда я уже родился, дед вдруг как-то захотел разыскать того солдатика, запросы какие-то посылал. Никто не откликнулся.
Дед ещё успел повоевать в составе десантной разведывательной группы – и три или четыре раза побывал за линией фронта, с разведкой, уже без пулемёта. А потом исхитрился и закосил месяца на три в какое-то, подальше от передовой, чуть ли не хозяйственное подразделение.
Из чего я еще в юности заключил, что война есть война, и там тоже есть всякая жизнь. И люди на войне не только бегут в атаку с криком «Ура!», но и многому иному место находят…
Но потом деда снова вернули на передовую вместе с пулемётом. Он участвовал во взятии Будапешта – одном из самых кромешных побоищ Второй мировой; получил за это очередную медаль.
Победу встретил в Венгрии, что, впрочем, завершения войны для него вовсе не означало. Отчего-то дед пробыл в действующей армии аж до 1947 года и последующие полтора года провёл на Западной Украине.
К немцам дед, надо сказать, отчего-то относился равнодушно, но вот «бандеровец» у него всегда было словом ругательным. Однако ж о том, что творилось на Украине, дед как-то не говорил. Будто брезговал… Или их попросили ещё тогда, в 1947-м, на этот счёт помалкивать?
Что ж я не поинтересовался-то, дуралей.
Когда дед вернулся домой, родная мать его не узнала. Он писать не умел, поэтому писем всю войну не писал. И ему не писали, родители тоже грамоте были не обучены.
Попросить, что ли, было некого?
К тому же на деда за семь лет пришло две похоронки. После первой похоронки (когда его контузили) кто-то спустя год передал весточку, что вроде жив. А после второй никаких вестей так и не пришло. Удивительные люди – русское крестьянство, какие-то другие смыслы они вкладывали в слово «жалость», в слово «материнство», в слово «судьба». И в слово «война» тоже.
Ну вот какой факт: их, Нисифоровых, было четыре брата, мой дед – второй по старшинству. Все четверо воевали. Младшие, хоть один в 44-м, другой в 45-м были призваны, но и те успели пороху понюхать.
И все четверо вернулись живые, на двух ногах и о двух руках.
И наплодили детей – каждый не меньше трёх, – и прожили все по восемьдесят лет с гаком.
А вот невоевавшие их дети оказались послабее породой – если не все, то многие повымерли или спились.
Но это о другом разговор, наверное.
Захар Прилепин, 2010
Олененок и оловянный трубач
Галина Юзефович
Из всех моих родных по-настоящему воевала только бабушка, папина мама Галина Владимировна Шеншева – ее в 43-м досрочно выпустили из мединститута (первый мед осенью 41-го эвакуировали в Уфу – там она и училась два года из трех, без каникул и с двумя выходными в месяц) и 21-летней дурочкой-девочкой-доктором отправили на фронт. Война для нее закончилась в Кенигсберге, в Восточной Пруссии, где, как она рассказывала, канонада была такая, что оперировать было невозможно, земля дрожала (потом, когда бабушка уже умерла, я узнала, что канонаду эту организовывал дед моего мужа, кадровый офицер-артиллерист – он командовал под Кенигсбергом батареей каких-то особо крупнокалиберных не то пушек, не то гаубиц).
Бабушка охотно рассказывала про войну, и рассказы ее всегда были смешными. Про то, как трус-военврач, изображая галантность, пропускал перед собой юных девушек-врачей на минном поле. Как ночью разворачивали госпиталь в роскошном прусском поместье, там же упали и уснули мертвецким усталым сном в одном из огромных залов, и как поутру оказалось, что, разыскивая туалет, бабушка случайно помочилась в шикарную хрустальную вазу (ваза эта – одна из очень немногих вещей, привезенных бабушкой с войны, долгие годы жила в нашей семье под именем «ночной горшок»). Про поле, устланное телами мертвых коров, над которыми кто-то вывел белой краской на красной кирпичной стене Sic transit gloria mundi. Про труп немца, по которому прошла колонна танков, – «ты представляешь, он был такой тонкий, как бумага, но черты лица все равно можно было разглядеть – мы ходили и его пальцем трогали». Про вшей, которых бабушка – девочка из приличной московской семьи, жившая в отдельной квартире на улице Станкевича, да еще и выросшая за границей (ее отец работал в советском торгпредстве), никогда в жизни не видела. Заметив впервые вошь у себя на рубашке, она не поняла, что это – и спросила у подруги, что это за смешная штучка. И конечно, самая лучшая история – про олененка, которого в госпиталь принесли местные жители, и которого бабушка выкормила молоком из бутылочки, выходила и вырастила в роскошного оленя – олененка прозвали Дареный, и он бегал за бабушкой, как собачка. У истории был плохой конец, но мы его редко вспоминали: когда бабушкин госпиталь переводили, ей пришлось оставить Дареного в Кенигсбергском зоопарке, и уже перед самым отъездом она пришла его навестить. Олень был заперт в сарае и услышав бабушкин голос, начал страшно трубить и биться в ворота. Бабушка просила отпереть, чтобы она могла попрощаться со своим питомцем, но служитель отводил глаза и отказывался. Бабушка подозревала, что в голодном Кенигсберге 1945-го года его банально съели, но я никогда не хотела в это верить. Бабушкин госпиталь перевели в Литву, и там бабушка лечила местное население – запуганных женщин и детей (где были при этом мужчины как-то никогда не уточнялось), которые в благодарность поили ее парным молоком и учили литовскому языку. Бабушка до старости знала несколько песенок и поговорок на литовском, а на память о молоке осталась одна фотография, на которой бабушка, непривычно толстая (всю жизнь она была тоненькой – за вычетом тех двух сытных месяцев в Литве), стоит с большой белой крынкой в руках в окружении каких-то незнакомых женщин в платочках.
Словом, никакого особого героизма в бабушкиной войне не было – хотя были истории и про то, как оперировали сутками, для чего выпивали время от времени по ворованной ампуле кофеина. Однажды бабушке нужно было оперировать тяжелораненого офицера, но она до этого не спала уже почти тридцать часов и не могла вспомнить соответствующую фразу из учебника – надо было резать то ли по верхнему краю нижележащего ребра, то ли по нижнему краю верхне л ежащего. И от этого зависела жизнь пациента – если ошибешься, то разрежешь легкое. Бабушка говорила, что тогда впервые в жизни пожалела, что не умеет молиться (спросить-то было некого, да и некогда), но все же сделала надрез – и спасла офицера. Но в среднем героизма не было, как не было и ужаса и крови (говорю ж, почти все рассказы – либо смешные, либо просто занятные), страха, крови. Теперь я понимаю, что рассказы эти были не строго даже про войну, а просто про юность, которая ничего не боится, потому что терять ей, по большому счету, еще нечего. Конечно, из бабушкиного класса (а у них был невероятно дружный класс, который, собственно, составил ее круг общения на всю жизнь – да что там, оба ее мужа были бабушкиными одноклассниками) не вернулись очень многие – в том числе и мальчик, любивший бабушку больше всех других, а по совместительству лучший друг моего дедушки (когда мы уже в моем детстве по дороге в Литву проезжали на поезде через Молодечно, где этот Андрюша погиб, и бабушка, и дедушка всегда замолкали и грустнели). Но это было опосредованным горем, позднейшим, а личные воспоминания были смешные, глупые, необычные. Очень юношеские.
На той войне моя бабушка была из самых молодых – в мае 45-го ей еще не исполнилось и двадцати четырех. А теперь и ее ровесников-то уже давно нет – остались только те, кто был еще младше, еще глупее, еще меньше запомнил, еще меньше боялся. Да и тех совсем мало. Скоро и их не останется – тех, кто попал на войну ребенком, а сегодня стал последним, кто ее помнит. И тогда этот праздник станет каким-то совсем другим, я надеюсь – более личным, а вместе с тем менее героически-глупо-бравурным. В принципе, пора бы.
Леонид Юзефович
В юности мама обожала стихи. На фронт она взяла с собой изданный в довоенной «Библиотеке поэта», в так называемой «Малой серии», томик своего любимого Блока размером в ладонь и, что самое удивительное, привезла его обратно. Эту маленькую синюю потрепанную книжечку я когда-то знал наизусть почти целиком.
Привезла она с фронта и такой же малоформатный блокнотик, куда в начале 1945 года, по дороге через Латвию и Литву (на границах Восточной Пруссии чистые странички в нем закончились), заносила свои нехитрые наблюдения и впечатления. О строжайшем запрете на ведение фронтовых дневников и о том, чем грозит ей ослушание, мама по молодости лет понятия не имела.
Здесь же – ее собственные, тогда же сочиненные стихи, неумелые и трогательные, как все, на чем лежит печать времени. В зрелом возрасте мама этих стихов стеснялась, а под старость и вовсе порывалась блокнотик выбросить, чтобы не оставлять после себя таких следов, и для сохранности я забрал его себе.
Вот одно из оставшихся в нем стихотворений.
- Усатый трубач, оловянный солдат
- Мне тобою в знак дружбы дарён,
- И в мешке вещевом непременно назад
- Привезу я солдатика в дом.
- Отдохнет там трубач, спутник тягостных дней
- И в пути неизменный мой друг.
- Я уверена, станет тогда он живей,
- На трубе заиграет мне вдруг.
- И напомнит о прошлом, о походах былых,
- О друзьях, что погибли в бою,
- И о подвигах славных, о бессмертии их…
- Мне напомнит и дружбу твою.
Стихотворение посвящено некоему С. П. А., но кто он был такой, я у мамы выспросить не догадался и теперь уже не узнаю, но, думаю, отношения между ними действительно были не более чем дружескими. Вывожу это из того, что даритель трубача обозначен всеми тремя инициалами. То есть мама называла его не просто по имени, а с отчеством, и значит, по ее тогдашним понятиям, был он человеком немолодым. Это единственное, что можно сказать о нем почти наверняка.
Зато с солдатиком все, в общем, понятно. Вряд ли С. П. А. взял его с собой на фронт, как мама – Блока. Скорее всего, подобрал в одном из брошенных хозяевами немецких домов. Усы тоже свидетельствуют в пользу гипотезы о его прусском происхождении. Тем более, что в СССР оловянные солдатики, по крайней мере в массовом масштабе, не производились до начала 1960-х. Да и тогда при той степени тонкости, с какой прорабатывались их лица, различить на них усы, даже если они имелись, было затруднительно.
А вот исполнила ли мама обещание и привезла ли солдатика домой – не известно. Блокнотик хранится у меня, но оловянного усача я никогда не видел.
Галина Юзефович, Леонид Юзефович
На меня пришла похоронка
Мой прадед защищал Родину!
В этом году наша страна отпраздновала 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Одновременно по всей России 9 Мая прошла акция «Бессмертный полк», в которой я принял непосредственное участие. Для этого мне потребовалось узнать историю моего прадеда. Я попросил рассказать мне о нем моего дядю, который был с ним лично знаком и которому прадед однажды рассказал такую вот историю.
На фронт я попал летом 42-го. Воевать пришлось в своих родных местах в Липецкой области. Был связистом при штабе. Раз как-то нет связи с батальонами – Александров, наладить! Есть! Бегу по линии связи, вот он, обрыв. Танком порвало. Гусеницами разбросало концы линии в разные стороны. Один даже в небольшой овражек, заросший кустами, забросило. Собрал провода, винтовку, вещмешок положил рядом и присел скручивать концы.
В этот момент резкий удар в спину и вскользь по голове. Кувыркаюсь вперед, голову выворачиваю, фашист – дородный такой, автомат на груди, пилотка моя у него в руках. Вдали еще немцы видны. Пока он непонимающе ее рассматривал, я в кусты и бегом оврагом к своим. На мой вопрос: «А зачем немцу пилотка?» Дед ответил: «Оглушить он меня хотел, чтобы в плен взять. А я в этот момент присел неожиданно, вот пилотка у него в руках и осталась» Прибегаю в штаб, без оружия, без вещмешка и пилотки. Докладываю: «Фрицы справа за оврагом!» Полковник не верит мне: «Панику сеешь! Где винтовка? Где головной убор? Расстреляю, если оружие не вернешь!» Но все же решил проверить, послал со мной старшину.
Тот дал мне гранату, и побежали мы с ним к знакомому овражку. Бежим по нему, пригибаемся, поглядываем иногда из него. А вот и немцы, нас не видят. Старшина дал длинную очередь, я бросил гранату. Взрыв, крики, выстрелы и вдруг тишина. То ли побили фрицев, то ли убежали они. Ноги одного убитого из кустов видны. Старшина мне «Бежим докладывать!» «Не могу, оружие надо забрать, да и вещмешок жалко» – отвечаю.
Он обратно в часть, а я на поиски своего добра. Винтовку, сидор и катушку нашел на том же месте, где и оставил, провода немцы разбросали далеко в разные стороны. Но нашел и, подтянув их, соединил. А пилотки не было, немец, наверно, забрал. Подобрал я все свое добро и другим оврагом обратно в часть. А там все окапываются, к бою готовятся. Но противник не появился, видно, передовой отряд заблудился или разведка была, а мы со старшиной их пуганули. Но полковник больше не ругался. «Молодец!» – говорит.
Дальше осень, отступаем с боями, грязь непролазная, часть попала в окружение. Дали команду: выходить небольшими группами. Идем, патронов нет. Вдруг немцы цепью идут, перекликаются, стреляют на ходу. Все рванули в разные стороны, одни вперед побежали, а я знал – там пустырь, другие в стороны по кустам. А фрицы вот они, рядом. Куда деваться? Упал на землю, винтовку в одну сторону, подсумок с вещмешком в другую. Лежу не дышу. Немец подходит, сапогом в бок. Лежу лицом в грязь, от боли не вздохнуть, но молчу, не шевелюсь. «Рус капут!» Засмеялся и пошел дальше немец. Почему не выстрелил он? Не знаю. Обычно стреляют для проверки. До сих пор задаю этот вопрос себе. Повезло!
В сторону фронта ходу нет. Места знакомые, два дня пробирался в свою деревню. Форму, документы спрятал в сарае за домом, там и одежда старая была. Захожу в хату, а там немцы за столом сидят, жена у печи хлопочет, дети на лавке в углу. Жена моя, умница, все поняла правильно, будничным голосом: «Садись, сейчас накормлю». Немцы покосились и все, ну а чего дергаться – пришел муж с поля и пришел. Сижу, ем, дети рядом (маленькие еще были, ничего не понимали), все нормально. И тут нелегкая принесла мою сестру. Та с порога давай причитать: «Ой, Володенька! Да откуда же ты вернулся!» Немцы, такое дело, за оружие и меня в штаб. Там переводчик: «Кто такой? Откуда?» Говорю, мол, здешний я, скотину гонял за фронт. Не поверили. Раздели по пояс, осмотрели меня, руки обнюхали и в сарай. («Порохом руки пахли», – на мой удивленный взгляд пояснил дед.) А там уже человек десять наших, кто в гимнастерке, кто в шинели, двое в гражданской одежде, как и я. Правда, местных и знакомых никого. Все молчат, угрюмые.
Утром куда-то нас погнали, еды не дали. По дороге еще несколько групп пленных присоединили к нам. На ночь согнали в пустой сарай без верха. Я в углу лег спать на досках. Повернулся, локоть провалился в труху у стены, бревно нижнее почти сгнило. В темноте расчистил углубление под бревном, да и забился туда, габарита я небольшого, доски на себя натянул. Рано утром всех подняли, бегло осмотрели сарай, пересчитывать не стали, построили колонной и дальше погнали. Немцы так аккуратисты, а тут то ли торопились, то ли еще что. Опять повезло!