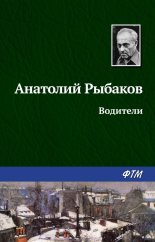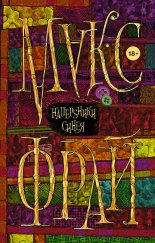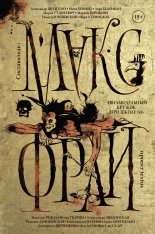Как мы пережили войну. Народные истории Прилепин Захар

Вдалеке от дома в тяжелой работе прошло несколько лет. Я часто вспоминал мой родной край, небольшую деревню, Герутево, Гродненской области, в которой родился и вырос, в которой остались мои родители, молодая жена, Нина, и сынишка, Анатолий. Как они, живы ли? – часто задавал я себе вопрос, но не находил ответа. По радио передавали сводку об оккупации Белоруссии, продвижении немецких войск на восток и ожесточенных боях Красной армии. Меня неутомимо тянуло домой, и мысль о побеге не покидала ни на минуту.
Мы решили бежать вместе с моим товарищем, Андреем Матяс, с которым были родом из одного края. Собрав накануне немного провизии, мы покинули хутор и незаметно, короткими перебежками добрались до леса. В лесу бежали быстро, не чувствуя ударов веток. В голове была только одна мысль – убежать как можно дальше, чтобы на утро нас не догнал конвой. Но, по всей видимости, хозяин не стал сразу заявлять о нашем побеге и нам удалось затеряться в лесной чаще. Так начался наш путь домой. По территории Германии мы шли лесами, ориентируясь по звездам и мху. Но через несколько дней мы с товарищем заспорили о правильности выбранного направления. Я хорошо ориентируюсь в лесу и был уверен в точности запланированного мною пути. Однако Андрей решил идти иной тропой. Так мы расстались и каждый пошел своей дорогой. Около границы между Польшей и Германией я пристал к обозу с продовольствием, чтобы преодолеть блокпосты и заставы. Я неплохо говорил по-немецки, хорошо знал польский язык и представился польским крестьянином. Не вызвав подозрений и благополучно миновав границу, я поблагодарил крестьян и пошел своей дорогой. Но не все так благополучно было на моем пути. Однажды, на дороге, около небольшой деревни, я подошел к польскому крестьянину, чтобы уточнить дорогу на Белосток. Вероятно, крестьянин что-то заподозрил и начал громко звать на помощь. Я пригрозил ему, сказав, что убью, если он не замолчит. Но мои угрозы оказались тщетны – крестьянин не унимался. Я несколько раз ударил его кулаком по голове и бросился в лес что было мочи. Через некоторое время вдалеке за спиной я услышал обрывки немецких фраз и лай собак. По всей видимости, немцы увидели бесчувственного крестьянина со следами ударов и бросились за мной в погоню. Голоса быстро приближались. Что делать? Погоня близко? – думал я. Вдруг я увидел волчью нору. Без промедления я забрался в нее. На мое счастье волка в норе не было. Я затих, чуть дыша и не шевелясь. Немцы пробежали совсем рядом от моего убежища, но собаки не взяли след. Запах волка перебил запах человека и конвой пробежал мимо. Опасаясь новой облавы, я просидел в волчьей норе весь день и только ночью вылез из нее, мысленно поблагодарив «хозяина» за спасение.
Я шел по чужой стороне под защитой густых лесов. Мне помогал случай и помощь добрых людей и через две недели я пришел домой, в свою родную деревню. В предвкушение скорой встречи с семьей я чуть не потерял бдительность и не попал в руки к немцам. Как выяснилось, в деревне обосновались немецкие солдаты. Большинство юношей и мужчин призвали в ряды Красной армии, многие ушли в партизаны. В селе остались только женщины, старики и дети. Я на несколько часов зашел домой, обнял родителей, жену и сына и ушел к партизанам в лес. Леса у нас густые, болотистые. Немцы боялись прочесывать лес, и партизаны уверенно обосновались в землянках. Посыльные периодически предавали нам весточки из дома и снабжали продовольствием.
Наш небольшой партизанский отряд под командованием Николая Дышливого совершал набеги на немецкие обозы с оружием и продовольствием. Однажды партизаны из нашего отряда убили одного из немцев. На следующий день фашисты вывели жителей села из домов и сказали, что если не сдадутся виновные в смерти, то всех жителей расстреляют, а деревню сожгут дотла. Делать нечего, чтобы сберечь мирное население двое партизан сдались немцам и были расстреляны на глазах у жителей. Однако, фашисты не пощадили мирных жителей и для устрашения расстреляли еще трех стариков и четырех женщин.
Прошло два года. Только в 1944 году после освобождения Беларуси от немецких захватчиков партизаны смогли вернуться в родные дома. Всех бывших партизан зачислили в ряды Красной армии.
Первоначально каждый из партизан заполнил анкету, в которой необходимо было указать не только автобиографические данные, но и свой боевой путь. Через день меня вызвали на допрос. Я не скрывал, что в 1939 году был призван в ряды Польской армии, что провел несколько лет в немецком лагере для военнопленных, рассказал о том, что работал как раб на хуторе у немецкого хозяина и о том, что при первой возможности бежал из плена. Заключение следствия было жестким: я был направлен в лагерь для бывших военнопленных.
Шел 1944 год. Впереди меня ждала неизвестность. Утешало одно – я на родной земле! Под конвоем меня доставили на станцию и затем переправили в лагерь, расположенный в Сталиногорске (ныне Новомосковск) Тульской области. Долгих три года я работал в забое на шахте. Каждое утро построение, переклички, а по ночам проверки и допросы, до двенадцати раз за ночь. Ужасные условия труда, отсутствие техники безопасности. В переполненном бараке люди умирали от голода и истощения.
На шахтах, вместе с пленными, но на более легких участках работали местные жители. С одним из них мы подружились: я рассказал ему о своей семье, о родном крае, о том, как под гнетом польских панов долгие годы жила моя Родина, как жестоко обращались с белорусами и их детьми польские хозяева, как уничтожали культуру, насаждали свои порядки и язык. Мой товарищ морально поддерживал меня, делился со мной куском хлеба и верил, что наступит день освобождения, когда я смогу вернуться домой.
Домой я вернулся в 1947 году благодаря стараниям и любви моей жены. Именно она все эти годы ходатайствовала о моем освобождении перед партийными и военными органами власти. Неоднократно она писала письма на имя военкома с просьбой пересмотреть мое дело, в котором подробно указывалось, что в 1939 году я был призван в Польскую армию и не предавал Российского государства, так как был подданным другой страны. О моем освобождении также ходатайствовал бывший командир партизанского отряда, Николай Дышливый.
После возвращения домой я вступил в партию и начал восстановление сельского хозяйства на должности бригадира колхоза.
Сегодня, я в окружении своих пятерых детей и внуков я вспоминаю о тех далеких днях, рассказываю им о войне, о страшном времени, чтобы берегли мир, уважали свои семьи, любили Родину и помнили, что только в единстве наша сила!
Самущик Иван Павлович, 1910 год рождения. Деревня Герутево, Гродненская область. Беларусь
Гордая и стыдливая любовь
Украина. Страшные времена оккупации
Когда началась Великая Отечественная война, нашей маме было 27 лет, мне три с половиной года, а сестре год и восемь месяцев.
Отца призвали 28 июня и отправили в Винницу на формирование то ли команды, то ли эшелонов. Каким-то «бабьим чудо-радио» маме передали, что отца должны отправить через день дальше, на фронт. Она, оставив детей на родителей, рванула в ночь в Винницу пешком, так как поезда уже не ходили. А это все-таки почти полсотни километров, даже если по полям, а не по шпалам. Время было непростое, путники в дороге могли повстречаться всякие, и как мама уцелела, никто не знает, кроме нее самой.
А вскоре пришли немцы и румыны, так как юго-запад Украины попал в смешанную немецко-румынскую зону оккупации.
Перед тем как наши войска оставили наше село, я находилась у бабушки по отцовской линии в другом селе, которое отделяла от нашего села большая гора совсем без растительности, всеми называемая Горб. Увидев уходящих солдат, мама испугалась, что я остаюсь без нее, и бросив младшую Веру на своего отца Якова, побежала забрать меня домой. И вот, когда она со мной на руках бежала по этому пустому Горбу, над ними появился немецкий самолет. Немецкий летчик изобразил пикирование, как я теперь понимаю, но не стрелял. Мама бросилась на землю, закрыла меня своим телом и замерла. Самолет вроде бы улетел, но стоило маме подняться, как немец вновь прилетел. И так повторялось несколько раз. В полуобмороке от ужаса мама со мной пролежала, не двигаясь, до самой ночи, хотя немец уже давно улетел. Начались страшные дни оккупации.
Мама всегда поддерживала в доме идеальный порядок. Но, немцы начали становиться на постой, и чтобы хотя бы как-то обезопасить себя, мама быстро набросала на пол и лавки всякого мусора и даже навоза. Сама она оделась в рванье, больше подходящее для огородного пугала, чем для молодой и красивой женщины, какой мы всегда считали маму.
Немец вошел в дом, сказал традиционное: «Млеко, яйки» – взял что хотел, а потом подошел к матери, которая с ужасом прижимала к себе нас с сестрой ни жива ни мертва. Он брезгливо показал на весь набросанный мамой на пол и на лавки мусор, сделал вид, что ударил ее по вымазанным сажей щекам, и что-то сказал, типа: «Швайн!» или «Шлехт!» Вдруг младшая сестра расплакалась, и громко, сквозь рыдания, спрашивала: «Чого вин горгочыть, як гусак?» – то есть «Чего он гогочет, как гусь?» я, как старшая, потупив глаза, молчала. Я вообще в детстве не умела, по-моему, плакать.
Немец наставил свой автомат на сестру, что-то крикнул, добавил: «Пух-пух!» – засмеялся, еще раз изобразил маме пощечину и вышел. К маме на постой так никого не поставили.
Что может перенести мать, любая, не только наша, когда на ее ребенка наставляют автомат и чего-то требуют? Какие силы нужно иметь в это мгновение, чтобы и не упасть без сознания, и не вцепиться в глотку этому такому страшному уже своим чужестранством и неприятием, чтобы хоть как-то защитить своих детей!
По приказу мамы, на кухне, в ящичке стола всегда лежал десяток яиц, а на столе стояла «глечик» – крынка с молоком, которое мы не имели права трогать. Любой немец, румын или местный полицай, которые уже появились, входя в дом, подходил к столику, забирал что хотел, выпивал молоко, пытался о чем-то заговорить с детьми и уходил. Мама была обязана ходить на полевые работы, за опоздание били нагайками, дети оставались одни, иногда их прибегали проведать мамины родители.
Совсем зимой, когда куры несутся мало, яиц стало мало, мама придумала такой способ укрывания яиц от немцев: их все спрятали на чердаке, где всегда холодно, и яйца замерзали. Брала их мама по потребности 1–3 штуки для детей, сама она их точно не ела, не считала возможным. Кто эту тайну узнал и донес немцам, непонятно, но пришел немец, мама была на работах, и наставив автомат на меня, приказал лезть на чердак: «Яйки, давай, шнель!» Сам он не полез, все немцы очень боялись партизан. Я полезла по стремянке, «драбыне» по-нашему, на чердак, но яйца брать не собиралась, просто посидела у теплого «лежака»-дымохода и слезла обратно к немцу. Я, ребенок, развела руками и сказала: «Нет яйки, нет яйки!» Странно, но немец мне поверил.
Корову, кормилицу семьи, спрятали в коморе, за занавеской, там было темно, немцы туда заходить боялись. Корова как будто понимала все, вела себя тихо и не ревела никогда.
Однажды, в первые месяцы оккупации, кто-то из «добрых людей» донес румынам, которые стояли в селе, о корове, пришел румын и повел корову на станцию Фердинандовку, за три километра, где формировали эшелон для отправки в Германию. Как мама узнала об этом, не знаю, но она прилетела с поля, где работала, когда корову уже выводили со двора, и почти всю дорогу до станции шла рядом с коровой, причитая и упрашивая румына: «Киндер, млеко, пан, пожалуйста, голод, помрем, отдай корову!» Где-то за полкилометра до станции румын не выдержал маминых причитаний и вернул корову маме, и она огородами и оврагами, лесочками повела корову домой, чтоб не дай Бог, не увидел кто-то со «злыми» глазами. А «злые» глаза были, кто-то верил, что немцы пришли навсегда, и пытался наводить «новый порядок», кто-то отдавал своих дочерей и сыновей на работу в Германию, ведь за это немцы выделяли сколько-то десятин земли.
Родителям после женитьбы под дом выделили участок из бывших до коллективизации земель соседа слева, который после прихода немцев стал полицаем и активно старался помогать немцам. И теперь он начал требовать, чтобы мама вернула ему все земли, ранее ему принадлежавшие, потому что ее муж в «Красной банде». И началось!
Сначала в окно кухни среди ночи бросили огромный булыжник, и он только случайно не упал на маму, прикорнувшую на лавке. Мама вскочила, рванулась к нам, спавшим на печи, и там просидела всю ночь до утра, прижимая к себе детей и ожидая чего-то самого страшного. Там их и застал дедушка Яков, пришедший проведать их. Они с бабушкой регулярно это делали, хотя у самих тоже хлопот хватало – приходилось прятать младшего сына Сашу от Германии: в свои 14–15 лет он был рослым и выглядел старше. Не помню, где и как его прятали от немцев, и Сашу обошли все беды, и оккупацию он пережил, а погиб после призыва в армию в 18 лет, в первом же бою под Перемышлем, сейчас это уже Польша.
Тогда сосед наш огород отобрал и посадил на нем картошку. На мамин вопрос, чем ей детей кормить, с ухмылкой ответил: «А ты их корми коммунистическими идеями!» В отчаянии мама ночью выкопала эти посадки и засеяла рожью, но он бросился на нее с лопатой и даже ударил несколько раз. К счастью, дело происходило днем, и спасибо люди усовестили его, и он отступился. Но не успокоился…
Я как старшая в отсутствие мамы, гоняла воробьев с грядок, расположившихся почти на самой границе участка, рядом с землей этого соседа. Вот этот урод ночью специально разбросал вокруг грядок битое стекло, и я так сильно порезала ногу, что мама боялась, что повреждены сухожилия, и я на всю жизнь останусь хромой. На этот раз все обошлось, но мама понимала, что ее в покое не оставят, и не знала, что делать. Добрый человек посоветовал маме обратиться с жалобой к начальнику полиции в Немиров. Он якобы многим помогал. Мама отнесла в платочке начальнику полиции все, что могла: яиц, шмат сала. Как сама рассказывала, долго плакалась ему, что одна с малыми детьми живет, от мужа ничего нет, и жив ли он, она не знает, просила помочь, чтобы над ней хотя бы не издевались. Начальник полиции ничего у нее не взял и пообещал помочь. После этого визита маму и правда оставили в покое.
Уже в 60-е годы, когда вышли мемуары А. Безуглого о винницком подполье, мы узнали, что этот человек, капитан Красной армии, Леонид Ведыбеда, был подпольщиком, и потом в 1943 году его замучили в гестапо.
А из всех тех, кто издевался над мамой и такими же солдатками, никто в живых не остался: кого убили дезертиры-лжепартизаны, как и нашего соседа, а кого после освобождения призвали и как сдавшихся в плен направили в штрафбат, где они и погибли. Лжепартизан тоже всех пересажали или расстреляли. Вот такая жизненная и историческая справедливость!
Перед освобождением весной 1944 года опять начались бои, и немцы поставили танк за нашей хатой в лесочке. Началась артиллерийская перестрелка, в доме оставаться было очень страшно, мама схватила нас даже не одетыми, и мы спрыгнули в яму во дворе, где хранилась картошка. Было очень сыро и холодно, а вылезть страшно. Там нас и нашел дедушка Яков.
Мама еще раз ходила на свидание к отцу, уже после освобождения, и прямо на фронт! Как отец дал знать маме, что он находится рядом с домом, буквально в 35–40 километрах южнее, где-то в районе станции Каролина, не знаю, просто назвать место он не мог, видно, с кем-то передал эту сумасшедшую новость, ведь практически три года она о нем ничего не знала. Мама опять оставила детей на родителей, а сама снова пешком рванула на свидание к мужу По ее рассказам, поход был очень жутким, они шли группой, но не все знали друг друга, были и незнакомые. Под самым райгородом к ним пристал какой то мужик и начал расспрашивать, куда идут, да к кому, да где часть мужа стоит. А потом этот мужик пропал, но началась бомбежка, и они очень перепугались, что это немецкий шпион, и их тоже могут арестовать, и главное, не пустят повидаться с мужем. Вот это ее больше всего волновало, а страха за свою жизнь совсем не испытывала.
Приехала мама в часть. Отцу сообщили, что жена приехала. Смотрит Евдокия: идет ее Федор, красивый, подтянутый, стройный, с белым воротничком. Она же с дороги – грязная, голодная, немытая… Вручила ему сало, что привезла, и говорит: «Хорошо, что повидала, мне к детям пора». Он взмолился: «Да куда ты? У нас тут можно переночевать, помыться, нам комнату выделят». Развернулась: «Там дети одни» – и, обливаясь слезами, ушла. Вот такая любовь была. Гордая и стыдливая.
Вот прожили мама с татом до маминой кончины 1 января 1983 года почти полвека. И не слышала я от них слов любви друг к другу, и всякое было в их отношениях… но вот эти истории о походах мамы на фронт, мне кажется, маму характеризуют с такой стороны, что и никакие разговоры о любви тут уже и не нужны. Да и не приняты они были в их время, к большому сожалению! Отец же после маминой смерти прожил один 17 лет, а перед своей кончиной за два месяца начал искать маму.
Сохранилась фотография, которую мама отсылала отцу на фронт. Эту фотографию отец привез с собой с фронта. Мама на фото в вышитой мелкими цветочками по вороту и на рукавах льняной домотканой сорочке, возможно даже в той, в какой она выходила замуж. Я и Вера стоим в каких-то, по-моему цветастых одинаковых платьицах и в старых туфельках. Я была почти на голову выше Веры, и на голове у меня бант.
Отца демобилизовали только в сентябре 1945 года, с собой он не привез каких-либо трофеев, только хорошую опасную бритву и какие-то кожи на сапоги. Эти куски кожи так и валялись потом в коморе, и ничего путного он из них не сделал. Да он и потом как ветеран войны никогда не пользовался льготами, которые ему причитались, и от талона на автомашину тоже отмахнулся. Такой был человек.
Когда отец пришел домой, мама работала в поле, я пасла корову далеко, аж на Горбе, дома оставалась только младшая Вера. Увидев расхаживающего по двору дядьку, она тут же по моей инструкции закрылась в доме и не отвечала на призывы отца открыть. Она же отца фактически не помнила, а от меня имела строгий наказ: «Никого в дом не пускать, что бы кто ни говорил!» Увы, чужой усатый дядька не уходил, и Вера тайком вылезла через застреху сзади дома и рванула ко мне с докладом.
За то, что Вера бросила дом и хозяйство на чужого дядьку, я тут же надавала тумаков сестре, схватила корову за веревку-»налыгач» и пошла «спасать» дом. Вера плелась сзади, подгоняя не желающую уходить голодной корову, и ревела вовсю от обиды на сестру и чужого дядьку, и что мамы нет, и пожалеть некому, а наоборот, от мамы за все еще будет добавка. Вот так почти одновременно мы и подошли все ко двору: и прилетевшая с поля мама, которой тоже сказали, что отец вернулся, и я, и заплаканная Вера, и голодная корова. Я отца помнила и тут же бросилась ему на шею, мама, естественно, тоже с другой стороны. А Вера, получив свои поцелуи и подарки, еще долго исподлобья присматривалась к этому усатому дядьке, который оказался ее «татом», то есть отцом. Отец на фронте отпустил усы, потом он их сбрил.
Когда отец пришел с фронта, точнее демобилизовался, мне было 7 лет и восемь месяцев, а Вере – 5 лет и десять месяцев! Может ли кто-то даже представить детей в таком возрасте и с такими взрослыми обязанностями! А ведь это происходило с нами! И не дай Бог когда-либо этому с кем-то повториться!
Размышляя о том тяжелейшем для нашего поколения детстве, которого, собственно, и не было, я задумываюсь, каким крепким жизненным стержнем мы обладаем, перенеся все это, каким жизнелюбием мы сильны!
Вы, сегодняшние, можете себе представить двух маленьких, детсадовского возраста девочек, содержащих дом, помогающих маме, отстаивающих свой дом от оккупантов! Не дай Бог кому-либо такое пережить!
Анна Федоровна Гончаренко
Не убивайте мою маму!
Памяти моей мамы, Лилии Андреевны Гавриленко, посвящается
Я очень хорошо помню, что мы всей семьей смотрели по Центральному телевидению (это было в начале 1980-х годов) один из фильмов двадцатисерийной киноэпопеи Романа Кармена «Великая Отечественная». Сменялись документальные кадры, рассказывающие об оккупированной Белоруссии, зверствах фашистских захватчиков, партизанском движении… И вдруг мама увидела родные места, услышала названия знакомых деревень – Чернея, Зеленка, что на Витебщине. Она разволновалась, ведь на экране увидела то, чему была свидетелем, что крепко-накрепко врезалось в память: пепелища сожженных гитлеровцами деревень, бомбежки, расстрелы мирных жителей и много другого, что связано со страшным словом «война».
Мы с младшей сестрой заметили переживания мамы, стали расспрашивать и впервые в тот вечер узнали, какие испытания выпали на долю маленькой девочки Лили.
Мама родилась в 1936 году в Белоруссии, в Витебской области, Полоцком районе, в деревне Зеленка. Роды были очень тяжелыми, помогали их принимать две еврейские женщины – мама и дочь. Со слов бабушки Любы, мама рассказывала, что, когда она, наконец, появилась на свет, одна из женщин воскликнула: «Ты посмотри, какая хорошенькая девочка, настоящая Иечка!» Маму назвали Лилия, а чуть позже при крещении дали имя Ия. Когда пришли фашисты, этих женщин расстреляли…
Через год, в 1937-м, по ложному доносу арестовали отца девочки Андрея Сергеевича. Мама Лили, Любовь Георгиевна, несколько раз ездила в Полоцк, пытаясь добиться свидания с мужем, но следователь строго предупредил: «Еще раз появишься, арестуем и тебя. Дочка сиротой останется». В декабре «тройка» приговорила Андрея Гавриленко к высшей мере наказания за антисоветскую агитацию. В январе 1938-го его расстреляли. Только через 30 лет Лилия Андреевна добьется реабилитации отца. Но это будет много позже…
После ареста мужа Люба с дочерью перебрались к бабушке (маме Любы) Домне Наумовне в деревню Дмитровщина. Здесь и застала Лилю война.
Летом 1941 года восприимчивый ум маленькой девочки запечатлел отступление наших бойцов перед значительно превосходящим в живой силе и вооружении врагом. Видела, как упал солдат в поле за околицей, совсем рядом с их хатой, и мимо прогрохотал танк – для нее непонятное, ужасное чудовище. Когда утихла стрельба, мать Лили подобралась к солдату и взяла его документы, чтобы при случае передать их родным воина. Парень оказался с Урала. Родные его только после войны, благодаря Любови Георгиевне, узнали, где похоронен солдат, вместе с другими, отважно принявшими первый удар фашистской машины.
А еще память девочки хранила страшный день, когда они с бабушкой сидели в яме из-под картошки. С чердака их дома, где засел гитлеровец, строчил пулемет. Горячие гильзы падали прямо в яму. Где-то недалеко рвались бомбы и снаряды.
Практически с самого начала войны Дмитровщину занимали оккупанты. Вот что рассказывала мама. Местные жители относились к ним настороженно, однако не предпринимая никаких решительных действий. Немцы же вели себя достаточно спокойно, показывали свои семейные фотографии, угощали деревенских детей шоколадом. Однажды и Лиля принесла домой шоколадку угостить родных. Мать же ее выпорола, чтобы впредь ничего не брала у врага.
По выходным немцы устраивали танцы под патефон. Как это ни парадоксально звучит, но некоторые местные девушки на эти танцы ходили, а потом подругам рассказывали, что немцы воспитанны, хорошо танцуют. Завязывались даже короткие романы. К этому факту можно относиться как угодно, но это было!
Через небольшой промежуток времени «воспитанные» немцы передислоцировались, а на их место пришли гестаповцы. Вот с этого момента Лиля почти не видела мать: она ушла в партизанский отряд. Люба, выполняя специальные задания, ходила в населенные пункты, где базировались немецкие гарнизоны и полицейские управы, помогала пленным красноармейцам и однажды даже обеспечила побег к партизанам группе военнопленных. Вместе с ними в лес пришел и немецкий солдат-антифашист Карл.
В партизанском отряде воевали и дед Лили, Иван Ильич, и дядя Володя (брат Любови Георгиевны), который впоследствии сражался в составе 1-го Белорусского фронта и участвовал в штурме Берлина. Даже бабушка Лили, Домна Наумовна, тоже, как могла, помогала партизанам. На старенькой швейной машинке «Зингер» она чинила им одежду, шила белье…
Об одном из эпизодов своего военного детства мама долго не решалась рассказывать.
Среди местного населения нашлись желающие служить полицаями при немцах. Кто-то из них и сообщил, что бабушка Люба связана с партизанами. Однажды в хату Домны Наумовны пришли гестаповцы. Любовь Георгиевна только что вернулась после выполнения очередного задания партизан. В дороге ее задержал немецкий патруль, но молодой красивой женщине удалось отвести от себя подозрения.
И вот фашисты ввалились в дом и пролаяли на ломаном русском: «Ты – партизан! Выходи!» – указывая на Любу. Маленькая Лиля вырвалась из рук бабушки Домны, выбежала из хаты и бросилась к немцу, который уже целился из автомата в Любу. Девочка изо всех силенок обхватила начищенный до блеска сапог и закричала: «Не убивайте мою маму!!!» Фашист отбросил ребенка в сторону. Любовь Георгиевна подхватила дочку на руки. Раздался выстрел. Пуля просвистела совсем рядом с женщиной…
Бабушка Люба
Немцы предупредили, что в следующий раз расстреляют по-настоящему. За несколько часов Люба с матерью собрали нехитрый скарб. Когда стемнело, вывели из сарая корову, погрузили на нее «зингеровскую» машинку и ушли в лес к партизанам. На следующий день немцы сожгли их хату дотла…
Вот в этом страшном месте хотелось бы сделать паузу и подумать о следующем. Невозможно себе представить, что, если бы события повернулись иначе, не было бы на свете ни моей мамы, ни нас с сестрой, ни наших детей, четверых девчонок и мальчишек, один из которых является полным тезкой своего прадеда, Андрея Сергеевича. Вот такое преломление одной частной истории во всей истории Великой Отечественной войны…
…Впереди у Лили была нелегкая жизнь в партизанском отряде: спали на еловых ветках, вместо чая заваривали хвою. Затем девочка с мамой оказались в полном беженцами Смоленске. Здесь Лиля серьезно заболела. Любовь Георгиевна, благодаря тому, что шила одежду жене военного врача, смогла раздобыть антибиотики, которые и спасли девочку.
После освобождения Белоруссии от фашистов семья Лили вернулась в родную деревню. Жили на первых порах в землянках, а в школе-четырехлетке один учебник был на десятерых…
…Со временем Лилия Андреевна стала врачом, вышла замуж за морского офицера и приехала в столицу Северного флота – Североморск. Мамы уже нет с нами. Благодарные пациенты помнят ее до сих пор. Мама часто говорила, что слова «Спасибо вам, доктор!» – самая лучшая награда. Я иногда думаю, не оттуда ли, из военного детства, желание мамы стать врачом и помогать людям?
Навсегда моя память сохранит образы моих героических мамы и бабушек, вынесших на своих плечах все тяготы военной поры. Им я посвящаю этот рассказ.
- Я зарастаю памятью,
- Как лесом зарастает пустошь.
- И птицы-память по утрам поют,
- И ветер-память по ночам гудит,
- Деревья-память целый день лепечут…
- …Но в памяти такая скрыта мощь,
- Что возвращает образы и множит,
- Шумит, не умолкая, память-дождь,
- И память-снег летит и пасть не может…
Солнцева Юлия Николаевна
Австрийцы прогнали финнов
Военное детство в Русском Броде
Я родился 28 апреля 1939 года в селе Русский Брод. Отец – Рязанцев Максим Никитович, родился в 1913 году, был журналистом. С 1941 по 1946 год находился в рядах Советской армии, сначала политруком роты, потом командиром зенитной батареи. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Мама – Дедовская Матрена Корнеевна, родилась в 1917 году в деревне Малый Кривец Русско-Бродского района, была учительницей истории. Брат мой Юрий родился 24 августа 1941 года, спустя два месяца после начала войны, был шофером. Село Русский Брод и деревня Малый Кривец стоят на речке с поэтическим названием Любовша, которая впадает в речку Труды, а та – в реку Сосна, которая протекает через город Дивны. Сосна впадает в Дон. Село Русский Брод и деревня Малый Кривец стоят на месте, которое близко к вершине Среднерусской возвышенности, являющейся водоразделом между бассейном Дона и Оки. Природа здесь хорошая. Иван Иванович Акулов, участвовавший в боях с немцами в 1941 году за Русский Брод, так описал наши места в книге «Крещение» (Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1971): «Тут нет кондово-крепкой обустроенности, зато есть милая и открытая простота. Поля подходят едва ли не к самому крыльцу дома, а яблоневые сады начинаются у самых окон – и кругом простор и ширь, и голоса идущих еще где-то далеко по полевой дороге слышны в деревне, и это делает мир доверчивым, близким, давно и надежно обжитым.
Орловщина! Милая от Сотворения мира русская земля. Благодатные просторы, увалы, овраги, дубовые перелески и леса. Опять овраги, чистые ручьи, речки и реки! Весной, когда начинает тлеть дубовый лист-падунец, когда источает он под легкие и теплые туманы густой аромат, в дубовые рощи прилетают соловьи, и кажется, поет об эту пору вся орловская земля, кажется, нет на свете прекрасней земли, кажется, нет счастливей людей, что живут на этой земле.
А деревни, разметанные по оврагам, бедны и убоги, дорог нет, в глубинных районах угадывается щемящая душу оторванность от всего мира. И бедность эта понятна: Орловская и смежные с ней губернии извечно кормили две русские столицы, все отдавали им, от хлеба до работника».
Предки мои крестьяне. Дед Никита погиб в Первую мировую войну. Бабушка, мать отца, Ульяна Климентьевна, прожила около 80 лет. У моего отца был брат по матери Иван Никифорович Круподеров, который после окончания военного училища в Средней Азии стал командиром пулеметного взвода и погиб на Украине в 1942 году. Ему было всего 18 или 19 лет.
Второй дед, Корней, отец мамы, не воевал, так как имел многодетную семью: моя мама была самой младшей – четырнадцатой в семье!
Себя маленьким помню мало. Немного помню короткое время (около месяца), когда в нашей избе жили немцы, а точнее австрийцы. По рассказам бабушки и мамы, немцы вошли в село 21 ноября 1941 года по дороге Дросково-Русский Брод, а наш дом стоял на пересечении ее с дорогой Ливны – Верховье. Так что наш дом они никак не могли миновать. Перед этим мама с грудным Юрой на руках, бабушка и я перебрались по железнодорожному мосту (через реку Любовшу) в ту часть Русского Брода, которая называется Борки (Музалевка). Остановились у родственников.
Был конец ноября, стояли холода, и на реке появился молодой лед. Бабушка очень переживала за хату и корову. Так как немцы мост охраняли, она по тонкому льду перебралась на свою сторону и заросшими огородами дошла до дома. В доме – немцы, холодно. Бабушка разожгла печку, накипятила воды. Немцы говорят: «Гут, матка, гут». Наливают кружку кофе, добавляют рому и дают бабушке: «Пей, матка, пей». Бабушка поблагодарила и выпила. Надо сказать, что по чуть-чуть выпивать она любила. Вскоре мама, Юра и я также перебрались домой. Австрийцы нас не обижали. Однажды «австрияка Миша», как рассказывали мама и бабушка, стал дразнить меня конфетой, я разозлился и закричал: «У, фашист проклятый!» «Миша» засмеялся и отдал мне конфетку; мама и бабушка сильно испугались и укоряли меня, чтобы я так не смел говорить. В конце села, который обращен к Верховью, стояли финны. Люди удивлялись, как быстро они скользят на лыжах вниз по улице. Они были очень злые. Однажды финны пришли к нам и стали уводить корову на мясо. Бабушка вцепилась за повод и не дает уводить корову. Финн наставил на бабушку штык. На шум вышли австрийцы и прогнали финнов. Корова им самим была нужна – молоко они добавляли в кофе. Кроме того, они пожалели малолетних детей. Все равно корова вскоре погибла от бомбы. В наших местах воевала немецкая 45-я гренадерская пехотная дивизия, которая первой вошла в Варшаву и Париж. Ее очень отличал Гитлер, тем более что она в основном состояла из австрийцев. Как известно, Гитлер был австрийцем. Возможно, наши постояльцы оказались из этой дивизии.
Произошло несколько случаев, когда после долгого отсутствия мужчины возвращались в село. Немцы, заподозрив в них партизан, кого расстреляли, кого повесили. Один из возвратившихся к семье (Воронков И. Г.) и вправду являлся партизаном-подпольщиком. Был также случай: мужик решил выслужиться перед немцами, когда, зачерпнув воды из колодца, вытащил немецкую винтовку и отдал ее им. А те спросили: «А где пан?» – и расстреляли его. Уже в наше время, мой тесть Михаил Петрович Семенихин рассказывал, что его также тогда оставили партизанить, предварительно эвакуировав семью. Партизаны расположились недалеко от деревни Синковец, возле Синковского леса.
Так как поступил приказ, что врагу оставлять только выжженную землю, в одной из деревень попытались поджечь крайнюю избу. Набежали мужики и бабы с топорами и вилами – и отогнали партизан. Вскоре появился немецкий патруль на конях, партизаны стали стрелять по ним из винтовок – и те ускакали. В разных местах леса было закопано продовольствие и спирт. Партизаны расположились в овраге в поле, вдали от леса и обедают, естественно, со спиртом. Появился немецкий отряд и начал прочесывать лес – никого не нашли и ушли. К счастью, в овраг не заглянули – не ожидали такой беспечности. Вечером партизаны решили врассыпную пробираться к Ельцу и влиться в Красную армию. Так и сделали. Мой тесть потом служим командиром роты противотанковых ружей и дошел до Днепра, где был тяжело ранен, награжден орденом Красной Звезды и медалями.
26 декабря 1941 года Русский Брод освободила от немцев 13-я армия, командовал армией А. М. Городнянский. В бою за Русский Брод погибли знаменитые семнадцатилетние пулеметчики-добровольцы Аня Гайтерова и Володя Быков, уроженцы г. Ельца.
Бой за село шел ожесточенный. Долго еще после войны стояло несколько подбитых наших танков возле станции, возле элеватора стояло немецкое орудие и один танк. Мы, мальчишки, любили играть там в войну. На окраине села, в направлении села Дросково, стояли еще два подбитых танка Т-34. И. И. Акулов (рядовым пехотинцем воевал в наших местах) так описал Русский Брод после освобождения в книге «Крещение»: «Большое пристанционное село, некогда вольно разбросанное по скатам меловых гор и вдоль оврагов, было выжжено. Все еще горел элеватор…» И. И. Акулов также отобразил в своей книге жестокий кавалерийский бой с отступающими фашистами. Камская дивизия спешно зарылась в землю по восточному берегу реки Труд, в двадцати километрах к западу от села. К концу декабря 1941 года фронт выровнялся по линии Мценск – Новосиль – Верховье – Русский Брод – Ливны – Беломестная. Эта линия фронта, практически без изменений, простояла до Орловско-Курской битвы.
Отметим, что в наших местах сражалась 16-я Литовская стрелковая дивизия, многие литовские воины лечились в Русском Броде, в 168-м эвакогоспитале. От тяжелых ран здесь умерли 13 литовских воинов, которые захоронены в братских могилах этого села. Здесь покоится и прах начальника штаба этой дивизии полковника Киршанаса Винцаса Прано. Могилы и памятники содержатся в образцовом порядке. В советское время почтить их память приезжали родственники из Литвы – их радушно встречали. Не так относятся сейчас к памятникам и могилам наших солдат в Литве. Быстро они забыли про боевое братство – счастья им это не принесет.
Железнодорожную станцию часто бомбили. Наш дом стоял рядом со станцией, и мы чуть не погибли. Запомнился смутно момент, когда нас засыпало в избе. Изба была разделена на две половинки, и когда началась бомбежка, я побежал в горницу, где на подоконнике стояла моя любимая игрушка. В это время послышался грохот, стекло задрожало, и я увидел, как над железнодорожной станцией и элеватором кружат самолеты. Бабушка Утьяна схватила меня и утащила в соседнюю комнату, где стояла печка, и, схватив под одну руку четырехмесячного Юрку, а под другую меня, забилась под кровать. Бомба упала недалеко от избы. Изба рассыпалась, на бабушку упала заслонка от печи, а потом все остальное. Заслонка частично спасла бабушкину спину, которая всю жизнь потом болела, и мы ее растирали мазями и спиртным. Меня оглушило, из носа текла кровь, и я долго потом заикался.
Как рассказывала мама, она в это время бежала из школы домой, и бомбежка застала ее под железнодорожным мостом (над проезжей дорогой Ливны – Верховье), наш дом находился в двухстах метрах от него. Как говорила бабушка: «Я ее слышу, как она плачет и зовет нас, а она меня не слышит». На наше счастье, через дорогу находились наши бойцы, они разобрали завал и освободили нас. Как писал брат деда Антон моему отцу на фронт, это случилось 28 декабря 1941 года, всего через два дня после освобождения Русского Брода от немцев. После этого мы жили по родственникам и соседям. Во время бомбежек мы все прятались в колхозном (бывшем господском) подвале, мужики веревкой удерживали дверь от близких разрывов. Мне почему-то в это время казалось, что самое безопасное место – это пустая деревянная бочка из-под соленых огурцов, и я замолкал только тогда, когда меня туда сажали. Особых боев, кроме бомбежек, в это время не было. Зиму мы провели в деревушке Башкатовка, что возле села Корытинка. Там жила сестра бабушки и ее дочери, а сын Ефим Изотович воевал. По вечерам читали вслух «Тараса Бульбу»; помню, как я горько плакал, когда Бульба убивает сына Андрея, пронзительная сцена! Я кричал, что Тарас Бульба плохой, злой… Днем тетушки-девушки громко радовались, когда я пугался, съезжая с ними на санках с крутых горок. Хотя время было трудное, но я всегда с теплом вспоминаю Башкатовку. Судя по названиям: Башкатовка, Юрты, Кунач, – наверняка в нас есть что-то татарское. Недаром во времена Ивана Грозного здесь проходила граница Руси.
Это было время, когда после Сталинградской битвы наши наступали. Отец писал нам ободряющие письма, например, что его зенитная батарея сбила самолет «юнкере». Весной 1942 года он участвовал в сражении за Харьков, где нашим войскам пришлось отступить. В этих боях геройски погиб командарм А. М. Городнянский. Отец чудом не попал в окружение под Старым Салтовым. Два бойца, которые шли с ним, для сокращения пути решили переплыть озеро и утонули. Отец поймал бродившую лошадь и управляя ей с помощью хворостины, объехал озеро – помогло колхозное детство. Затем перебрался на восточный берег Северного Донца, где стояли наши части. В начале июня отец прислал письмо, где настоятельно требовал, чтобы мы эвакуировались. Всего он из-за цензуры написать не мог, но мама поняла, что возможно немецкое наступление. и действительно, 28 июня началось германское наступление под названием «Blaue» («Синева»). Именно в этот день немецкая авиация практически уничтожила город Ливны, а ведь Русский Брод находится практически рядом, в 25 километрах. На этом участке Брянского фронта опять сражалась 13-я армия во главе с новым командующим Н. П. Пуховым. Здесь также сражались воины знаменитого 1-го танкового корпуса М. Е. Катукова. Если южнее Ливен фашисты продвинулись к Дону, в направлении Воронежа, то севернее Ливен линия фронта практически не изменилась. Но многие наши бойцы погибли, среди них герои-танкисты, которые прославились ранее под Мценском, задержав продвижение танков Гудериана на Москву Именно в это время вышел знаменитый приказ Сталина № 227 – «Ни шагу назад».
В конце июня наша семья эвакуировалась в Мордовию, в Торбеевский район. Жить было тяжело. Хорошо, что отец прислал свой аттестат и изредка – деньги. Все до нас доходило – это свидетельство четкой работы всего государственного механизма в это тяжелейшее время. Многие эвакуированные болели, а некоторые дети помирали. Бабушка сказала маме: «Мотя, поедем домой! А то ребята помрут». И в начале октября 1942 года мы вернулись домой, хотя дома уже давно не было. Жили у родни в Башкатовке, в Малом Кривце у дяди – Василия Корнеевича (лейтенант-пехотинец, он воевал на фронте), снимали квартиру в Русском Броде. Отец 13 октября 1942 года прислал письмо, в котором укорял маму за преждевременный приезд домой. Он знал, что враг сражается уже в Сталинграде, и боялся, что и у нас прорвут фронт. Но фронт в наших местах выстоял, даже весной 1943 года было относительное затишье. 5 июля началась Орловско-Курская битва, а 5 августа освободили Орел и Белгород – города 1-го салюта. Хотя в Русском Броде боев не происходило, горя жители хватили много. Особенно пострадали подростки и дети. Дело в том, что всюду было много мин, взрывчатки и брошенного оружия. Еще летом 1942 года отец писал маме, что надо опасаться патронов и запалов, которыми любят играть дети. Как в воду смотрел! Я где-то нашел запал (или какое-то взрывное устройство, похожее на игрушку) и пытался его разобрать. Когда это не удалось, с досады бросил его – произошел взрыв. У меня и братика Юры были сильно ранены ноги. Моя голень левой ноги оказалась раздроблена, правая нога пострадала меньше. У Юры ранения были меньше, но также значительны. Пришлось долго лежать в военном госпитале. Спасибо военным хирургам, они собрали мне левую голень, удачно зашили рану на лице. Даже когда мы с Юрой заканчивали школу, у нас из ног выходили осколки сами собой. Когда произошел взрыв, я потерял сознание. Очнулся – слышу, мама плачет и женщины на руках несут нас берегом Любовши в госпиталь. Мы потеряли много крови, потому что госпиталь находился далеко.
Спасибо маминым коллегам-учителям: Марии Павловне Шлейной (Быковской), которая взяла шефство надо мной, и Елене Ивановне Крыловой, которая взяла шефство над Юрой. Они из своих маленьких зарплат подкармливали нас, чтобы мы восстановили силы. Елена Ивановна Крылова потом учила меня с 1-го по 4-й класс, замечательный учитель и человек. Мария Павловна Быковская и ее муж Даниил Семенович Быковский, также удивительно добрые люди и отличные учителя, долгое время преподавали в русско-бродской средней школе. В то время многие подростки погибли, еще больше остались калеками. Врезался в память Зайцев, который разбил стеклянный шар с горючей смесью (наверное, с фосфорной). Ему так обожгло ногу, что голень «приварилась» к бедру. Другой отчаянный парень сел на бомбу и начал по ней стучать – рвануло так, что его останки потом собирали по всему лугу.
Плохо было с едой, весной по полям выкапывали мерзлую картошку и пекли оладьи – «каркули», ели щи из крапивы и тому подобное. Кое-кто ел сусликов. Жизнь потихоньку стала налаживаться. Мама начала работать в школе. С помощью односельчан на развалинах дома, сделали из камней маленькую хатенку с печкой. Завели кур, козу – появилось свое молоко. Не помню в какое время, но бабушка стала получать пенсию за «Ванюшку» – погибшего сына.
В конце войны отец служил на Украине, в городе Шепетовка, ему дали служебную квартиру – и мама, Юра и я приехали к нему. С питанием там стало гораздо лучше, так как та местность пострадала от гитлеровцев гораздо меньше, чем наша. Запомнился мне папин ординарец – украинец, он очень добрый, ходил со мной на прогулки; из своих скудных средств покупал мне булочку на базаре, где подешевле. Вообще, воспоминания от Шепетовки самые теплые. Они как-то ассоциируются у меня со стихами Тараса Шевченко – эпическими, лирическими.
Наша семья в г. Шепетовка, 1946 г.
И странно мне и больно видеть разногласия между Россией и Украиной – ведь мы один народ! И тогда, и позже, когда я учился в Харьковском авиационном институте, меня окружали простые и добрые люди. И в мыслях не было делиться на украинцев и русских! Верю, что все наладится – и мы будем жить в крепкой дружбе!
В 1946 году мы вернулись в Русский Брод. Родители в глухой деревеньке купили небольшой старинный деревянный сарай, сделали из него пристройку к бабушкиной каменной избушке. В этом доме мы жили долгое время. Отец много лет был редактором районной газеты «Ленинская искра», являлся членом Союза журналистов СССР. Мама была учителем истории в русско-бродской средней школе.
В. М. Рязанцев, 21 сентября 2015 г.
Немного о себе:
– доктор технических наук, заслуженный машиностроитель РФ, почетный гражданин города Ливны, награжден медалью «300 лет Российскому Флоту», работаю главным конструктором проекта в АО «ГМС Ливгидромаш», г. Ливны Орловской области;
– жена Рязанцева (Семенихина) Эльвира Михайловна – учитель, заслуженный учитель РСФСР;
– сын Рязанцев Максим Валерьевич – военнослужащий, полковник;
– дочь Плясова (Рязанцева) Елена Валерьевна – учитель иностранных языков, почетный работник общего образования РФ.
У нас три внука, одна внучка и одна правнучка.
Нам помогал конь Орлик
Меня зовут Софья Михайловна Совкова, девичья фамилия Туманова. В семье нас было 10 детей у мамки, маму звали Дарья Андроновна (трое ее детей умерли еще в детстве). Я – самая младшая. Отец работал председателем колхоза в Храброво. Когда началась война, мне исполнился 1 год. Старшего брата Колю забрали на войну. Отца как председателя оставили эвакуировать из деревни личный и колхозный скот. К тому моменту, как подошли немцы, весь скот угнали и сбрую надежно зарыли. Потом и отец отправился на фронт.
Когда в феврале пришли немцы, они остановились в нашем доме, наш дом стоял на краю. И жили у нас 10 дней. Все дети с мамкой спали на большой печке. Немцы были легко одеты, мама даже их жалела. У немцев было много золотых украшений, даже зубы золотые. Стали они душить наших кур и требовали их приготовить. Главный у немцев говорил по-русски, он был добрый человек. Мама сказала ему, что так всех кур они переведут. И тогда главный менял кур на паек – тушенку и хлеб.
Как оказалось, брат Леня (ему было 16 лет) не отправил в эвакуацию своего любимчика коня Орлика. Он спрятал его в сарае ближе к лесу. Днем кормил его и поил, прятал от всех. Однажды спим мы, а Орлик пришел в дом и на мосту провалился копытами в щели. Слышен стук, грохот. Немцы испугались, кричат: «Матка русь», – а Леня оделся, вышел, помог коню выбраться и увел его обратно. Так Ленина хитрость открылась, и коню разрешили быть на виду, на нем ездили за водой на другой конец деревни к колодцу, за хлебом и дровами. Зима стояла суровая, такая что немцы, обходя деревню с караулом, порой замерзали насмерть, обхватив деревья.
Скоро стали с боями подходить наши, и немцы готовились отступать. И главный немец, что жил у нас в доме, сказал матери: «Хорошо, что идут ваши, а то подошли бы скоро карательные отряды, и несдобровать бы вам всем».
В деревне жил полицай, из наших, из храбровских, он готовил список, чтобы подать карательным отрядам, записал туда 100 человек, туда вошли и мои братья.
Отходя, немцы заминировали разные предметы и бросили их в лесу. Леня поехал в лес за дровами и привез из леса большую куклу и наручные часы. Часы тикали. Мама кричала Лене, чтобы он бросил эти предметы, не подходил. Леня взорвался прямо у нее на глазах, и его раненого повезли на Орлике в больницу в Подъячеве, там была только акушерка. И она сказала маме, что Леню не спасти. Леня вскоре умер.
Брат Коля погиб на войне. Его ранили в ногу. В госпитале, где он лежал, рядом находился раненый боец из нашей деревни. Их обоих комиссовали. Тот вернулся. А Коля снова пошел на войну с костылем. Он погиб в 1942 году, но извещение пришло нам только в 1945-м. Спустя много лет, благодаря помощи сотрудницы Марины из военкомата, мы добились, что Коле присвоили звание Героя Советского Союза. Теперь в Яхроме на обелиске выбито его имя – Николай Михайлович Туманов.
Брат Сергей восстанавливал яхромскую прядильно-ткацкую фабрику после войны. Я отработала на ней 17 лет.
Еще во время войны мы из Храброво переехали жить в Яхрому, сняли там жилье. Топилась комната по-темному, я, маленькая, слепла от дыма, отнимались ножки. Тоня, старшая сестра, тоже работала на этой фабрике. Директор ткацкой фабрики хлопотал за нас в горсовете, нам выделили полуподвальное помещение для жилья, брат Сергей вместе с директором фабрики отремонтировали его, перестелили полы, вставили окна.
Отец вернулся с войны в 1947-м весь больной, умер в 1953-м.
Я жила в полуподвальном помещении до 19 лет, в 1959 году нам дали десятиметровую комнату в Яхроме. Я тогда работала на фабрике, пришла домой – нет мыла, побежала в аптеку за мылом, а рядом военные рыли канаву, и кто-то сказал: «У, девка какая ядреная». Пошла я вечером на танцы, и моя подруга познакомила меня с солдатом, они проходили тут службу в Дмитрове. Мы дружили с Николаем два года, потом поженились. Я смеюсь – мужа в канаве нашла. Муж всю жизнь проработал водителем в кинопрокате, что за березовой рощей.
В семидесятые стала я хлопотать о получении квартиры, ведь мы так и жили в десятиметровой комнате с мужем, детьми и мамой. Я была третьей на очереди, квартиры выдавали, но не мне. Председатель горсовета был нечист на руку. Пришлось мне ездить в Москву и искать защиты в партийном комитете. А я все ходила и спрашивала, как же так, почему мне не дают ордер, ведь давно очередь уже должна подойти. И однажды мы пошли к председателю горсовета с мамой. А председатель – бывший летчик, в войну его самолет загорелся и упал в Храброво, где мы жили, от ожогов его выхаживала моя мама, он лежал больной в нашем доме. И вот теперь моя мать ему говорит: «Здравствуй, молдаван». Он ей отвечает: «Я цыган». А она в ответ: «А мне неважно кто ты. Ты ведь знаешь мои жилищные условия, как мы все ютимся, и ты не даешь квартиру». Он молчит в ответ. Мать сказала: «Если ты квартиру не дашь, цыган, я тебе палкой всю голову разобью, мы тебя тогда от смерти спасли, а ты нам помочь не хочешь». Вскоре нам выдали ордер.
Жизнь я прожила интересную, длинную, люблю правду, сама людям правду говорю и уважаю таких же. Семья у меня большая – двое детей, пять внуков, три правнука.
Софья Михайловна Совкова
Воронеж и дети войны
Немцы заходят, а мы все лысые и отец говорит: «Тиф!»
Воспоминания моей бабушки – Столяровой Надежды Терентьевны
Когда война началась, мне, наверное, и восьми не было. Воронеж объявили на военном положении с первых военных дней, началась эвакуация заводов. Эвакуировали в первую очередь тех, кто работал на предприятиях, которые производили продукцию для фронта. В эту очередь попала моя родная тетка по матери и двоюродная сестра Тамара, ее муж работал на производстве самолетов. А мы – остались. Наш дом находился на правом берегу реки Воронеж, который оккупировали немцы.
Помню, жара была. У нас во дворе на привязи жили две собаки – Тузик и Роска. Мы их не выпускали – они были привязаны и гуляли по двору, двор-то у нас был немаленький. И вдруг тут шум-гам, все говорят: «Немец идет по улице!» Немцы шли все с автоматами – зашли к нам во двор, собаки залаяли, и они сразу же застрелили их так, что те повисли на проволоке. Дети моментально притихли. Немцы прошли через двор, сломали забор и заставили моего отца нести самовар к офицеру на другую улицу чай пить. Мой отец ни слова не говорил – тех, кто им перечил, расстреливали без объяснений. Папа, бедный мой, он молодой был, со второго года, 40 лет всего, инвалид финской войны. И он за этот один день постарел лет на 10, наверное. Он вернулся, весь уставший, весь поник, как старик стал. И разговор даже у него не тот. Но слава Богу, что жив остался.
Родители Столяровой перед войной
Недели, наверное, через две сказали: «Собирайтесь, эвакуировать вас будут». А брать с собой вещей много не велели. Мой отец моим двоюродным сестрам кому чего привязывал: кому таз, кому кастрюлю, кому половник, а я ему со слезами говорю: «Я не понесу ни таз, ни половник – ничего. Я хочу кукол». Потому что я не наигралась в детстве с куклами! И, несмотря на то что я старше сестер была, отец повязал на плечи небольшой мешочек и разрешил взять не очень много. Я взяла свою любимую посудку детскую и куклу.
Когда эвакуировались – шли очень тяжело и долго. Под конвоем с собаками. Дети уставали. Ноги отнимались – просто невозможно! А потом нас погрузили в скотные вагоны с открытой крышей. Народу набивали полностью: дышать было нечем. Вот это никогда не забудешь. Если в туалет дети захотят, то тут же стоя, не сидя – сесть там было негде, родители собой закрывали, и дети ходили в туалет.
И пригнал нас немец на Украину. Там опять на какой-то пункт, чтобы нас всех распределить по домам. И когда нас туда вселяли, те люди, украинцы, не хотели нас. Они не хотели, чтобы мы пришли. А мы не по своей воле пришли…
Ну дали нам какую-то комнатку, девятиметровку. Папу послали работать садовником, потому что он инвалид, а маму, ей было 38 лет, послали свиней сторожить. Сестра моя пошла побираться, чтобы нам было что покушать. Работу-то дали, а есть нечего.
Спустя время, к осени, нас стали всех выгонять из домов. Отец отрастил бороду, меня подстриг, сестру подстриг и маму подстриг. И мы втроем лежим на лежанке в доме. Немцы заходят, а мы все лысые и отец говорит: «Тиф!» Просто обманул их отец. Это очень рискованно было. Но через какое-то время местные все равно куда-то гонят нас, чтобы дома освободить. И мы идем. Становимся опять как нас из Воронежа гнали.
Шли-шли, и уже к темноте. И тут какой-то дом папа увидел, крайний, где можно переночевать, чтобы не идти дальше. Видно, это судьба. Мы вбежали в этот дом. Он посмотрел – погреб есть, и говорит нам лезть туда. Распорол подушки, перьев туда насыпал, чтобы в холодном погребе тепло было. А сам всю ночь не спал на веранде. И папа иногда нам нет-нет и говорит: «Мать, ты спишь?» – а она ему: «Где ж спать». Мы-то, дети, спали. Говорит: «Наверное, все-таки наши придут, все-таки наши придут». А она ему: «Ой, отец, мы, наверное, в этом погребе и помрем». «Нет, мать, душа у меня чувствует, что наши придут». И вдруг утром, на рассвете, пришли наши. Ехали на лошадях, отец нам кричит: «Дочки, поднимайтесь, наши пришли, русские!» И мы оттуда вылезли и видим – правда, наши солдаты на лошадях машут флагами и кричат: «Выходите!» Сразу столько вышло людей!
И власть поменялась, уже в сельсовете русские. Отец пошел туда, в сельсовет. Это был конец января. Там он узнал, что Воронеж уже освободили. Мы перекрестились, и отец говорит: «Надо немедленно ехать домой!» А там отвечают – когда придет очередь. Отец тогда пришел и говорит: «Мать, давай мы сегодня ночью уедем. У нас вещей нет, только Надька да Верка. Ты Верку будешь держать, я буду Надьку держать на коленях». И мы ехали в поезде на месте сцепки вагонов. Отец сидел на одной стороне, а ногами упирался в другой вагон. И меня он чуть не уронил. Но судьба – не уронил.
Когда приехали в Воронеж, мы вернулись в свой родной дом в центре города: стекла у него все оказались повыбитые, отец заделал два окна кирпичами, а наверху оставил небольшие прогалины. Жили в нем с еще одной семьей.
Дело близилось к победе, к нам на улицу пришли электрики и повесили на уличные столбы такие большие граммофоны. Мы спрашиваем: «Что это такое?» – а те, у кого был радиоприемник, уже знали, что война кончится вот-вот-вот.
Долгожданный День Победы как праздновали: мы, дети, радовались, нам давали на мороженое! И мы бежали на проспект, там музыка везде играла, гуляли девушки и солдаты с орденами, а соседи собирались, у кого что было, то несли, и выпивали рюмочку за День Победы, и танцевали под гармошку. У нас жил гармонист один на улице, один-единственный, он играл – все были в восторге! Этот день забыть – наверное, никогда я не забуду, пока глазки мои смотрят. Уж умру, тогда и забуду.
И даже вот когда война кончилась, никогда не вспоминали ее мы. Если бы я знала, что столько я проживу, аж до 80 лет, я бы многое могла у отца спросить. Но никогда не спрашивали про эту войну, ведь у них всю молодость, а у нас все детство отобрала она.
Хоть сейчас и трудно это вспоминать, но вспоминать это надо. Потому что, если мы сейчас вспоминать войну не будем, наши внуки и правнуки ничего не будут знать про нее. Мы все пожилого возраста, а нас не очень много осталось, и поэтому надо рассказывать молодежи, а молодежь уже своим детям и своим внукам расскажет.
Столяров Денис Валерьевич
Страх придает силы
(рассказ моего деда)
Я очень хочу поблагодарить вас за предоставленную возможность передать вам рассказ моего деда.
Мой дед написал его в 1990 году. Это воспоминания о его военном детстве в городе Керчь.
К сожалению, весь рассказ не вошел, но я постаралась показать самое интересное и горькое… Конечно, это далеко не все, что написано моим дедом.
Валя с Митридатской
(отрывки из рассказа о военной Керчи)
Я, Валентин Петрович Яворщенко[3] сын Петра Ивановича и матери Любови Антоновны Ковбаса. Родился 17 июля 1927 года. Отец[4] – модельщик, работал на заводе им. Войкова в г. Керчь Крымской области. Мать – тоже рабочая. Так вот вы теперь знаете, где я родился, – г. Керчь Крымской области, улица Красноармейская, дом № 15…
…а в 1941 году началась война. Я не помню, в каком месяце первый раз налетели немецкие самолеты, но это произошло днем, я хорошо помню. Я пошел в магазин за хлебом. Был тихий и хороший летний день. Возле магазина – очередь за хлебом. В магазин пускали по 10 человек. Магазин находился на улице Ленина – центральная улица и ровная, как стрела, и деревья не такие разросшиеся, как сейчас, а молодые. Мы, то есть стоявшие на улице возле магазина, услышали стрельбу. Тут нас всех впустили в магазин. Там было тихо и пахло хлебом. Я взял хлеб и подошел к двери и тут увидел, как низко летит самолет… Он строчил по бежавшим людям, хотя хорошо видел, что это дети и женщины. Самолет пролетел, а я побежал домой, хотя где-то стреляли и рвались бомбы. Видел я в этот день раненых и убитых на этой улице. Прибежав домой, я побоялся остаться дома один, так как мать и отец были на работе. Вышел во двор. Там были люди и мои товарищи по двору. Мы увидели наш самолет. Обыкновенный У-2, то есть кукурузник. И этот самолет стал преследовать немецкий бомбардировщик, который бомбил город. Мы залезли на крышу дома, чтобы увидеть, чем это все кончится. А кончилось это тем, что немец загорелся и рухнул за городом…
…В квартире у нас царил беспорядок. В одной комнате отошла часть стены. Там висело радио, я успел снять его, камни упали на мою кровать…
Самолеты улетели, тревогу отменили. Но город был неспокоен, в той стороне, где находились морской порт и железнодорожный вокзал, что-то взрывалось и горело.
Пришла мать с работы и сказала, что горит морской порт и вагоны. Камни мы с матерью с кровати убрали в сторону, а мусор вынесли. Вернулся отец, он сказал, что пришли суда из Одессы, груженные боеприпасами, и там было питание и обмундирование, и все это горело, рвались снаряды… Вот так первый раз бомбили город Керчь. Потом уже стали бомбить город с немецкой пунктуальностью.
Не помню точно, когда немцы первый раз заняли город, это случилось летом. Мы с улицы Красноармейской ушли на Митридат, где жила моя бабушка. Немцы заняли город, но гору Митридат еще нет. Там были наши солдаты – моряки. И они обстреливали улицы города, которые просматривались с Митридата. Но что они могли сделать? Ничего! Их оставалось человек десять, а может, и меньше, хотя у них и были пулеметы…
Город заняли немцы полностью. Мои родители вернулись на квартиру, на улице Красноармейской. Отец сидел дома, да и мать редко куда ходила. Я был опять со своими друзьями…
Зима 1941–42 гг. стояла очень холодная, надо было топить. Раза два я ходил на завод Войкова за углем. Уголь был замерзший, приходилось ковырять его руками и в мешок нагребать, хотя он был и кусками. Руки замерзали до того, что пальцы не гнулись. Мы их отогревали ртом и опять отрывали куски угля. Так за два хождения за углем у меня руки так назамерзались, что стали пухнуть, хотя я первое время и не замечал этого. Пальцы стали в два раза толще.
У нас во дворе жила семья евреев: старики – дед с бабкой, дочь взрослая и ее дочка, немного младше меня. Немцы приказали, чтоб все евреи нашили на рукава себе звезды шестиконечные. Старики это сделали, а мать и дочь нет. Они стали прятаться или днем ходить по городу, а вечером, когда начинался комендантский час, мать с дочерью подходили к нашему окну и стучали. Отец мой выходил во двор, открывал калитку, и они заходили, а калитку опять закрывали. А рано утром они опять уходили. Этих стариков и еще многих людей и детей расстреляли в Багровом противотанковом рву. Там был и один наш товарищ по улице. Мы радовались за него, когда он остался живой, хотя во рву остались его родители, а он вылез из-под трупов и пешком пришел в город и оказался среди нас. Мы ему помогали как могли.
Кончался 1941 год, начинался 42-й. До начала Рождества по новому стилю оставался один день. И вот мы увидели, что из Сенного переулка выезжают немецкие подводы по пять и более, а возвращаются одни. И так всю ночь. И не стало патрулей. А утром мы поняли, что город оставлен немцами и нет никакой власти.
Наступила весна и тепло. А с ним немцы начали опять бомбить город. На нашей улице нельзя было больше жить, везде были военные. Мы с матерью ушли на улицу Верхне-Митридатскую, в квартиру ее сестры. Отец не пошел, а остался в нашей квартире, сказав, что будет, то будет, а вы живите там. Так вот мы и жили на две квартиры. Немцы все же хотели и старались захватить город. Фронт проходил не так уж далеко от Керчи. Но на Митридате не так бомбили, как в городе. И вот в один летний день мать сказала, чтобы я передал отцу пусть придет, есть дело. Отца я встретил на углу улицы Красноармейской и Ленина. Он стоял с каким-то мужчиной. Я сказал отцу, что его зовет мать. Но тут же завыли сирены, и опять начался налет самолетов. Отец отослал меня назад к матери, я и побежал. Прошло некоторое время, дали отбой. Я помню, мать во дворе что-то стирала, она тогда работала в больнице. Во двор заходит женщина и здоровается с матерью, а мать спрашивает: «Что, идти на работу?» А женщина ей отвечает, что нет. «Так зачем же ты пришла с работы? – спрашивает мать. – Что случилось?» Женщина мнется, а потом говорит, что на улице Красноармейской во двор дома № 15 упала бомба. Я сразу побежал туда. Подбежав, я увидел, что возле нашей двери лежит отец весь в мелких осколках. Бомба была осколочная и очень мала, потому что воронка со штыковую лопату. На груди у отца сидела его любимая собака по кличке Кукла и никого к нему не подпускала. Через некоторое время пришла мать с бабкой и с двумя моими тетками. Взяли одеяло, положили отца на него и понесли домой, то есть на Верхне-Митридатскую. Там есть старое кладбище и церковь рядом. Какой-то мужчина взялся выкопать могилу за какие-то вещи, которые мать ему отдала. И там отца и похоронили… Я стал тогда сильно курить, от отца осталось много махорки…
А в это время наши войска отступали понемногу в город, а немцы сильно бомбили.
…Они летели тройкой, и было две тройки. Забили сильнее зенитки. Люди бросились кто куда. Я и товарищ побежали вдоль улицы, там еще бежали люди. Коля впереди, а я за ним. Вот мы добежали до перекрестка, где находились колонны солдат. Солдаты все лежали по обочинам дороги. Коля уже перебежал на другую сторону, а я был только на середине улицы, стал нарастать свист бомбы. Я перебежал дорогу и попал на то место, которое разделяет дорогу и тротуар. Он был широк и там росли кусты, лежали солдаты. Я добежал до кустов, кто-то схватил меня за ногу, и я упал, услышав мат и слова «лежи!». Все произошло в считаные секунды, а бомба продолжает свистеть. Мы с солдатом лежим, прижавшись к земле. И вот – взрыв и сильный толчок земли. Я вскакиваю и бегу дальше. От угла второй дом срезан наполовину, камни, пыль… Я пробежал кучи камней, как по ровной дороге. Прибежал домой, там все тихо. Но где Коля? Нет нигде. Я спросил его мать. Она сказала, что он лежит под кроватью, и спросила, что случилось и где вы были. Я ничего не ответил ей, зайдя в комнату, застал Колю. Он сидел на кровати. Я спросил: «Что с тобой?» Он сказал: «Ты знаешь, я чудом спасся от той бомбы! – и спросил: – А ты-то где был, когда она попала в тот дом?! Ты же бежал за мной, и я подумал, что ты как раз и попал под ее взрыв!» Я сказал, что меня спас какой-то солдат. «А ты где был?» Он мне говорит: «Ты вспомни, там есть парадная!» «Ну и что, что есть!» – говорю ему я. «Так вот, эта парадная меня и спасла! Ты понял? Я пробежал парадную и побежал дальше, и тут меня как-будто кто-то силой толкнул вовнутрь дома, и я увидел, как дом, то есть его половина, отделилась, а потом меня так вдавила волна взрыва и разрыва и пламени, что я подумал, что сам не знаю, как я очутился дома под кроватью. И сейчас не могу вспомнить, как я бежал оттуда!»
Керчь в оккупации. 1942 г
У нас было оружие, то есть винтовки и наши, и немецкие и к ним много патронов. Мы решили пострелять на нашем пятаке, что часто делали. Нас было человек пять и один малец, лет восьми, брат одного товарища. Мы поставили камни, на них положили каски и начали стрелять. Мы стреляли, а этот малец все канючил – дай стрельнуть, и все тут. Ну мы дали. Его брат показал, как надо целиться и как плавно нажимать на спусковой крючок, и даже выстрелил в каску. Лежим курим. А этот малец взял винтовку, лег за бруствер и стал целиться. Мы, взрослые, не посмотрели по сторонам, да и вообще, мы никогда до этого не видели на нашей улице немцев, а особенно офицеров. Малец выстрелил, мы услышали ржание коня, а потом и его самого, а на нем немецкого офицера. Мы все подумали, что пуля попала в наездника. А этот малец встал и стоит с винтовкой в руках. Крикнув ему «беги!», мы бросились врассыпную, кто куда. Малец побежал и куда бы вы думали? К себе во двор! А всадник за ним. Вот он открыл калитку и забежал к себе во двор.
Офицер подъехал к калитке, слез с коня, привязал его к дереву, вынул пистолет и вошел во двор. А мы стоим под воротами и все видим. Брат этого мальца говорит: «Хорошо, что дома никого нет. Мать уехала в деревню кое-чего наменять на тряпки». Я ему говорю: «Чего тут хорошего?! Он же убьет его сейчас?!» Но выстрела мы не услышали. Немец сильно ругался по-немецки, сел на коня и уехал. А мы еще долго не подходили ко двору. Боялись.
Зайдя во двор, мы увидели, что дом замкнут на висячий замок. Значит, его там нет. Давайте искать. Двор небольшой – сарай и туалет. В туалете нет, стало быть, он в сарае. Зайдя в сарай, мы открыли двери настежь, чтобы было хорошо видно. Но в сарае мы его не увидели – только дрова, уголь и большая бочка литров на 500, которая стояла в углу, перевернутая вверх дном. Мы стали спрашивать брата: «Ну и где же он?» – а брат говорит: «Откуда я знаю?! Может, он сквозь землю провалился!» Кто-то из нас сказал: «А может, он под бочкой?» «Да как же он туда попадет, она же тяжелая?! Ему ее не поднять!» – «Давайте посмотрим!» Мы все бочку подхватили, перевернули ее и увидели мальца, согнувшегося в три погибели и дрожащего. Мы вынесли его со двора. А он не может стоять на ногах – так перепугался. И говорить не может. Мы стали его успокаивать и приводить в себя. Он начал сперва плакать, а потом встал на ноги и стал говорить с заиканием. Мы его спрашиваем: «Как ты попал под бочку?» – а он говорит, что не помнит. Прошло немного времени, мы вышли со двора и пошли забрать винтовку и на Митридате в укромном месте все спрятали. Потом залезли на скалу, такой большой камень, и закурили. Стали думать что делать, что сказать матери, почему он заикается. Сидим, потихоньку разговариваем. А малец сидел-сидел молча, а потом говорит без заикания: «А знаете, когда я забежал в сарай, я знал, что он гонится за мной и что он меня застрелит. Куда спрятаться? В сарае некуда. И тогда я подсунул руки под бочку и поднял ее. Сам я лежал и подлез под нее». Мы опять пошли к ним во двор, зашли в сарай и говорим ему: «Ну покажи, как ты это сделал». Он подошел не ложась, подсунул обе руки под бочку, но поднять ее не смог. «Когда я лежа ее приподнял, то голова моя и плечи прошли, а потом я пролез под нее». – «Ну попробуй, подлезь». И тогда у него это не получилось. Вот так бывает, когда страх или еще что придает силы…
Наталья Яровая-Аше
Упавшие яблоки
Война застала под Таганрогом
Я родился 10 сентября 1934 года. Война застала мою семью под Таганрогом, в селе Приморке, это в 18 километрах от города. Я был пятым ребенком в семье и единственным сыном. Мы жили в хорошем доме, нам не удалось эвакуироваться. Наше село дважды было в оккупации. Из военного детства запомнилось несколько случаев.
Случай 1. Заминированный сад
Когда осенью 1941 года наши войска отошли, мы с приятелем пошли в бывший помещичий сад (в советское время сад принадлежал ИТК, исправительно-трудовой колонии). У ИТК были огромные сады! Яблок оказалось немного, на некоторых деревьях оставалось по 3–4 штуки. Залезли мы каждый на свою яблоню. Я сорвал висевшие вблизи и решил дотянуться до яблока на дальней ветке. Вот уже почти достал, а оно упало. Слезаю за ним, по пути замечаю, как что-то блеснуло. Паутинка, наверное. Нет, не паутинка, слишком длинная и на земле. Осторожно, с оглядкой, опускаю ноги на землю. Проволочка! От того дерева, а вон и бугорок с торчащим из земли колышком. Кричу приятелю, чтобы смотрел под ноги, сад заминирован. Так и ушли, не стали собирать упавшие яблоки. А распознавать заминированные места на почве меня научили еще в школе, где я проучился в первом классе почти три месяца. Да и сестры помогли, их тоже в школе этому обучали, как только война началась.
Случай 2. Наказ старших сестер
Весна 1942 года. Наше село, освобожденное от немецкой оккупации, расположено в 1,5 км от линии фронта. Хорошая погода. Мама, уходя из дома за продуктами, строго-настрого запрещала мне уходить со двора, а в случае обстрела с немецкой территории бежать в подвал. Я оказался в глубине двора у забора в пяти метрах от шоссе, проходящего рядом с железной дорогой Москва– Кавказ. Вижу – по дороге идет моряк. Увидел меня и спросил, где находится штаб. Я сказал, что не знаю. Тогда он спросил, знаю ли я, где находится школа. Конечно, знаю, я там учился в первом классе почти три месяца! Краснофлотец попросил меня проводить его до школы. Я задумался, что скажет мама, если я уйду со двора. Моряк в конце концов уговорил меня, и я перелез через забор на шоссе. Мы пошли. Вдруг я услышал разрывы снарядов в западной части села и замедлил шаг. Моряк настойчиво стал меня торопить. В это время послышался вой летящего снаряда, и я, помня наказ старших сестер, упал на шоссе ничком, прикрыв голову руками. Падая, краем глаза заметил ухмылку на лице краснофлотца. Снаряд разорвался где-то на железной дороге. На меня полетели комья земли, песок и мелкая пыль. Встаю, вижу, как матрос стоит, накренившись набок. Ладонь его прижата к нижней части живота, из-под ладони идет кровь. Я увидел, как со стороны ближайшего переулка бегут к нам несколько солдат. Я подумал, что они бегут ко мне, чтобы отвести меня к маме, тогда мне от мамы попадет. И я рванул к дому что есть сил. Прибежал во двор, спрятался в сарае и в это время услышал, как зовут меня сестры. Увидев меня, они с плачем стали обнимать, спрашивать, где я был. Конечно же, я не сказал правды.
Случай 3. Артобстрел
Мы жили на временно оккупированной территории в г. Таганроге. Война войной, а жить как-то надо. Заработать на берегу возможностей было мало, а море могло что-то дать хотя бы на пропитание. И вот моя тетя позвала помогать ее сыну в постановке сетей, так как одному сделать это очень сложно, а когда один работает с сетью, а другой на веслах, то намного проще. Меня посадили за весла. И вот однажды сплю я после работы, и вдруг начинается артобстрел. Мы уже привыкли к ним и в ту ночь в подвал не спускались. А я сплю и ничего не слышу. Чувствую, меня тормошат. С трудом просыпаюсь, вижу – тетя вся в слезах кричит: «Женя, ты живой?!» Оказывается, снаряд попал в соседний дом и разнес его в щепки. Соседи успели спуститься в подвал, кроме старшего сына (ему было 14 лет), ему осколком ранило ногу Маленький домик тети был завален хламом из досок и бревен, комьев земли, кусков железа и разрушенной мебели. Брату пришлось вылезать в окно, чтобы открыть дверь в сенях. Потом мы откопали свой домик. А от дома соседей ничего не осталось.
Случай 4. Кирпичная пыль
В феврале 1943 года немецкие войска отступали после поражения под Сталинградом. Шли без боев, чтобы избежать окружения. Проходя через наше село, они взорвали наш дом, а нас выгнали на шоссе и приказали идти в Таганрог. Так и шли, по обочинам – мирные жители, в середине – немецкая техника. В Таганроге семья проживала то у родных, то просто у чужих людей.
Было начало лета 1943 года. Мама попросила меня съездить к ее тете в пригород под названием Маяковка. Там родственница вручила мне узелок с крупами, и я поехал обратно на трамвае (запомнил стоимость проезда на трамвае – 1 советский рубль). Едет трамвай по Старопочтовой улице, и тут начинается обстрел города с берега Таганрогского залива, который находился в руках Красной армии. Трамвай остановился, водитель опустил пантограф и посоветовал идти в укрытие. Я вместе с другими пассажирами побежал по переулку вдоль полуразрушенного кирпичного забора. Услышал вой снаряда и как учили старшие сестры, бросился на землю ничком. Взрыв! Почувствовал боль на лице. Когда я сел, ко мне подошла какая-то женщина и закричала: «Мальчик, ты ранен!» Она стала протирать мое лицо своим носовым платком. Оно было красным, но не столько от крови, сколько от кирпичной пыли. Об этом мне сказала та женщина, указывая на лежащий передо мной разбитый кирпич. Видимо, осколок снаряда попал прямо в кирпич, лежавший перед моей головой, если бы не он, попал бы прямо в голову. А так только мелкая кирпичная крошка лицо слегка поранила.
Случай 5. Дочь портного
Оказавшись выгнанной в Таганрог, наша семья ютилась, в основном, в сараях. И вот, наконец, мы влачим существование в подворье частного дома высококлассного портного-горбача. Живем в сарае, ухаживаем за хозяйским огородом (пропалываем, поливаем, готовим зелень для продажи – хозяйка продает). Это плата за постой. Дочь хозяина хорошо знает немецкий язык, работает в городской управе переводчицей. К портному приходят немецкие офицеры, чтобы он подогнал им вновь выданную форму по фигуре. И вот однажды в воскресенье хозяйка сказала маме, что ее дочь предупреждает – в понедельник в нашем микрорайоне будет облава, будут всех молодых людей забирать для отправки в Германию. В сарае был вертикальный погреб, в который мама спрятала всех дочерей. Крышка погреба располагалась рядом с угольным отделением. Мама и я наполнили пустые ящики, какие нашли в сарае, углем и заставили ими крышку погреба. В середине дня к дому подъехали немцы и стали обыскивать дом. Зашли и в сарай. Там – мама и я. Немец подошел ко мне, поднял за шиворот, поморщился, и все ушли. Мол, мал еще, да и весу мало. Так дочь портного спасла всех моих четырех сестер от угона в Германию. После освобождения от оккупации младшая сестра, мама и я пошли к дому портного. Хотели еще раз отблагодарить их за спасение. Дом оказался заколочен, и соседи сказали, что всю семью осудили и сослали неизвестно куда.
Евгений Васильевич Соколов
В деревню вошли латышские стрелки-женщины
Мы собирали чемоданы. В квартире просто чехарда – мы уезжали к новому месту службы папы. 19 июня 1941 года папа получил назначение на службу в Минск. Мы уезжали из Пинска.
Мой папа, Родин Андрей Хрисанфович, родился 5 ноября 1912 года в деревне Наричино Кардымовского района Смоленской области. Он всю жизнь мечтал стать летчиком и добился поставленной цели. Сначала он воевал в Испании. После возвращения из Испании был награжден орденом Красного Знамени № 2352. О его подвиге в Испании рассказано в книге «На синих тропах Испании» журналиста Георгия Константиновича Семенова.
Папа служил до начала ВОВ в Латвии, потом в Быкове, Орше, Могилеве, Пинске. Теперь мы направлялись в Минск, но до Минска не доехали. Ночью в гостинице на пересадочной станции вдруг поднялся шум. Мне было 3 года 4 месяца и 19 дней, а моему брату 1 год 13 месяцев и 13 дней. Это было 21 июня. Нас разбудили, стали одевать. В гостинице очень шумели. Взрослые все время смотрели в небо. Небо стало черным дымом. В этом дыму, грозно гудя, летели самолеты, как черные грозные птицы. Я услышала, как папа сказал: «Значит, это война…»
Я не могла понять, почему все так расстроены. Ведь папа так любил самолеты! Ведь самолеты – это так красиво и здорово! Слово «война» я еще толком не понимала. Папа сказал маме, что он с сослуживцами должен отправиться в военкомат, а нам с мамой нужно дожидаться в гостинице. Когда папа вернулся из военкомата, он сказал маме, что ей с детьми нужно уезжать. Она хотела ехать к родственникам в Горький. Она там родилась. Папа сказал, что лучше добраться до Смоленска к его родственникам. Он был уверен, что эта война ненадолго, и что он потом быстро нас разыщет. Папа крепко-крепко обнял нас и маму Он плакал и говорил, что обязательно найдет нас и чтобы мы берегли себя. Так папа ушел на фронт защищать Родину.
Поезда не ходили. Мы несколько дней находились на вокзале. Нам помогали совсем чужие люди. Мы с мамой добрались до Смоленска, а потом перебрались в Наричино, родную папину деревню. Дом, в котором он родился и вырос, нашли легко – на крыше дома устремился в небо большой фанерный самолет, сделанный папой перед уходом в армию. Нас приютили папины родственники. Однажды я переходила дорогу и увидела, что на темно-зеленых мотоциклах с колясками в деревню въезжают какие-то люди. Эти махины неслись прямо на меня, а люди в темных очках и касках показались очень страшными. Я с криком скатилась вниз в овраг. Потом встала и побежала к дому человека, которого все называли Лапшой. Я стала кричать: «Дядя Лапша, откройте!» Но дверь мне никто не открыл. Я не знала, что Лапша – это обидное прозвище. Потом, открыв глаза, я увидела маму и тетю Таню Пычину, которая жила рядом с Лапшой. Оказывается, я от страха потеряла сознание, а тетя Таня нашла меня и забрала к себе.
К этому времени мы уже испытали много невзгод и лишений. Мы, быстро повзрослевшие дети, у которых не было детства. Нам пришлось добираться до Смоленска под бомбежками. Узнали мы и что такое голод и холод. В Наричино мы стали беженцами. Не все в деревне хорошо относились к беженцам, но были и другие просто золотые, сердобольные люди. Нашей с мамой и братом комнатой стала узкая солдатская кровать. Мы с нее практически не вставали. У родственников была своя большая семья. Тетя Таня Пычина, сочувствуя нам, забрала нас к себе. В ее хате тоже имелась только одна комната, но там мы с братом спали на русской печи, а мама с тетей Таней на полатях. Надеть и обуть нечего, поэтому мы с печи почти не слезали. Самое интересное, что после освобождения от немцев в этой хате организовали правление, а мы по-прежнему жили там все вместе. Те добрые люди, имен которых я не помню, помогали нам, чем могли. На зиму нам склеили из резины бахилы, положили в них солому, чтобы ноги не мерзли. Кто-то дал тулуп, кто-то принес шаль. Но как же горько вспоминать, что были и пособники фашистов. Маму несколько раз забирали в комендатуру, так как доносили, что папа – большевик, что он коммунист. Сообщили, что он летчик и сражается против немцев. Зато среди полицаев был Коля. Его в деревне называли «свой среди чужих». Благодаря Коле маму отпускали из комендатуры. Коля предупреждал, когда будут облавы, учил, что нужно говорить на допросах. Предупреждал тех, кого собирались угнать в Германию, чтобы они бежали в лес. Он на нашей хате написал «тиф», чтобы немцы обходили ее стороной. Когда немцы начинали облавы, нам натирали щеки так, что мы плакали, так как было очень больно, но зато мы были похожи на тифозных больных. Только сейчас я понимаю, как рисковал Коля ради нашей жизни и жизни односельчан. Ведь когда он узнал, что скоро в деревню войдут наши, он организовал побег людей к партизанам, чтобы немцы в злобе не расстреляли и не сожгли их при отступлении. К сожалению, я ничего не знаю о его дальнейшей судьбе. Я всегда молила Бога, чтобы его не записали в предатели.
Чемодан с мамиными вещами не дал умереть нам и тете Тане с голоду. Она обменяла красивые и дорогие вещи на спирт, а спирт на муку, сало, крупу. Как я узнала позже, мама и тетя Таня даже партизанам что-то переправляли. Я тоже стала зарабатывать. Одна женщина предложила мне качать люльку с ее ребенком за бутылку молока. Я каждый раз с гордостью несла эту бутылку мол ока домой. Однажды, когда я качала «зыбку», подвешенную к потолку за крюк, в дом вошли немцы. Они о чем-то расспрашивали хозяйку, потом меня, но я ничего не поняла и решила, что они хотят, чтобы я им спела. Я спела: «Через огородину ломала я смородину, а мой папа на войне защищает Родину! Сидит Гитлер на березе, оккупанты по бокам…» и так далее. Потом я вспомнила песню про финскую границу. Мама говорила, что папа там был ранен. Затем я заявила, что мой папа-летчик на войне защищает Родину и вернется домой, когда убьет Гитлера. Хозяйка сначала обхватила голову руками, потом стала крутить пальцем у виска. Один из немцев сказал по-русски: «Няня». Немцы ушли, а хозяйка выгнала меня без молока и сказала больше не приходить. Немцы эти распределились по хатам квартировать. Через несколько дней тот немец, который говорил по-русски, увидел и узнал меня. Он, подозвав меня, сказал: «Мой дома два киндер, жена, мутер и фатер. Хочу война конец, и я, и твой фатер домой. Ты смелый, но петь так не надо». Он дал мне галетного печенья, банку консервов и отправил домой.
А на следующий день в деревню вошли латышские стрелки – женщины. Я уже никому не пела и ни с кем не разговаривала. Очень боялась. Наезжали власовцы и бандеровцы, учиняли расправы. Мы видели, как вешают людей, расстреливают. Мы прятались в огородах в ботве картошки, боясь приподнять голову.
От папы не было совсем никаких вестей. Как потом оказалось, он думал, что мы погибли еще при бомбежках в Смоленске. Родственники же папы откуда-то узнали, что он погиб, потому что его самолет сбили, а он сгорел вместе с ним.
Когда немцы отступали, мы сидели в болотах. Мы сбежали туда и нас не угнали в Германию благодаря Коле. Кстати, перед побегом моей маме удалось поймать старосту, который много зла сделал людям, сдавая их немцам. Она его связала и затащила в погреб. Там он и сидел до прихода Советской армии.
На болотах было очень тяжело. Я с девочками пошла за водой к Днепру. Все очень хотели пить, но никого к реке не пускали. Мы уползли украдкой, взяв с собой котелок с крышкой. Приблизившись к Днепру, я увидела солдат и красный флаг, с которым плыли люди. Солдат оказалось так много, что Днепр казался зеленым. Они плыли на лодках, плотах и даже бревнах. Стрельба в это время происходила страшная. Все гудело от взрывов. Я закричала: «Это наши красные!» Побежала обратно с криком: «Что же вы, дураки, тут сидите? Ведь наши красные пришли! Слава Богу! – сказала я и начала креститься. – Только бы папа был жив и вернулся и чтобы больше не было войны!» – говорила я. Моя мама пребывала в шоке, увидев, что я знаю, как нужно креститься. Ведь она крестилась и молилась тайком, чтобы никто не видел, так как муж ее, мой папа, был партийный атеист. Все побежали к Днепру встречать наших, а солдаты – насквозь мокрые, но все их обнимали, целовали, что-то им кричали и плакали.
А дальше еще больше счастья! Да, папа обгорел, но остался жив! Он разыскал нас через родственников. Он приехал к нам, когда ехал в Москву получать награду орден Великой Отечественной войны. В представлении на награду говорилось, что он совершил 37 боевых вылетов и 385 парашютных прыжков на фронте, проявляя доблесть и мужество. Его представляли к награждению орденом ВОВ 1-й степени, но в окончательном приказе почему-то был указана 2-я. Помимо ордена папу наградили медалями. У папы были очень тяжелые ранения и контузия, сгоревшие губы, в голове осколок, который не смогли удалить, но он хотел служить дальше. Летать по состоянию здоровья уже было нельзя, поэтому он стал начальником военного аэродрома. Из-за ранений у папы развивался паралич, но по-прежнему он был очень активен. Вел партийную работу, выполняя все поручения с офицерской готовностью. Я до 9-го класса поменяла 5 школ, так как мы все время переезжали в связи со служебной необходимостью. Папа умер в 1957 году из-за осложнения своих ранений. Нас росло уже четверо детей. Двое из нас не знали войны, но все знали ее последствия. Мы каждой крошке хлеба цену знали.
Чернявская Людмила
Девчонка – мужичок с ноготок
Я, Устинова Людмила Дмитриевна, живу в поселке Подосинки Дмитровского района. Мне исполнилось 11 лет, когда началась Великая Отечественная война. В семье кроме меня было трое детей. Всех мужчин, в том числе и отца взяли на фронт, в селе остались дети да женщины. Все работали в колхозе кто на поле, кто на ферме. Ферма тогда стояла на месте первых домов-коттеджей в Новых Подосинках. На ферме – коровы, свиньи, лошади, куры. Мать моя Варвара Егоровна работала дояркой, а потом завфермой. Я ей во всем помогала. Тогда я училась в 5-м классе деденевской школы поселка Турист, туда ходила пешком, иногда пропускала занятия.
А когда мой отец пришел с фронта раненый, на костылях, я вообще в школу больше не ходила, ухаживала за отцом. Родители устроили меня на работу возить воду для животных на ферму из речки, которая сейчас течет мимо бывшего пионерского лагеря. И вот так каждый день я девчонка – мужичок с ноготок подъезжала к речке и ведром вручную из лунки наливала 1000-литровую бочку. Мороз, руки мерзнут, тяжело, поплачу, погрею руки между ног, а что делать, кто поможет? Надо. Но длилась эта мука недолго, угнали скот с фермы куда-то за городок в другую деревню, моя работа закончилась.
Когда немцы находились в г. Яхроме, не было страшно, потому что мы их не видели. Нашу деревню не бомбили, сбросили только две бомбы ближе к каналу им. Москвы. Но траншеи вырыли и установили зенитки. В каждый дом нашей деревни заселили людей из воинской части. Сказали, что от нашей деревни ничего не останется. А у нас на квартире стоял замполит этой части. Со стороны Яхромы слышались бомбежки, выстрелы и видны были лучи прожекторов. Немцы пытались перейти через мост канала и напрямую идти к Москве, но наши саперы взорвали мост, и немцы двинулись с другой стороны канала из деревни Варварино прямо на Москву. Тогда пришел домой замполит и сказал моей маме, чтобы мы срочно эвакуировались отсюда, хотя бы на 10 км. И мы жили в д. Каверьянки до тех пор, пока немцев не погнали быстрым ходом, не давая им опомниться. Вот тогда-то мы стали возвращаться домой, год не помню, но была зима.
Помню эпизод: мы семьей возвращались домой на лошади, и в том месте, где сейчас находится военный городок, я увидела что-то страшное: на деревьях висят шинели, кишки, все кругом в крови, окровавленные белые халаты, руки, ноги, изувеченные тела. Мама нас, детей, пыталась отвернуть от этого зрелища, но мы уже все увидели и сильно плакали, настаивали на том, чтобы не ехать домой. Мама нам сказала, что это погибли наши разведчики, случайно наткнувшись на мины. Когда приехали домой, дом оказался пуст, двери раскрыты, в доме холод собачий, нет картошки, муки, зерна, а нас 6 человек-ртов (четверо детей, мама, бабушка). Мы пошли к тем, кто остался в деревне, просить взаймы кто сколько даст. Дожили до весны, пошла крапива, лебеда. Эту траву перемешивали с небольшим количеством муки и ели тошнотики. А сами думали – побольше бы этих тошнотиков.
Вернулся колхозный скот, и все пошло по-старому, но война еще шла. Лошадей не хватало, чтобы посеять и посадить картошку. Копали вручную поля, все получилось, вырос хлеб, картошка и все овощи. Ура, мы выжили и выросли, во всем стали мудрее. Мой отец Шульдешов Дмитрий Иванович стал работать бухгалтером. Осколок, что был в ноге у отца, вышел сам через 10 лет после войны.
Большое счастье, что закончилась война, началась другая жизнь. Я повзрослела и работала с мужиками и ребятами на лошади, пока не вышла замуж. В совхозе «Борец» Дмитровского района проработала 22 года техником искусственного осеменения.
Устинова Людмила Дмитриевна
Мы жили под телегой
Севшая напротив меня в автобусе пожилая женщина одета «с иголочки» – модная шапочка на аккуратно подстриженных седых волосах, черно-белое пальто. Язык не поворачивается назвать ее «старушка» – она похожа на актрису из старого фильма.
…мы разговорились, и женщина оказалась, ко всему прочему, очень приятной и жизнерадостной.
С чуть печальной улыбкой рассказала, как жила в оккупированной немцами деревне, как отца, которого считали погибшим, по бумажкам назвали «пропавшим без вести» и потому лишили ее мать с четырьмя детьми на руках пособия в 5 рублей 60 копеек. Рассказала еще, как мать мазала лица старших дочерей сажей, чтобы хоть как-то уберечь их – девушек и женщин немецкие солдаты нередко насиловали.
– Когда стало совсем плохо, нас эвакуировали, но недалеко, километров шестьдесят от нашей деревни. Погрузили на телегу вещи какие остались… Вы знаете, как нам повезло – мама чудом сберегла лошадь! Не знаю, как немцы ее не забрали. На новом месте нас поселили в большом бараке, где спали все вместе. Пару ночей ничего, а потом вдруг посреди ночи вбегает человек и кричит: «Пожар! Спасайтесь!» Люди повыбегали кто в чем был, вещи, конечно, все сгорели. Оказывается, немецкий солдат ходил от дома к дому с факелом, поджигал крыши. Крыши-то соломенные, быстро занимались, и домишки сгорали в два счета. Хорошо хоть живы остались.