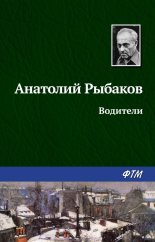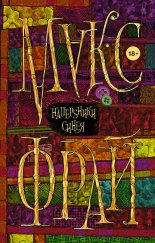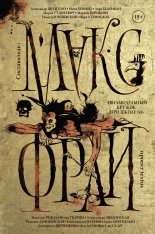Как мы пережили войну. Народные истории Прилепин Захар

Ядерный щит России – ПО «МАЯК», или Чернобыль Урала
В 1957 году меня призвали в армию. Нас, новобранцев, везли в товарных вагонах, не сообщая, куда везут. Только прибыв в пункт назначения, когда нам пришлось давать подписку о неразглашении данных, мы поняли, что оказались в закрытом секретном городе «Челябинск-40»[1]. Там в белых комбинезонах и респираторах мы ликвидировали загрязнения территории от радиоактивной пыли. Как только мы набирали определенную норму облучения, нас с объекта списывали.
С женой
Эта уральская трагедия была предана огласке только спустя 30 лет.
Я отслужил ровно три года и вернулся в Ленинград. Радиация подорвала мое здоровье, как и здоровье многих ликвидаторов аварии. После чернобыльской катастрофы, которая прогремела на весь мир, мы заслуженно получили свой статус ЛИКВИДАТОРОВ радиоционной катастрофы на ПО «Маяк». К сожалению, непосредственных участников ликвидации последствий аварии 1957 года становится с каждым днем все меньше и меньше.
Очень жаль, что сегодня об этой аварии многим почти ничего не известно. А ведь эта трагедия ничуть не уступает по драматическим и экологическим последствиям аварии на Чернобыльской АЭС.
Горбунов Лев Глебович, 1937 г. р.
Блокадное детство моей прабабушки
Мою прабабушку зовут Антонова Алиса Филипповна (девичья фамилия Афонина). Она родилась 3 июня 1937 года в Ленинграде, в больнице имени Шредера на Петроградской стороне.
Мне было очень интересно, как жили люди во время войны, и вот мне бабушка рассказала свою историю – то, что она помнит из своего детства.
«Когда началась война, мой отец, его звали Филипп Павлович Афонин, ушел на фронт. Мама, Афонина Евдокия Васильевна, осталась с тремя детьми и бабушкой Ксенией. Сыну Володе было 12 лет, сестре Маргарите 7 лет, и мне 4 года. Мы жили в Ленинграде, на улице Зверинской, дом 33, квартира 49.
Насколько я помню, был приказ, чтобы срочно отправить детей из города. Отправляли в детский лагерь на автобусах в Боровичи. Оказалось, что это было предательство. Старших детей отправили в лес, а у маленьких был тихий час. Но мне повезло. Моя сестра узнала, что будет обстрел, схватила одеяльце и волоком стащила меня в лес. Погибло очень много детей. Потом мама нас нашла и забрала.
Война запомнилась как страшный голод. Постоянно бегали в бомбоубежище. Обстрелы и бомбежки были постоянными спутниками военной жизни Ленинграда. В 1942 году умерла бабушка. Ее завернули в простыню и увезли на санках на Серафимовское кладбище в общую могилу.
Описать все ужасы войны невозможно. Забивали окна. Жили без света и тепла. За водой брат ходил на Неву и привозил ведро на санках. Возвращался весь обледеневший. Плакали постоянно, очень боялись во время бомбежки и забивались в углы. От бомбежки горел зоопарк, кричали звери – страшное зрелище!
Всегда хотелось есть. Когда делили хлеб среди детей, все смотрели, у кого больше кусочек. Помню, как брат где-то раздобыл немного муки. Развели эту муку водой и жарили над свечкой блинчики. Набрасывались на еду как голодные собаки. Мама работала, а дети жили сами по себе и ждали только еды. Самым главным деликатесом была „дуранда“ – плитки прессованного жмыха от семян маслосодержащих растений. Это было настоящее лакомство по сравнению с супом из клея. Обезумевшие от голода люди могли не просто отобрать продукты, но и убить за маленький кусок хлеба.
Однажды сестра Рита пошла в магазин за хлебом. За ней шел парень, он выхватил карточки, и мы остались без хлеба. Невозможно описать, что мы тогда испытали. В нашем доме, в соседской квартире жил хороший мужчина. Он все время стучал в нашу дверь, но мы не открывали – голод заставлял людей становиться людоедами.
В начале войны отец был ранен и лежал в госпитале во Всеволожске. В больнице выдавали папиросы, но отец не курил. Он их менял на хлеб и отдавал нам.
Помню, как всегда со слезами читали папины письма с фронта. Но однажды на столе стояла папина стеклянная кружка, которая вдруг треснула и развалилась пополам. А на следующий день, 13 января 1943 года, пришло извещение, что отец пропал без вести.
Гулять практически не ходили. Боялись бомбежек. Но детям хотелось играть. Один раз мы играли во дворе. Подъехала машина, нагруженная свернутыми коврами. Мальчишки залезли на ковры и увидели, что в этих коврах завернуты покойники – полная машина. Это собирали по домам умерших людей. Мы очень испугались, и я запомнила это на всю жизнь. Брат Володя ходил с мамой на работу и помогал ей. В 1944 году я пошла в школу, а старшая сестра Рита оставалась дома, так как не могла ходить из-за дистрофии ног.
Моя школа № 78 на Зверинской улице работала всю войну и спасала детей. Это была женская школа. Потом в этом здании открыли профессиональное училище. Мыться ходили в баню у Сытного рынка. Хорошо помню, что у всех были вши.
После снятия блокады на восстановление разрушенного Ленинграда привозили пленных немцев. Помню, как немец, который выкладывал мостовую на Зверинской улице, подозвал меня, и я поняла, что он просит еды. Я приносила ему несколько раз хлеб, за это он подарил мне губную гармошку.
В День Победы, 9 мая 1945 года, была теплая погода. По улице мимо зоопарка шли танки со счастливыми солдатами. Я стояла с 9 утра почти полдня и ждала, когда появится мой отец, но он так и не появился. Но оставалась надежда, что он вернется.
После блокады мама давала нам еду в школу поровну. Иногда на переменке я искала свой завтрак, его не было в портфеле. Это моя сестра тайком его съедала.
После войны государство очень помогало детям погибших на войне отцов. Бесплатно кормили в школах, отправляли в лагеря, выдавали одежду и обувь.
Никому не пожелаешь пережить все то, что пережили мы, – безумный и бесконечный страх и голод».
Вот такую грустную историю поведала мне моя прабабушка. Она глубоко тронула мое сердце. Я бы не хотела оказаться на ее месте, потому что это была очень страшная жизнь. Очень хочется, чтобы никогда в мире не было войны.
Богачева Алена, 1-а класс МБОУ «Гимназия», г. Выборг
Цена жизни – полстакана риса
Мои бабушка и дедушка по отцу в блокаду работали врачами. Дедушка погиб при бомбежке, бабушка умерла в очереди за хлебом – сердечный приступ.
Дедушка по маме (Нестеров Григорий Иванович) работал шофером, а зимой на Дороге жизни по Ладоге. Им разрешалось вывезти семью на Большую землю, но бабушка (Нестерова Елизавета Ивановна) отказалась, сказав: «Я здесь жила, здесь и умру». Когда мама рассказала мне об этом, я ругался: «А о тебе она подумала!» – мама чудом выжила, об этом далее. Водителям под страхом расстрела запрещалось привозить еду с Большой земли. Как-то дедушка взял маму с собой, там ее моряки покормили. Почему он ее там не оставил? Не знаю.
Моей маме было тогда 11 лет. Она была при смерти (извините за подробности): теряла сознание, кровавый понос и т. д. Врач сказал, что это конец, но ее может спасти только отварной рис.
И это в блокадном Ленинграде в самый голод!!! Дедушка где-то за городом, выменял полстакана риса, и это спасло ей жизнь. Своему сыну я сказал: «Если бы не эти полстакана риса, не было бы на свете ни меня, ни тебя».
Как-то я ремонтировал дома мебель и разогревал столярный клей – запах шел по всей квартире. И вдруг услышал плач из маминой комнаты. Она вспомнила блокаду и как они ели столярный клей. Больше я этого не делал.
Мама была участницей детского ансамбля Обранта А. Е. во Дворце пионеров им. Жданова. Они выступали не только в госпиталях, но также их вывозили к линии фронта. Мама (Колобова Нонна Григорьевна 1931–2010) каждый год ходила (пока могла) на встречи участников того ансамбля. Все награждены медалями «За оборону Ленинграда», но только в двухтысячных годах смогли добиться, чтобы их приравняли к участникам ВОВ., но это отдельная история. Так вот, после выступления им давали по маленькой соевой лепешке. Мама всю жизнь обожала оперетту. С этой лепешкой она шла в театр оперетты (он тогда работал), и за эту лепешку ее пускали на спектакль. На нашей Пушкинской улице на углу дома у садика есть булочная. В блокаду там получали хлеб по карточкам. Мои родители жили в одном доме. Мама, пока шла домой с хлебом, отщипывала по маленькому кусочку. Ей казалось, что это незаметно, а когда приходила домой, руки были пусты. Она ревела, но бабушка не ругалась. Отец (Колобов Владимир Константинович (1927–1991)) жил в этом же доме и получал хлеб там же. Хлеб привозили на телеге, запряженной лошадью. Однажды около булочной лошадь упала и издохла. Из домов выскочили люди с топорами, ножами, и (на глазах у отца) от лошади ничего не осталось.
Отец работал электриком в институте уха, горла, носа. Однажды его послали поменять сгоревшую лампочку в морге, который находился в подвале. Большой подвал был почти под самый потолок забит трупами, свет не горел. Лампочка находилась на середине потолка. Отец (14-летний мальчик) в полной темноте на ощупь полз по трупам, чтобы найти патрон со сгоревшей лампочкой. Нашел, поменял, и свет загорелся. Я даже не представляю, что с ним было. Он рассказывал, что самое страшное – это обратный путь по трупам ползком в узком проходе под потолком при свете.
В нашем доме две дворничихи мародерствовали – ходили по квартирам умерших и тащили все ценное. Весь дом знал об этом. У них хватило ума тащить с 5-го этажа пианино вдвоем. Пианино поехало и придавило одну из них насмерть.
Мой отец ушел из жизни в 1991 году. Материально он был обеспечен: работал и еще получал пенсию. У него в квартире я обнаружил 3 довольно больших бумажных пакета высотой сантиметров по 50 с сухарями белого и черного хлеба. Это не были остатки со стола, а аккуратно нарезанные кубики. Если учесть обстановку в стране в то время, вероятно, страх перед голодом не оставлял его до конца жизни. Также я нашел у него много книг о блокаде – он ею жил.
Мама всегда плакала, когда по телевизору показывали что-нибудь о блокаде, особенно фильм «Балтийское небо», и вспоминала, как она с бидончиком ходила пешком зимой за водой.
Когда родители рассказывали о блокаде, в интонациях не звучало никакого пафоса, героизма. Как-то просто, обыденно. Да и вспоминали вслух не очень часто, только мама при этом плакала.
Рассказывали о блокаде редко, но я чувствовал, что она с ними присутствует постоянно.
Я думаю, что блокада всю жизнь была для них как бы мерилом ко всему, что происходило вокруг, в любые времена.
Медали моих родных «За оборону Ленинграда» теперь хранятся у меня.
Если имена моих родных упомянут в книге о блокаде, я буду счастлив. Они это заслужили, да и память для потомков.
Колобов Владимир Владимирович
«Когда живое все от взрывов глохло…»
Екатерина Михайловна Назаренко – жительница блокадного Ленинграда, которая все 900 дней провела в голодном городе. Когда мы пришли к ней в гости, первое, что она спросила: «Вы голодны? Проходите на кухню».
Напоила сладким горячим чаем с бутербродами и печеньем и только после этого начала свой неторопливый рассказ.
Собственные воспоминания перемежались со стихами Ю. Воронова. Изредка Екатерина Михайловна останавливалась, чтобы вытереть слезы и глубоко вздохнуть…
…Что может помнить о тех трудных днях ленинградской блокады 6-летний ребенок? Но, похоже, память детская такая цепкая, что самые яркие и тяжелые события врезались в нее на всю жизнь, и забыть это уже невозможно… Страшное, конечно, было время, вспоминать о нем очень, очень тяжело, но и не вспоминать невозможно. Я гоню от себя мысли, хочу забыть эти годы, но забыть никак не могу, никак. Вот ложусь спать, и до трех-четырех часов ночи все эти картины возвращаются, возвращаются… Эта боль осталась, и нет сил забыть, выгнать из себя воспоминания.
Хлеб
- Забудет ребенок за малостью лет
- Блокадные голод и холод,
- Но врежется в память из множества бед
- Особенно острый осколок…
Наша семья жила в двухэтажном деревянном доме на Крестовском острове, там и застала нас война. Мама умерла, когда мне исполнился 1 год, с рождения воспитывала меня бабушка, папина мама. Еще с нами жила моя крестная – родная дочь моей бабушки, моя тетя. Вот так мы и жили втроем.
В начале войны были введены карточки, но 8 сентября 1941 года случилось страшное. В Ленинграде находились так называемые Бадаевские склады, где хранился запас продовольствия и всего прочего для населения. Эти склады были полностью уничтожены немцами. Началась блокада, эвакуация, и прежде всего спасали детей. Мы тоже поехали на вокзал, но дорога оказалась перекрытой, и нам пришлось вернуться обратно.
Голодное было время, холодно очень, морозы достигали 42 градусов. Отопления не было, дров не было, электричества не было, канализация не работала, транспорт, как шел, так и остановился, – город жил на выживание, очень было тяжело. Сразу же ликвидировали все продовольственные карточки, продуктов все равно не было, остались только хлебные – 125 грамм на один день. Это, конечно, очень мало, и выжить на эти 125 грамм было невозможно. Да и хлеб был не тот, что сейчас. Это был маленький кусочек, который помещался на ладони. Состоял он из того, что шло раньше на корм скоту: жмых, дуранда, силос. Поэтому хлеб был тяжелый и влажный, но это был все же хлеб – символ нашей жизни, о другой еде мы не знали, и умирая, люди ничего не просили, просили только хлеба. И вот за этими 125 граммами люди каждый день с утра стояли в очереди на сорокаградусном морозе. Можно было взять хлеб на 2 дня сразу, но никто не брал, потому что знали, если возьмут – все равно съедят, а завтра – голодная смерть.
Бабушка спасла меня
И вот хлебушек этот обязательно завернут в тряпочку и несут домой. Крестная всегда делила его, во-первых, пополам: на утро и на вечер; во-вторых – кусочек мне, кусочек бабушке, кусочек себе. И каждый раз сразу уходила, чтобы не видеть и не слышать, хотя знала, что будет дальше. А бабушка, до сих пор помню ее голос: «Катенька, хочешь хлебца?» Мне было всего 6 лет, конечно, я говорила «хочу», что я могла еще ответить?
А голод такой, что все болело, все внутри слипалось, хотелось что-нибудь проглотить. Хлеб мы не ели – мы его сосали, как конфетку. Вам сейчас трудно представить, чтобы дома не было ни крошечки хлеба. И не один день, а целых 900 дней, два с половиной года. Бабушка моя заморила себя голодом, ее хлебушек съедала я. Я даже не помню, как она ходила, а помню, что она все время лежала в нашей большой комнате. Ни одного стона, ни одного звука я не слышала от нее. Как она терпела эти муки? Для того чтобы сохранить мне жизнь, моя бабушка лежала и тихо умирала. Сколько она лежала, я не помню, ведь в детстве трудно ориентироваться во времени, но помню, что, когда она умерла, она была как пушинка, легкая-легкая, и кожи на спине почти не было, одни кости. Ей было всего 52 года…
И после смерти бабушка сохраняла меня – мы ее долго не хоронили, чтобы не отобрали карточки. Она лежала на столе, возле окна. Сколько она так лежала, я не помню, но думаю, что достаточно долго, зимой ведь могилу не выкопаешь. Ближе к весне приехал сын на велосипеде, завернул ее в простыню, привязал к велосипеду, и мы отвезли ее на Серафимовское кладбище.
Когда умерла бабушка, тетя попросила, чтобы я называла ее мамой. И я стала называть ее мамой, так всю блокаду мы с ней и выживали.
Спаси Римму!
Да, самым страшным для ленинградцев в блокаду была дистрофия, она как косой косила людей. Дистрофия была трех степеней. Первая степень – человек просто худеет, вторая – исчезает вся жировая прослойка (у меня была 2-я степень), ну а третью степень вылечить оказывалось уже невозможно – происходили изменения внутренних органов, которые приводили к необратимым процессам в организме.
По соседству с нами еще три семьи жили, и я к ним иногда заходила. Помню, в одной семье на столе долго лежал мертвый мужчина. А вот другая семья мне очень запомнилась. У них была огромная комната, в которой стоял неимоверный холод, лежала умирающая мать троих детей и все время плакала. Моя мама ухаживала за ними, ходила за хлебом. И эта женщина просила: «Валя, спаси Римму, спаси Римму». Римма была старшая, ей тогда было лет 8, а еще были девочка лет 5–6 и мальчик лет трех. Девочка все время плакала и просила кушать. Она сидела на стуле, подложив под себя ручонки, и покачивалась, потому что сидеть на косточках было больно. Помню их красивую печь и мальчишечку, который стоял возле этой печи, ловил вшей и хрупал – хруп! «Мама, кусить!» – хруп! хруп! «Мама, кусить!» Не могу забыть их мать, обливающуюся слезами от того, что самое дорогое в ее жизни, ее дети, умирают на глазах, и она ничего не может сделать. Потом младшие дети умерли, умерла и их мать, а Римму отдали в детский дом. Ее потом нашел отец. Таких семей было много…
Мама рассказывала, что многие матери обезумевали от крика голодных детей, молока-то не было. Они надрезали грудь и поили кровью ребенка, но сами потом умирали.
Вода
Еще была проблема с водой, в основном, топили снег, ходить за водой далеко, да и сил не хватало. В нашем городе есть место на Неве, где огорожено и написано, что здесь в блокаду люди брали воду. Представьте, как им было тяжело, ведь вода нужна везде: и на предприятиях, и хлеб испечь. Налеты, бомбежки, вой сирены, ведра и кастрюли привязаны к саням, а люди молча пережидают и берегут силы…
- Не думайте, что лезут зря под пули.
- Остались – просто силы берегут.
- Наполненные ведра и кастрюли
- Привязаны к саням, но люди ждут.
- Ведь, прежде чем по ровному пойдем,
- Нам нужно вверх по берегу подняться.
- Он страшен, этот тягостный подъем,
- Хотя, наверно, весь – шагов пятнадцать.
- Споткнешься, и без помощи не встать,
- И от саней – вода дорожкой слезной…
- Чтоб воду по пути не расплескать,
- Мы молча ждем, пока она замерзнет…
Братские могилы
Когда все деревянные дома стали разбирать на дрова, нам с мамой дали квартиру на Петроградской стороне. Мы пришли туда, а там ни одной живой души в доме, все умерли. Смерти мы не боялись, нет. Боялись за близких. Дети боялись одни остаться, боялись, что мама не вернется домой. Особенно было страшно, когда налетали бомбардировщики. По динамику неслось: «Внимание, внимание, говорит местный штаб противовоздушной обороны. Воздушная тревога!» – и так несколько раз в день. До трехсот самолетов ежедневно около семи часов вечера прилетали и бомбили жилые районы. Это было ужасно – вся земля тряслась, стекла вылетали из окон, стоял гул непостижимый.
Вокруг все дома оказались разрушены прямыми попаданиями снарядов, а наш дом на Полозова, 22 до сих пор стоит. Это бабушка меня хранила.
Топить было нечем, и мама, уходя на работу, оставляла меня в ванне. И я с утра до вечера лежала голодная в ванне на перине и ждала ее. Она приходила с работы и первым делом кричала: «Катенька, жива? – и скорее бежала в ванную: – Жива, слава Богу». Потом брала два бидончика и в один набирала снег, в другой – угольки и топила «буржуйку». Попьем мы кипяточку и хлебушка поедим. Вот так мы и жили.
Конечно, много народу умирало. По улице Ленина постоянно шли грузовики, груженные трупами, хоронить было сложно, поэтому морги устраивали везде – и в подвалах, и во Дворце пионеров, и даже в Зимнем дворце. Люди умирали, их выносили на улицу. По городу ездили специальные машины, забирали покойников и увозили на Серафимовское или Пискаревское кладбище. Многие люди, предчувствуя смерть, сами шли ближе к кладбищу, дорога туда была усыпана телами, ведь многие не доходили, умирали. На кладбище работали саперы из ПВО, которые взрывали землю, и в эти рвы сгружали трупы и зарывали.
- Над ним оркестры не рыдали,
- Салют прощальный не гремел,
- А так как досок не достали,
- Он даже гроба не имел.
- И даже собственной могилы
- Ему не довелось иметь.
- У сына не хватило б силы,
- Его б свалила тоже смерть.
- Но тут другие люди были,
- И сын пошел с лопатой к ним,
- Все вместе к вечеру отрыли
- Одну могилу – семерым.
- И знали люди, обессилев,
- Но завершив печальный труд,
- Могилы общие в России
- Недаром братскими зовут.
Травка-крапива
Еще я хочу рассказать и о хорошем – о том, что детей не забывали. Старались из последних сил, чтобы облегчить их страдания. Новый год отмечали, праздники разные устраивали. Дело было к весне, маму забрали в больницу, а меня – в круглосуточный детский садик. Там проходил праздник, и я изображала крапиву. На меня надели зелененькое платьице из марли, и я читала стихотворение, которое помню до сих пор:
- Я травка-крапива, презлая трава,
- Собою некрасивая и неказистая,
- Но лишь кто до меня рукою коснется,
- Тому, чур, не плакать, тотчас обожжется.
Представляете, я не помню, чем нас кормили, но этот стишок помню до сих пор, хотя 70 лет прошло. Как мы ждали лета! На колени вставали и ели траву. Все скверы, парки засадили капустой. На Исаакиевской площади такая капуста росла! В Ботаническом саду жителям бесплатно раздавали рассаду, глазки картофеля. Из глазков замечательная картошка вырастала! Лебеду и крапиву официально разрешили продавать пучками, как сейчас петрушку, укроп. Это было такое объедение – щи с крапивой и лебедой!
Еще помню, когда выписали из больницы маму, и она пришла за мной в садик. Я побежала к ней, но, когда увидела, спряталась за воспитательницу и кричала, что это не моя мама. Я не понимала и не знала, что от голода у людей начинается водянка: у нее распухли руки, ноги, лицо, и к тому же она была стрижена наголо из-за вшей. А она смотрела на меня и плакала…
Сколько же переживаний было у наших мам…
После блокады
В блокаду некоторые школы работали, но, в основном, учеба началась в 1943 году. 1–4 классы пошли на учебу с 10 сентября, а старшие классы – на месяц позже.
Учиться тяжело, света не было, только керосиновая лампа. Я просила маму показать мне строчку, где писать, – у меня из-за контузии зрение было слабое. Учились мы, наверное, плохо, у меня только по пению стояло «отлично».
После блокады мне сказали, что с дистрофией 2-й степени я не выживу, если ежедневно не буду пить парное молоко. Мы купили корову и с Крестовского острова шли с ней пешком до Коломяг. Вбили кол, привязали корову. Вначале построили сарай, потом дом. Так выходили меня после войны. Сейчас дома уже нет, там улица Парашютная проходит. Но те 5 берез, которые мы посадили возле дома, стоят до сих пор, как память о тех, кто отдал свои жизни, чтобы вы не знали ужаса войны.
В праздники Победы мы идем на кладбище, каждый старается что-нибудь принести – кто конфетку, кто еще что-нибудь, а я всегда несу хлеб, так и не доставшийся моей дорогой бабушке. Низко кланяюсь ей за то, что спасла мне жизнь. Если бы не она, я бы столько не прожила.
- Блокады нет,
- Но след блокадный в душах,
- Как тот неразорвавшийся снаряд.
- Он может никогда не разорваться,
- О нем на время можно позабыть
- Но он в тебе,
- И нет для ленинградцев
- Саперов, чтоб снаряд тот разрядить.
Надо жить
Главной чертой ленинградцев всегда была доброта, сострадание: если кому-то рядом плохо, они уже о себе не думали, должны были помочь. Вот идет впереди человек, падает. Подойдешь: «Тетенька, вы живы?» А видно было по глазам: если глаза шевелятся, значит, жив. Поможешь встать, дойти до дома. Даже хлеб отдавали не раздумывая, спасая другого. И сейчас, когда кто-то приходит в гости, мне прежде всего хочется накормить, все кажется, что он голодный.
У людей был огромный запас доброты, помогали друг другу, потому и выжили. Не проходили мимо, если кому-то нужна помощь. Помню, пленных немцев вели по Каменноостровскому. Казалось бы, после всего пережитого ленинградцы должны были разорвать их на кусочки! А они стояли, плакали и бросали хлеб. Ведь шли совсем мальчонки, такие маленькие, такие жалкие.
Я и сейчас не могу пройти мимо человека, если ему плохо. Пусть это даже пьяница валяется, я обязательно подойду и спрошу, может, чем помочь надо.
- Когда живое все от взрывов глохло,
- А он не поднимал ни глаз, ни рук,
- Мы знали: человеку очень плохо.
- Ведь безразличье хуже, чем испуг.
- Мы знали: даже чудо не излечит,
- Раз перестал он жизнью дорожить.
- Но был последний способ – взять за плечи
- И крикнуть человеку: «Надо жить!»
- Приказом и мольбой одновременно
- Звучал тот полушепот-полукрик.
- И было так: с потусторонним пленом
- Вновь расставался человек в тот миг…
- И если вдруг от боли или муки
- Я стану над судьбой своей тужить,
- Ты, как тогда, на плечи брось мне руки
- И, как тогда, напомни: «Надо жить!..»
Нас уже совсем мало осталось, но наша жизнь продолжается в вас. Помните об этом, будьте достойны этой памяти.
…На следующий день после нашей встречи скорая помощь увезла Екатерину Михайловну в больницу. И через 70 лет война отозвалась сердечной болью…
Ирина Шамсирова
Слово «война» стало вторым после «мама»
Началась война. Через несколько месяцев я родилась. Практически я стала ровесницей этой войны, и слово «война» стало вторым после «мама». Это слово и «Ленинград» вошли в мою жизнь как заклинание. Воспоминания были такие яркие и значительные. Они остались в памяти. Все последующие годы бессознательно и сознательно я ждала, когда кончится война.
Бабушка, Любкина Зинаида Васильевна, работала в железнодорожной школе Ленинграда завучем. Школа была эвакуирована в августе 1941 года, но под городом Тихвином поезд со школьниками разбомбили.
Отец, Кулаков Андрей Павлович, в начале войны доучивался в военном училище.
Бабушка, мама и я устроилась под Саратовом. Бабушку назначили в совхозе директором школы, а мама работала в госпитале санитаркой.
В Ленинграде остался дедушка. Он работал преподавателем физики в педагогическом институте. У него была бронь как у научного работника. Позднее ему давали место в самолете на выезд из города, но он уступил место студентке с ребенком. В 1942 году дедушка умер от дистрофии, а мой отец погиб на Ленинградском фронте.
Когда прорвали блокаду в Ленинграде, бабушке по запросу от А. А. Жданова прислали вызов на восстановление города. Бабушка, мама и я поехали в Ленинград. В город пропустили только бабушку У нее был пропуск. Затем прислали вызов и нам. В Ленинграде наша квартира оказалась занята. Когда дедушка эвакуировался с институтом, то квартиру разграбили. Ничего не осталось. Шкафы, кровати, одежда, люстра и другие вещи разобрали жильцы дома, книги сожжены, ими топили буржуйку. Мы ночевали то у одних знакомых, то у других. Чаще всего у маминой подруги на улице Чехова, д. 5.
Бабушка судилась с управдомом за возврат квартиры. Была зима 1944 года. Однажды мы шли куда-то через Литейный мост. Мороз. Холод. Темень. Хоровод русалок догонял меня. Русалки заглядывали мне в глаза. Они как живые кружились, догоняли меня. Было страшно и холодно. Замерзла голова. Шапка, которую мне надели, мне мала. Одежды в войну тоже не было. Русалкам тоже холодно. На них лежал снежок. Мама торопилась. В бомбежку на мосту опасно. Трудно идти по снегу. Я не успевала за шагами моей мамы. Эти мои ощущения до сих пор возникают, когда я оказываюсь на Литейном мосту. Это мои первые отрывочные воспоминания о блокадном городе. Мне было два с половиной года. Дальше я жила сознательно.
Суд возвратил квартиру нашей семье. Бабушка документами доказала, что она не бежала от немцев, а эвакуировалась с учениками и школой. Ее наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Удалось отсудить кое-что из мебели. Вот мы в комнате. Мне разрешают говорить громко и бегать, что запрещалось, пока мы жили у чужих людей. В кухне зажигали керосиновую лампу. Я ее никогда не выкину. Свидетельницу первых лет моей жизни. Похожая лампа есть в Музее радио.
Кухня, а дальше длинный коридор в комнаты. Пробегаю через коридор. Там тоже темно. Окна заклеены бумагой крест-накрест. На ночь окна плотно завешивали одеялами, чтобы не просвечивали огни керосинки. Страх от этих пробежек закалял мое сознание. Я боялась управдома, которая часто проверяла проживающих в доме по прописке, и пряталась от нее в дальней комнате под кроватью.
С каждым днем воспоминания все отчетливее. Однажды при свете керосинки бабушка переливает кипяченое молоко, полученное по детской карточке, в стеклянную банку, приговаривая: «Сейчас молочка дам». Поторопилась бабушка. Я отчетливо помню, что молоко на два пальца покрывало дно, и вдруг появляется темная полоса, и молоко льется на стол и на пол. Я плачу. Я понимаю, что пить уже нечего. Меня укладывают спать, а я плачу, что хочу есть.
Город еще бомбили. Мама со мной спустилась в бомбоубежище. Тусклая синяя лампа. Разглядеть почти ничего не возможно. В темени угадываются силуэты людей. На нашей лестничной клетке потолок пробит бомбой. Видно чердак и серое небо. Дыры от бомб были также в крыше со стороны Литейного и Жуковского. На чердак мы с мамой ходили, чтобы вешать белье для сушки. В квартире запрещалось сушить белье, чтобы не разводить сырость. Было сыро в комнатах еще долго. Переплеты книг покрыты серо-зеленой плесенью. На Невском проспекте в отрезке до Московского вокзала и на Жуковского стоят развалины домов. Позднее их замаскировали тканью с нарисованными окнами, чтобы не было видно разрушений для поддержки настроения.
Покой был во время тиканья ходиков с медведями на фасаде, стука метронома из черной тарелки громкоговорителя, журчания воды. Кран до конца не закрывали, чтобы в морозы труба не перемерзла. С тревогой слушали оповещения о бомбежке, с радостью голос Левитана, где по первым звукам его голоса догадывались о радостном известии, наступлении наших войск и освобождении городов.
В три года меня отвели в детский сад на углу Жуковского и улицы Чехова № 25. Мне сшили платье из наматрасника горчичного цвета и отделали голубой шелковой бейкой. Очень красивое. В этом платье было столько фантазии. Воротничок и кармашек необыкновенный, вшит в шов уголком. Этот кармашек закрывал заштопанную дырочку. Шила платье тетка Рая. Она с сестрой всю блокаду работали в костюмерной Театра оперетты.
Модистки. Сколько выдумки, изящества, вкуса и природного эстетизма вкладывали они в свои творения. Когда бабушка вынесла в эвакуации на базар свои сшитые до войны платья, то толпа повалила ее в снег. Остались только два платья и блуза, которые бабушка носила долго после войны.
Я быстро росла. Впитывала в себя все что видела. Есть я не любила. Все было безвкусное и бесцветное. Особенно я не любила печенку. Жесткая и горькая. После войны долго ее не ела. Однажды я услышала разговор бабушки и мамы, что на завтра нет хлеба, а кроме хлеба, ничего не было. Во время обеда, откусив тоненький ломтик, я вспомнила это и положила в кармашек передника остальное. Когда я дома вспомнила и стала искать ломтик, то в переднике обнаружилось чуть-чуть крошек. Бабушка все равно похвалила меня.
Может ли любой человек понять голод в большом северном гранитном городе с коротким летом? Здесь нет кустов, съедобных трав (щавеля, кашки), фруктовых деревьев. Одни камни. Люди, которые сажали что-то на газонах, никогда не пустят пришельцев. Первую ягодку малины я попробовала после окончания войны. Первый кусочек яблока я попробовала уже школьницей.
В конце войны детей спросили, о чем они мечтают. Дети ответили: «Чтоб соевая коровка сдохла». Так невкусно было соевое молоко.
Наверно, война уже отступила от Ленинграда. Мои родные и воспитательницы стали радостнее. С первой встречи с ленинградцами, а это были в основном женщины, меня поразило, какое доброе отношение проявляли ко мне. Детей в городе было мало, и их редко выводили на улицу. Знакомые, соседи и совершенно чужие люди очень приветливо здоровались и с интересом разговаривали со мной. Тогда я впервые познакомилась с ленинградской культурой. Позднее я гордилась, что я – часть этой культуры, и старалась быть всегда приветливой и улыбчивой.
Воспитательницы детского сада вкладывали в наше развитие свои знания. Я до сих пор помню их имена. Раиса Ивановна и Злата Исааковна. Воспитатели нас учили рисовать, танцевать и петь. Мы разучивали стихи. Однажды они повели нас по улице Чехова. Мы рассматривали атлантов, которые на своих плечах держали небо.
В детском саду праздновали Новый 1945 год. Мы танцевали танец с коромыслами. Детям подарили тряпочных клоунов, сшитых из кусочков ткани. Воротничок из бинтика стягивался у ворота тесемочками, а внутри сладкие белые и голубые горошинки.
Дома бабушка спрятала клоуна в гардероб. Мне давали иногда подержать его в руках. Он сохранился, и я сдала его в Музей блокады. Мне рассказывали, что когда кто-то угостил меня конфеткой, то я не поняла, что это съедобно.
Соседи, пережившие блокаду, рассказывали, как им удалось выстоять в самые лютые времена. Люди возвращались из эвакуации. Все делились своими переживаниями. Я слушала их рассказы.
Война закончилась, когда мне исполнилось три с половиной года. По городу ездили машины и трамваи с флажками. Все были радостные. Вечером мы пошли на Дворцовую площадь. Было много народу. Я шла, держась за руки мамы и бабушки. На Дворцовой площади стояли прожектора. Струи света бегали и шарили по небу и перекрещивались. Кругом все целовались, смеялись. Играла гармошка, пели песни. Чувствовалось, что все надеются на новое лучшее, о чем думали и мечтали всю войну Я тоже жила надеждами. Такое состояние продолжалось до возвращения солдат.
Хорошо помню, как по Аничкову мосту (тогда говорили так), пересекая Невский, идут танки. Башня танка открыта, и на танке сидят и стоят солдаты с красными флагами. Вдоль тротуара до цирка стоят ленинградцы, все кричат: «Ура! Победа!»
А затем наступили рабочие будни. Дома принялись ремонтировать и красить. Дома на Невском покрасили розовым и голубым. Невский проспект стал простым, неинтересным. Через год весь Невский перекрасили в благородные, характерные для города цвета. Заиграли колонны, картуши, лепнина, орнаменты.
В шесть лет бабушка отдала меня в школу. Я гордилась тем, что живу в таком прекрасном городе. Что принадлежу к сообществу людей, которые выстояли, остались такими человечными и к людям, и к животным.
Я принадлежу к ленинградцам, буду беречь и любить мой гордый город. Не забуду, как я и мои родные жили мыслями о мире, об окончании войны, вспоминали, какой был город до войны. Фашисты разграбили, разбомбили все, что им встречалось на пути. Все эти послевоенные годы народ восстанавливал и строил. Мы бережем все, что нам дорого и прекрасно.
Ткаченко Зинаида Андреевна, родилась в октябре 1941 года.
Не стреляйте в меня! Я не ела хлеб!
Блокада Ленинграда! Страшное, немыслимое явление. Надо бы подробно описать все, ведь пережила тяжело самые страшные дни осени-зимы 1941–42 годов. Давно пора, но очень тяжело вспоминать до сих пор.
В мае 1941 года я получила письмо из Либавы (Лиепаи) о том, что стреляют в спину, что, как видно, скоро в бой. Там служил мой друг Саша Мошкарев. В первых числах июня все успокоилось вроде.
Так что мы ждали, что скоро война. Германия подошла вплотную к нашей стране. 22 июня я с друзьями поехала в Териоки рано утром. Там мы узнали о начале войны, решили все же погулять там до вечера. Обратно возвращались чуть ли не на подножках вагона. Домой вернулись в два часа ночи.
Конец февраля – начало марта 1942 года. Я оказалась без работы. Ожидала, что меня возьмут в армию, ходила в военный стол 32 отд. милиции (там был военкомат Невского р-на). Родители мои, вместе с братом Володей и сестрой Ниной, выехали на работу на Ледовую дорогу. Я вспомнила, что, по рассказам отца, в тресте столовых Куйбышевского р-на работает его знакомый Козлов, начтреста, что на ул. Герцена, 3.
Я с большим трудом, с долгими остановками поднялась на высокий этаж (вроде 5-й). Вошла в кабинет – за столом сидит мужчина и читает газету. Я представилась, он сразу поднял голову и удивился, что я здесь, а не уехала вместе с родителями. Я стала просить какой-нибудь работы. Предложил он мне командировку на Ладогу, но сказал, что отправить меня транспортом не может. «Ищите сами какие-нибудь машины попутные, пропуск выпишу, как найдете машину». Такое заявление до сих пор меня удивляет. Город выглядел мертвым, редкие прохожие попадались. Любое движение давалось людям с трудом. Поиски машины затянулись надолго, на 2–3 недели, так как сил на поиски этой машины у меня не было. Эти недели я провела в столовой № 6 на ул. Желябова (по его совету). Продавала дрожжевой суп. Готовился он так: в котел с горячей водой бросали большую пачку дрожжей, заправляли эту жидкость сухой морковью. За этим горячим варевом стояла очередь. Торговала я в маленьком помещении, «американке», как называли тогда. Теперь там пышки продают. Холод в этой «американке» был жуткий. Спасибо швейцару (был такой в этой столовой), он принес мне под ноги деревянные мостки.
Помимо продажи этого супа я со всеми работниками этой столовой ходила к Дворцовому мосту на Неве за водой. Сильные повара забирали воду из проруби и передавали выше остальным. Меня они звали студенткой и – спасибо, вечно помнить буду, – оберегали. Нюра-повариха впрягалась в сани рядом со мной и требовала, чтобы я не тянула лямку, а только держалась за нее. Вот такие бурлаки тянули всей группой бочку или две воды. У моста в это время стояла подводная лодка, скованная льдом. Охраняли ее моряки, головы их были замотаны шарфами.
И вот однажды меня поставили продавать хлеб. Кладовщик взвешивал, а я носила в буфет для продажи. Пока я переносила хлеб, он украл буханку. Во время продажи я взвешивала до грамма, ко мне выстроилась очередь. Удивлялись люди, почему я опухшая и выгляжу не лучше их. Одна из женщин из очереди предложила мне каракулевую шубу за кусочек хлеба, что вызвало мое возмущение и тех, кто это слышал. Я им всем сказала, что также голодаю, что здесь я случайно. Одна женщина предложила мне пойти к ней, у нее есть дрова, и она вымоет мне голову. Я согласилась. Взяла с собой 175 г хлеба, норму служащей. Она жила на ул. Герцена за кинотеатром «Баррикада», во дворе, на 4-м этаже. Она затопила печь, нагрела воды, вымыла мне голову. Стыдно, но я не помню ее имени. Я удивлялась ее силе и возможностям – ее муж работал в милиции, ребенок был отправлен, как многие дети, на Большую землю. Потом мы сели пить горячий кипяток с хлебом, но она, видно, решила, что я сыта, и хлеб принесла для нее, она съела и свой, и мой хлеб полностью. Я, конечно, молчала. Мне просто становилось плохо. Я хотела есть, может быть, больше, чем она. Мы легли спать. Уложила она меня на хорошую кровать с чистым бельем. Я всю ночь плохо спала, вскакивала с криком: «Не стреляйте в меня, я не ела хлеб!» На следующий день я должна была отчитаться перед бухгалтером талонами за хлеб, который я продавала накануне. Ужас! У меня не хватало талонов, несмотря на то что я вклеила все талоны из своей карточки вперед до конца месяца. Это грозит расстрелом. Вот когда выявилась кража кладовщика. Не знаю, как решила эту проблему бухгалтер Мария Ивановна, но после разговора с кладовщиком она сказала мне, чтобы я не боялась, что она уладила. Больше я никогда не занималась торговлей.
Вскоре после этой истории сотрудники моего дяди, Андрея Гавриловича, предложили мне быть заведующей булочной на Невском проспекте. Ввергли меня в такой ужас, что потом долго успокаивали.
Только что прошла передача о польском писателе Юзефе Хене, его скитаниях по Узбекистану в 1942 году. Вспомнила наши скитания в эти годы.
Май 1942 года. Мы, наша семья, на полках товарного вагона (американского) вместе с другими ленинградцами: мать с сыном и дочерью, научный сотрудник Эрмитажа, изможденные, воскресающие из полумертвых; режиссер «Ленфильма» Лефевр с пятилетней дочерью, которая необычно для детей тихо и часто спрашивает у матери разрешения поплакать. До сих пор слышу ее голосок: «Мамочка, можно Милочка поплачет?» Ребенок не мог еще освободиться от ужасов блокады.
Ниже на полке – две девушки, сестры. Одна из них в предвоенные годы потеряла жениха в застенках «Большого дома».
В противоположном конце вагона совершенно ослабленный ученый-ботаник сохранял сортовые семена злаков, погибая от голода рядом с зерном на Исаакиевской площади.
Муж и жена пожилые, молодой человек, молчавший всю дорогу, и другие едва живые люди.
Все друг другу помогали. Мой отец и брат в этот период немного окрепли. Их обязанность, добровольная конечно, была держать за руки каждого из жильцов вагона, справляющих нужду в открытые двери вагона. Поезд иногда шел без остановок сутками. Я и Володя (брат) ходили с бидонами, кастрюлями за питанием. Две сестры и сын научного сотрудника Эрмитажа также ходили за питанием для всех ослабленных. Мертвых по дороге из вагона вынуждены были выбрасывать с записками, с документами. Вдоль всей железной дороги лежали тела умерших, которых хоронили жители близлежащих селений.
Так что попробуйте подсчитать, сколько умерло ленинградцев от голода?!
Шел наш поезд через Вологду, Вятку, через Свердловск, Оренбург, Арысь, Чимкент, Ташкент и далее. Путешествие длилось дней 20.
В Свердловске путевые рабочие спросили жильцов нашего вагона, куда нас направить, к какому составу прицепить.
Нас или к нам – скорее первое – прицепили к польскому составу. Несколько вагонов поляков, ехали из Архангельска, там они оказались в 1939 году, это были бывшие военные польской армии. Дисциплина среди них соблюдалась полувоенная. Утром и вечером мы слышали молитвы, пение гимна. На остановках их струнный оркестр играл, нас приглашали потанцевать, уговаривали ехать с ними. Они собирались в Иран, чтобы потом вступить в армию Андерса.
Подъехали к Чимкенту – зеленый городок. До Чимкента ехали пустыней, впечатление тяжелое. На одной случайной остановке к поезду подошли странные жуткие люди с проваленными носами, вытекшими глазницами. Среди нас оказался врач, он обежал весь состав и кричал: «Проказа, не покупайте ничего!»
В Оренбурге вышел ученый-ботаник, подъезжая, он встал на колени, плакал – доехал до своего дома живой! Что стало с ним дальше – неизвестно.
Вспомнила фамилию научной сотрудницы Эрмитажа – Грекова. Они поехали в Алма-Ату, туда же эвакуировали «Ленфильм», куда направились режиссер Лефевр с дочерью. Где-то они теперь?
Мы вышли в Джамбуле. Направили нас работать в совхоз «Билекуль».
В совхозе, директором которого был депутат Верховного Совета СССР, казах Джумаметов (неразборчиво), нас очень хорошо встретили, мы все стали работать. Отвели нам участок земли под огород – 7 соток и несмотря на разгар лета, все посадили, поливали, все выросло. Зимы там не было тогда. О поливе огорода разговор особый. Огород в форме ванны, в верхней возвышенной части всей площади проходит центральный арык, от него ответвления на каждый огород. Пускают воду в центральный арык, его течение запружает очередной поливальщик и пускает воду на свой участок. Вода буквально хлещет, заливает толстым слоем весь огород твой, кажется, что погибнут все тоненькие стебельки. Но нет, земля крепко их держит, земля как асфальт. Когда вода дойдет до конца участка, ее пускают дальше по центральному арыку, а полившему остается рыхлить землю.
Да, нам еще дали козу с козленком, так что мы имели в это время 3 литра козьего молока!
Казахи – добрейший народ, это открытые, внимательные люди. Конечно, надо и самим быть доброжелательными.
В декабре 1942 года мама и папа заболели тифом. У отца брюшной тиф, а у мамы сыпной. У нас еще не было козы. Просила продать молоко местных русских и украинок – не продали, держа в руках ведра молока. Возвращаюсь домой, совершенно убитая, плача. Навстречу ехал верхом полевод-казах. «Кыз, некерек?» Объяснила в чем дело. Подхлестнул лошадь и ускакал на ферму, где он жил, за 3 км. Привез молоко в бутылке, баурселки (хворост), кефир, масло сливочное, завернутое в газету. «Не плачь, я еще привезу. Лечи мамашку и папашку».
Другой случай. Ходили мы с сестрой Ниной вечером за кизяком и камышом. На пути стояла кибитка скотовода Байсеитова, всегда зазывал к себе на угощения. А как-то прислал дочку Айшу, 6 лет, с запиской: «Обявление. Моя делает байрам. Надечка, мамашка, Ниночка, папашка зову на байрам. Явка обязательна!»
Увидев нас издалека, стали готовить кульчатай, бешбармак, хворост, сливки. Мы пришли втроем без отца (Володя был на фронте). Все принарядились. Хозяину и жене его было по 26 лет, дочке 6 лет. Был у них патефон. Он хотел поставить пластинку с пением его сестры Куляш Байсеитовой, но, к несчастью, заводя патефон, сорвал пружину. Очень расстроился. Мы успокаивали его и сказали, что у нас в Ленинграде есть пластинка с ее голосом. Она была солисткой казахской оперы. Все вместе пели современные песни, потом танцевали. Мы с сестрой русского, а затем его жена и Айша танцевали казахские танцы. Вот какие чудесные люди!
Из воспоминаний Щемелининой Надежды Ивановны, жительницы Ленинграда (1922–2014)
Ангел-хранитель
Боязнь репрессий
К началу Великой Отечественной войны мне исполнилось 9 лет и я перешел во второй класс начальной школы, умел прилично читать и писать. Мама, отчим и я к началу войны жили в коммунальной квартире, расположенной в доме на углу улицы Халтурина (ныне Миллионной) и Мошкова переулка. Меня часто посылали в булочную за хлебом, в гастроном – за колбасой, сливочным маслом, сыром. Кроме того, мне разрешали самостоятельно ездить на автобусе № 2 к моему деду – известному скульптору[2], проживавшему тогда в собственном доме вблизи больницы Мечникова.
Для девятилетнего мальчика я мог считаться достаточно развитым, а также достаточно сильным физически. И это притом, что в раннем детстве переболел многими болезнями, в том числе туберкулезом, корью, воспалением легких. Несмотря на это, поскольку со дня рождения и до 5 лет я проживал с матерью в доме деда на окраине Ленинграда почти в деревенских условиях, по мере возможности сам приобщался к труду. Доставал из колодца неполные ведра воды, неумело, но прибивал молотком отваливающиеся доски от забора, строил из веток и деревянных отходов шалаши. С соседскими ребятами играл на улице в лапту, чем мы немало раздражали соседку, когда мяч залетал к ней в ее огород и мы залезали за ним через забор!
Осенью 1939 года мы с мамой и ее мужем, моим отчимом, уехали в Рязань, где провели целую зиму, а весной 1940 года вернулись в Ленинград. Причиной этого временного переселения была боязнь отчима репрессий. Дело в том, что незадолго до этого отчим, Михаил Хвостов, профессиональный виолончелист и дирижер, в составе делегации, в которую входили такие известные композиторы, как Д. Шостакович, Д. Покрасс, Книппер, посетили Германию. Их там очень хорошо приняли, оттуда отчим привез очень много нот, а также одежды – себе и моей маме. Однако друзья в связи продолжавшимися в стране репрессиями, посоветовали ему на время покинуть Ленинград. В то время каждого вернувшегося даже из официальной поездки заграницу могли обвинить в шпионаже в пользу империалистов.
Лев Шервуд. 1936 г.
Я не случайно решил вкратце описать маленькую часть моей довоенной биографии, чтобы и самому осмыслить причину выживания в жутких, нечеловеческих условиях ленинградской блокады! Общаясь с очень немногими оставшимися в живых людьми, пережившими блокаду, я убедился в том, что выживали только те, кто сумел сохранить прежде всего силу духа! Например, моя мама, родившаяся в 1904 году, получила своего рода закалку, неоднократно испытав холод и голод при царском и советском режимах, не впадая в уныние. Я очень любил маму (хотя и не был никогда маменькиным сынком) и старался подражать ей во всем, особенно в трудных ситуациях. Я не помню, чтобы она когда-нибудь паниковала или сетовала, хотя производила впечатление хрупкой и слабой. В то же время она не была практичной и не догадалась запастись провизией до тех пор, пока не началась паника в связи с отсутствием продуктов в магазинах!
Неожиданное спасение
Не могу не вспомнить эпизод, последствия которого могли бы стать трагическими для всей нашей семьи. В связи с приближением немецкой армии к Петербургу участились налеты на город ее авиации. В качестве одного из заслонов от них широко стали использоваться аэростаты, напоминающие дирижабли, но значительно меньшие по размерам и не имеющие корзин для пассажиров. На место запуска их переносили на руках, преимущественно военнослужащие-девушки по четыре – пять человек с каждой стороны.
Как-то раз с несколькими ребятами из моего класса мы побежали смотреть на набережную Невы на запущенные аэростаты, и я чуть не повторил фразу моего отчима о том, что если немцы займут город, то жить нам будет лучше. Как будто чья-то рука сумела зажать мне рот, и я промолчал! Отчим, побывав в Германии, взахлеб рассказывал о благополучной жизни немцев, не предполагая, что в феврале 1942 года умрет в муках от голода в тисках установленной ими блокады города.
Сейчас, по истечении многих лет, я все больше убеждаюсь в том, что у нас с мамой в то немыслимое время был Ангел-Хранитель! Могу привести несколько примеров, подтверждающих это предположение. В конце сентября 1941 года по просьбе родственников моего отчима – семьи известного академика С. И. Вавилова, которые собирались эвакуироваться, – мы перебрались в их квартиру, дабы сохранить ее. Находилась она в академическом трехэтажном особняке по Биржевой линии Васильевского острова вблизи ГОИ (Государственного оптического института). Через несколько дней после того, как мы перебрались туда, нам пришлось вернуться в свою квартиру, чтобы забрать вещи. То, что мы там увидели, повергло нас в шок. Во дворе нашего дома, куда выходило окно нашей девятиметровой комнаты, взорвалась авиабомба. Невозможно передать словами, во что превратились окно и мебель комнаты. А, если бы в ней в тот момент находились мы?! Выходит, что Вавиловы, сами того не предполагая, спасли нам жизнь!
Вскоре после нашего переселения мы с мамой пошли пешком через Тучков мост проститься с уезжающей в эвакуацию семьей маминой сестры Норы. Жили они на углу Кронверкской и Пушкарской улиц Петроградской стороны. Путь был неблизкий, но в это время обстрелов и бомбежек (последние проводились преимущественно ночью) не было. Недолго побыв у них и простившись, мы двинулись домой. Вслед за нами неслись жалобные крики двухгодовалой дочки Норы, Ольги: «Хеба, хеба!» В то время, когда мы возвращались по правой стороне Большого проспекта и находились в районе Введенской улицы, начался артобстрел. Какой-то мужчина посоветовал нам немедленно перейти на другую сторону и спрятаться в аптеке. Через ее окно мы увидели, как один из снарядов разорвался там, откуда мы успели уйти, следуя совету незнакомца! В тот момент мы даже не осознали, какую неоценимую услугу оказал нам тот неизвестный человек! К счастью, артобстрел продолжался недолго, и мы благополучно вернулись домой.
Зловещее предзнаменование
В первые же дни сентября, сразу после того, как немцы замкнули кольцо блокады, они разбомбили Бадаевские продовольственные склады, не только разрушив их, но и вызвав грандиозный пожар. Он был прекрасно виден нам, хотя мы находились на Университетской набережной Васильевского острова. Несмотря на многокилометровую удаленность пожара от нас и как бы загораживающее от него высокое и протяженное здание Адмиралтейства хорошо были видны поднимающиеся над ним языки темно-красного пламени и густого смолисто-черного дыма! В тот момент я, да и многие другие жители Ленинграда, до сих пор даже и не знавшие о существовании Бадаевских складов, почувствовали приближение неизбежного голода! Хотя некоторые историки и сейчас преуменьшают последствия этого события для города, тот страшный пожар стал для нас зловещим предзнаменованием. Действительно, вскоре еще больше начали урезать нормы хлеба и других редких продуктов по карточкам, и ни о каких их запасах в нашей семье теперь не могло быть и речи, а после съеденного хлеба не оставалось ни крошки! Даже сейчас, по прошествии более семидесяти лет после блокады, я стараюсь не оставлять после себя несведенные остатки хлеба или булки!
Рано наступившие холода и морозы, отсутствие в квартире и доме водяного отопления и вообще водоснабжения заставили нашу семью по-новому обеспечить себя водой, теплом и горячей пищей. Единственным источником воды для нас и наших ближайших соседей стала река Нева. Изначально отчим и я, вооружившись бидонами, вместе ходили на Неву к ее ближайшему гранитному спуску. Спустившись, мы привязанными за веревки бидонами зачерпывали невскую воду, а затем возвращались домой. Дорога туда и обратно проходила мимо университета и составляла около километра. В дальнейшем этим пришлось заниматься мне одному! Когда эта дорога и Нева покрылись льдом и снегом, я стал возить бидоны с водой на саночках. К тому времени Нева замерзла, и воду из нее все черпали из проруби. Для этого по очереди становились на ее краю на колени. Также поступал и я, но однажды, потеряв равновесие, дернул головой и чуть не окунул ее в воду. Счастье, что один мужчина сумел схватить меня за воротник и оттащить в сторону! Но и эта возможность набрать воды скоро прекратилась. Морозы стали крепчать, и прорубь за ночь успевала затягиваться льдом, который все труднее стало разбивать ломом обессиленным от начавшегося голода мужчинам. На наше счастье, начались снегопады. Я стал ведрами собирать около дома снег и появившиеся ледяные сосульки, а в квартире они растаивали и превращались в воду.
Пришло время, когда ходить на Неву нам стало невмочь. Слава Богу, что наступившая зима была не только морозной, но и снежной, причем снег был сравнительно чистый. Мы собирали его в ведра, а образовавшуюся при таянии воду использовали для питья, предварительно прокипятив на «буржуйке», и мытья, а скорее обтирания при помощи намоченной в ней тряпочки лица и рук. Вода эта, естественно, была невкусной, но и она спасала нас от обезвоживания организма. Более вкусной она была, когда удавалось найти и отколоть куски льда и также растопить их. Однако эта работа с каждым днем давалась все труднее и труднее.
Ирина Леонидовна Шервуд
Когда немцы захватили большую часть левого берега Невы, вывели из строя 5-ю и 8-ю ТЭС, а также прервали поступление электроэнергии от Свирской и Волховской ГЭС, наш и большинство других гражданских домов города остались без электрического освещения. И снова пригодился родительский опыт освещения (полученный во время Гражданской войны) – при помощи коптилки. Она представляла собой жестяную баночку со съемной крышкой, в центре которой вертикально к ней впаивалась трубочка. В нее просовывался фитиль, изготовленный, как правило, из скрученной тряпки или пучка ниток, один конец которых торчал сверху, а другой, более длинный, – снизу, и впитывал в себя керосин или масло, налитые в баночку. Верхний конец фитиля поджигался и тускло освещал небольшое пространство вокруг себя наподобие лампадки, но, в отличие от нее, источал малоприятный запах. При таком свете читать было практически невозможно, да и необходимость в чтении отпала – не до того!
Пищевой рацион к этому времени свелся к минимуму. Весьма скудные запасы продуктов кончились, а по карточкам стали выдавать только по 125 граммов (осьмушке) хлеба. Этот, с позволения сказать, хлеб представлял собой ломтик, а скорее, брусочек вязкой коричнево-черной массы, из которой со всех сторон торчали какие-то волоски, похожие на опилки. По вкусу он почти не напоминал хлеб, но даже к нему, как к единственному средству выживания, выработалось благоговейное отношение.
Видели бы вы, с каким напряжением смотрели все мы, стоявшие в очереди за хлебом, за действиями продавщицы, отрезающей от буханки эти мизерные кусочки и кладущей их на одну из тарелок рычажных весов, в то время как на второй уже лежали соответствующие весу гирьки.
Правильно взвешенным считался хлеб только тогда, когда клювики весов в результате долгожданного равновесия устанавливались друг против друга.
Как правило, достичь его удавалось при помощи так называемых довесков-кусочков этого хлеба, добавляемых к взвешиваемому куску. При тусклом освещении прилавка керосиновой лампой у недобросовестных продавцов появлялась возможность для обвешивания покупателей разными способами.
Самым распространенным являлся следующий: продавец незаметно пальцем левой руки отжимала книзу подвижную часть весов под тарелкой, на которую помещался взвешиваемый хлеб, как бы увеличивая его вес.
Другим способом был тот, когда у гири высверливались снизу отверстия, которые маскировались, благодаря чему ее вес значительно уменьшался, и вместо 125 граммов хлеба покупатель получал 90–100 граммов.
При обнаружении этого жульничества продавцов сурово карали, однако случалось это редко.
Сложно было и с отоплением. В доме было водяное отопление от расположенной в его подвале котельной, но при отсутствии водопроводной воды она бездействовала! В огромных комнатах квартиры жить стало невозможно из-за холода. Печи, которые остались в них с еще дореволюционных времен, топить было нечем! Хотя Вавиловы перед эвакуацией разрешили нам ломать мебель и топить ею печи, но у нас рука не поднималась ее уничтожать! По этой причине нам пришлось всей семьей поселиться на кухне, а для ее обогрева пользоваться добытой где-то печкой-»буржуйкой». Она изготавливалась в то время вручную из листовой стали, имела круглую цилиндрическую форму, дверцу и выход для дымохода, одновременно являясь мини-плиткой. Изначально мы топили ее древесными отходами, газетами, картоном, вскоре это «топливо» закончилось. И тут я вспомнил о том, что возле дома при входе в котельную лежит куча угля, завезенная еще летом, но засыпанная снегом. Необходимо отметить, что мы, проявив смекалку, научились не только топить углем «буржуйку», к чему она не была приспособлена, но и сделать топку непрерывной! У меня и мамы сложилось твердое убеждение, что решающую роль в том, что мы выжили в жуткую блокадную зиму 1941–42 годов, сыграло тепло и возможность приготовить хоть скудную, но горячую пищу благодаря «буржуйке»! Немалую роль сыграло в этом и то, что мы с ней ни минуты не теряли бодрости духа, хотя не получали никакой помощи со стороны!
Во время налета
Первый раз мы спустились в бомбоубежище в августе 1941 года, когда начались регулярные ночные налеты фашистских бомбардировщиков.
О начале бомбардировки оповестил зловещий вой сирены из репродуктора, при этом диктор настоятельно рекомендовал гражданам спуститься в бомбоубежище. Однако в нашем сравнительно небольшом трехэтажном доме оно отсутствовало, и нам приходилось бегать в соседний, напротив нашего, дом по Мошкову переулку.
В тесном подвале, наспех переоборудованном в бомбоубежище, скапливалось много народу из этого и соседних домов. Мысль о том, что в случае попадания бомбы в этот дом мы окажемся погребенными под ним, естественно, не вызывала у нас и у многих оптимизма. По этой причине, побывав там один или два раза, мы перестали туда ходить.
Вообще, со временем чувство страха при бомбардировках как-то притупилось, если не исчезло вовсе. Дальнейшее пребывание в блокадном городе показало, что человек ко всему может привыкнуть!
Мальчишеское любопытство, несмотря на предостережение матери и отчима, тянуло меня на крышу дома. В это время немцы при бомбардировках начали часто применять небольшие по размеру, но начиненные термитом зажигательные бомбы. Их коварство состояло в том, что, даже не пробив крышу из-за малой массы, не более 10 кг, они, оставаясь на ней, легко прожигали кровельное железо и вызывали пожары в деревянных перекрытиях домов. Для их своевременного сбрасывания с крыш и тушения из гражданских лиц сформировали специальные бригады, оснащенные брезентовыми рукавицами, совковыми лопатами, ломами, песком и иногда огнетушителями, которые были в дефиците.
В одной из таких бригад состоял выдающийся композитор Д. Д. Шостакович, страдавший сильной близорукостью и мало приспособленный к такого рода деятельности интеллигент. Еще в начале блокады он эвакуировался, кажется в Ташкент, где и написал свою знаменитую 7-ю (Ленинградскую) симфонию.
Несмотря на то что я боялся высоты, меня все же тянуло на чердак нашего дома, где находилось так называемое слуховое окно, через которое можно было вылезти на крышу или смотреть на небо во время налета.
С наступлением темных ночей немцы использовали специальные средства, чтобы осветить предназначенные для бомбардировок объекты города. На парашютах с самолетов сбрасывали устройства, начиненные пиропатронами, которые автоматически на определенной высоте взрывались, образуя большие, наподобие современных фейерверков, точечные источники мертвенно-белого света. Я бы сравнил его со светом от недавно появившихся у нас в продаже светодиодных фонариков.
Продолжительность свечения немецких пиропатронов была значительно больше, чем у фейерверков, что, очевидно, позволяло фашистским летчикам лучше рассматривать город сверху. В качестве явно психологического оружия при бомбежках немцы использовали звуковые приемы. Летящие самолеты, кроме естественного шума, создаваемого моторами, издавали жуткий вой, аналоги которому трудно было найти. Поначалу он действительно вызывал у некоторых людей панику, но в дальнейшем к этому также стали привыкать. Как потом выяснилось, чтобы добиться такого устрашающего звука, немцы подвешивали на выхлопные трубы двигателей самолетов выполненные из консервных банок специальные устройства. Даже мы, дети, тогда знали, что если на продуваемом ветром чердаке положить порожнюю железную банку, сориентированную навстречу движению воздуха, то она создает подобные воющие звуки!
Помимо этого для наводки авиабомб немцы использовали специальных агентов, которые вблизи подлежащих бомбардировке объектов производили из ракетниц очереди, которые прозвали «зелеными цепочками». Несмотря на введенный в городе комендантский час, запрещающий гражданам без специальных пропусков появляться на улицах после 22 часов, то тут, то там над крышами домов взмывали в небо эти ракеты. Через слуховое окно на чердаке мне довелось несколько раз наблюдать их появление.
Одновременно с воздушными налетами немцы сбрасывали на город массу листовок, в которых призывали военнослужащих и жителей сдаться на милость победителей, утверждая, что сопротивление бесполезно, но тем, кто сохранит листовки и предъявит их немецкому командованию, сохранят жизнь. В свою очередь, городские власти предупреждали, что хранение или передача немецких листовок другим лицам будет преследоваться по законам военного времени.
После 8 сентября, когда фашисты замкнули кольцо блокады, артобстрелы города стали регулярными и на многих улицах появились написанные на стенах домов объявления; «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!» В настоящее время единственное объявление такого рода в виде памятной доски осталось на Невском проспекте.
Кстати, по Невскому тогда еще ходили трамваи, один из них – № 4, у которого, как и у других, было два кольца: одно из них на острове Голодай (о. Декабристов), а другое – около Волкова кладбища. В связи с этим в блокаду бытовала пословица: «Живу, как трамвай четвертый номер: поголодаю-поголодаю, а затем на Волково кладбище!»
Вскоре трамвайное и троллейбусное движение в городе прекратилось – не хватало электроэнергии. Автобусное движение ввиду дефицита бензина остановилось еще раньше. Кроме того, было введено военное положение и запрещено массовое скопление людей в одном месте.
Спасение пришло неожиданно
Для обогрева помещения и приготовления пищи, если ее можно так называть, родители где-то раздобыли сделанную из листового железа маленькую круглую печку, так называемую «буржуйку». Как они говорили, у них уже был печальный опыт пользования «буржуйками» во время революции и Гражданской войны!
Круглую железную трубу, имеющую форму колена, предназначенную для вывода дыма из буржуйки, вывели наружу через форточку. Поначалу для топки удавалось использовать оставшиеся во дворе дрова, доски, щепки и другие деревянные обрезки, но вскоре, поскольку мы не были одиноки в такой ситуации, все их сожгли. Топить мебелью, как это делали тогда многие, мы не решались не только потому, что она старинная и добротная, но и потому, что ее явно не хватило бы надолго!
Спасение пришло неожиданно. Во дворе возле стены дома была обнаружена присыпанная снегом куча угля, которым мы стали топить «буржуйку». Хотя процедура топки углем более сложна, во имя собственного спасения пришлось освоить и ее. Дело в том, что для растопки в этом случае все равно необходимы дрова или керосин (можно и бензин), которые были в остром дефиците, поэтому приходилось все время поддерживать в топке огонь, как у первобытных людей. Кроме того, это позволяло не замерзнуть нам даже на кухне.
Выжить и умереть в один день
Из нас троих мой отчим, которого я называл дядя Миша, с наступлением голода начал сдавать первым. Будучи высокого роста, но от природы худощавым, он, несмотря на то что занимался спортом: плавал на байдарках (тогда они не были разборными и делались из фанеры), летал на планерах, прыгал с парашютом и хорошо ходил на лыжах, – дистрофией заболел раньше нас. К этому времени мы все переселились на кухню, где находилась печка-«буржуйка», так как в остальных комнатах из-за отсутствия отопления жить было невозможно.
С каждым днем отчим слабел все больше и больше, вставая с постели только по мере необходимости. Поскольку водопроводной воды не было, пользоваться туалетом не представлялось возможным, и для этих целей пришлось применить ведро, которое мы с мамой выносили по очереди во двор и тут же выливали. Ни о каком мытье, кроме обтирания лица и рук влажной тряпкой, слегка смоченной водой, не приходилось и думать!
В конце января 1942 года, после временного отсутствия выдачи хлеба по карточкам (говорили, что не работал хлебозавод), его норму увеличили до 250 граммов.
Хорошо помню это солнечное морозное утро, когда мы с отчимом, еле передвигая ноги, направились в ближайшую булочную, которая находилась тогда в Биржевом переулке. Как только мы спустились по лестнице и вышли из дома под арку, увидели слева во дворе веревочное ограждение с красными флажками и военных за ним. Увидев нас, они закричали, чтобы мы скорее проходили, так как во двор упала неразорвавшаяся бомба, которую старались обезвредить саперы.
Мы с отчимом, насколько позволили нам силы, постарались, не мешкая, покинуть арку и свернув налево, медленно двинулись в сторону булочной. Через какое-то время, отоварившись хлебом, пошли обратно к дому Когда до арки нам оставалось дойти метров тридцать, раздался оглушительный взрыв. Свернув в нее, мы увидели в глубине двора огромную воронку и сразу поняли, что это взорвалась авиабомба, которую саперы не смогли обезвредить.
Впоследствии мы узнали, что все они погибли. Полное состояние апатии не позволило нам в тот момент даже взглянуть в сторону образовавшейся воронки и полюбопытствовать, остался ли там кто-либо в живых? Двигало нами только желание скорей утолить чувство нестерпимого голода только что полученным после большого перерыва похожим на глину черным хлебом.
Тогда мы еще не знали, что при дистрофии, когда желудок человека сильно уменьшается в объеме и перестает переваривать пищу, нельзя сразу набрасываться на еду, так как может возникнуть заворот кишок. Мы с мамой, скорее инстинктивно, решили распределить хлеб на этот и последующие дни, но отчим решил утолить свой голод сразу – набросился на принесенный хлеб, а ночью умер в агонии, судя по всему, от заворота кишок. В полузабытьи он напевал мелодии Баха, Моцарта, Шуберта, своих любимых композиторов – их музыка, очевидно звучавшая в его душе, помогла ей уйти в лучший мир.
Мы с мамой остались вдвоем с трупом отчима. О том, чтобы похоронить его, не могло быть речи, но и оставлять в помещении, где мы жили, тоже нельзя! С огромным трудом перекатив отчима с кушетки на простыню, мы, взявшись за ее концы, вытащили его в прихожую. Примерно через неделю двое мужчин-доходяг за полбуханки хлеба утащили труп отчима на улицу, откуда его увезли санитары, скорее всего на ближайшее Смоленское кладбище в братскую могилу Несмотря на мои попытки, место его захоронения выяснить не удалось.
Я с чувством глубокой благодарности вспоминаю своего первого отчима, талантливого музыканта, дирижера и педагога. Он прожил с нами всего пять лет, но на всю оставшуюся жизнь привил мне любовь к музыке, обнаружил во мне музыкальные способности и определил меня в музыкальную школу по классу скрипки.