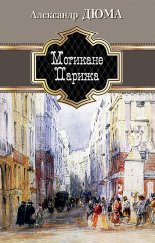В ожидании дождя Лихэйн Деннис

— Да нет. А что, должно было?
Я присел на корточки, и он повернул голову, глядя мне в лицо.
— Да, Коди, должно было.
— Почему?
Держа письмо в левой руке, а записку в правой, я поднес и то и другое к его глазам.
— Потому что почерк не совпадает, Коди. Это два разных почерка.
Он в ужасе выпучил глаза и сделал попытку откатиться от меня подальше. Судорожно дернулся, как будто я его уже ударил.
Я поднялся на ноги. Он откатился еще дальше и распластался под раковиной.
Со своего места я видел, как он безуспешно пытается заползти в маленький шкафчик. Я взял мясницкий тесак и вышел в гостиную. Нашел лампу с длинным шнуром, отрезал его, вернулся на кухню и связал Коди руки за спиной.
Он сказал:
— Что ты собираешься делать?
Я промолчал. Оттянув его связанные руки, я примотал их к стальной ножке холодильника. Ножка была маленькая и тонкая, но сломать ее не смогли бы и четыре Коди, даже привыкшие ходить в качалку и насиловать девушек.
— Где мой бумажник, ключи от машины и остальное?
Он мотнул головой в сторону шкафчика над духовкой. Я открыл его и нашел внутри все свои вещи.
Пока я распихивал их по карманам, Коди сказал:
— Ты собираешься меня пытать.
Я покачал головой.
— Больше я тебя не трону, Коди.
Он прижался затылком к холодильнику и закрыл глаза.
— Но кое-кому позвоню.
Коди открыл один глаз.
— Знаю я тут одного мужика…
Коди повернул голову и уставился на меня.
— …но о нем я расскажу тебе, когда вернусь.
— Что? — заволновался Коди. — Что за мужик?
Я ничего не ответил и через скользящие стеклянные двери вышел на крыльцо. Пересек задний двор, обогнул дом сбоку и выбрался к фасаду. Забрал со ступенек утренний выпуск «Трибьюн» и на секунду замер, прислушиваясь. Все было тихо. Вокруг ни души. Пока мне везло, и я решил использовать это обстоятельство на полную катушку. Дошел до своего «порше», забрался внутрь и подогнал машину к гаражу Коди. Здесь меня скрывали от любопытных глаз — справа дом Коди, а слева — высаженные в ряд по границе участка могучие раскидистые дубы и тополя.
В гараж я проник через ту же дверь, которой мы с Буббой воспользовались в прошлый раз, уходя. Стоя в прохладной полутьме возле «ауди» хозяина дома, я позвонил по мобильнику.
— Таверна «У Макгуайра», — раздался в трубке мужской голос.
— Это Большой Рич?
— Это Большой Рич. — Голос в трубке теперь звучал настороженно.
— Привет, Большой Рич. Это Патрик Кензи. Можешь позвать Салли?
— А, Патрик, привет. Как дела?
— Да все так же.
— Понятно. Сейчас, погоди. Салли у себя.
Я чуть подождал, пока Мартин Салливан не снял трубку у себя в офисе, расположенном в задней комнате таверны «У Макгуайра».
— Салли слушает.
— Здорово, Сал.
— Патрик? Как сам?
— У меня для тебя живчик есть.
Помрачневшим голосом он спросил:
— Верняк? Без балды?
— Сто пудов.
— А образумить его кто-нибудь пытался?
— Ага. Но без толку.
— Ну, это редко бывает, — сказал Салли. — Эта зараза похлеще Эболы.
— Это да.
— Он нас дождется?
— Дождется как миленький.
— Записываю.
Я продиктовал ему адрес.
— Слышь, Сал. Там есть кое-какие смягчающие обстоятельства. Немного, но есть.
— И?
— Постарайся обойтись без необратимых последствий. Не нежничай, но…
— Ладно.
— Спасибо, Сал.
— Не за что. Ты нас встретишь?
— Меня там и близко не будет, — сказал я.
— Спасибо за наводку. За мной должок.
— Забей. Ты никому ничего не должен.
— Ладно, бывай. — Он повесил трубку.
На полке я нашел моток изоленты и через вторую дверь гаража вернулся в дом. Миновал почти пустую комнату, в которой из всей мебели был только тренажер Stair-Master да на полу валялась пара гантелей. Толкнув противоположную дверь, я очутился на кухне и приблизился к Коди Фальку.
— Что за мужик? — тут же спросил он. — Ты сказал, что знаешь какого-то мужика.
— Коди, — произнес я. — Я хочу задать тебе очень важный вопрос.
— Что за мужик?
— Забудь пока про мужика. Мы до этого еще дойдем. Слушай меня, Коди.
Он смотрел на меня преданным взглядом, всем своим видом демонстрируя, какой он славный и безобидный, но в глазах его бился животный ужас.
— Мне нужен честный ответ, и мне плевать, какой он будет. Я тебя за это не виню. Мне просто нужно знать. Это ты изуродовал машину Карен Николс? Да или нет?
На его лице нарисовалось непонимание — точно такое мы с Буббой имели возможность наблюдать, когда были здесь в прошлый раз.
— Нет, — сказал он твердо. — Я… В смысле, это не в моем духе. На фига мне корежить хорошую машину?
Я кивнул. Он говорил правду.
Я вспомнил, что еще тогда у меня в голове звякнул тревожный звоночек, но я не обратил на него внимания, потому что успел многое разузнать о подвигах Коди и был на него слишком зол.
— Ты в самом деле этого не делал?
Он покачал головой:
— Нет.
Он перевел взгляд на свою щиколотку:
— Можно мне льда?
— А про мужика больше не хочешь послушать?
Он сглотнул, заставив подпрыгнуть кадык.
— Кто он?
— По большей части нормальный мужик. Ничем не выдающийся. Работает, живет. Но десять лет назад к нему домой вломились два ублюдка и изнасиловали его жену и дочь. Его дома не было. Их так и не поймали. Жена-то еще ничего, постепенно оклемалась, насколько это возможно после встречи с мразью вроде тебя, Коди, а вот дочь… Замкнулась в себе, и все. Она теперь в психушке. Ни с кем не разговаривает, сидит и целыми днями смотрит в стену. Ей сейчас двадцать три, а выглядит она на сорок.
Я сел перед Коди на корточки.
— Так вот, с тех пор этот мужик… Стоит ему узнать, что где-то завелся насильник, как он собирает друганов, и они… Слышал, может, пару лет назад в гетто на Ди-стрит нашли одного? Кровища у него хлестала из всех дыхательных и пихательных, а во рту торчал член. Его собственный. Отрезанный.
Коди прижался затылком к холодильнику, издавая горлом булькающие звуки.
— А, слышал, значит, — сказал я. — Это не байка, Коди, все так и было. Мой приятель и его друзья постарались.
— Умоляю… — Голос Коди упал до шепота.
— Умоляешь? — Я поднял брови. — Хорошо. Попробуй поумолять этого мужика с друганами.
— Умоляю, — повторил он. — Не надо…
— Продолжай практиковаться, Коди, — сказал я. — У тебя почти получается.
— Нет, — простонал Коди.
Я отмотал фут изоленты и оторвал ее зубами.
— Понимаешь, насчет Карен. Я думаю, примерно наполовину это была не твоя вина. Ты получил эти записки. Ты тупой. Поэтому… — Я пожал плечами.
— Пожалуйста, — сказал он, — не надо, не надо, не надо…
— Но ведь были и другие женщины? Так ведь, Коди? Те, которые ни о чем тебя не просили. Те, которые не обращались в полицию.
Коди быстро опустил глаза, пока я не прочитал в них правду.
— Подожди, — прошептал он. — У меня есть деньги.
— Прибереги их на психотерапевта. После того как мой приятель с командой с тобой разберутся, он тебе понадобится.
Я залепил ему рот изолентой. Коди выпучил глаза.
Он попытался заорать, но изолента заглушила крик, сделав его слабым и беспомощным.
— Bon voyage,[9] Коди. — Я направился к стеклянным дверям. — Bon voyage.
12
Священник, который служил полуденную мессу в церкви Святого Доминика Сердца Христова, вел себя так, как будто карман ему жгли билеты на матч «Сокс», начинавшийся ровно в час.
С последним ударом часов отец Маккендрик прошел через неф, сопровождаемый двумя служками, которым приходилось едва ли не бежать за ним. Благословение, покаяние и молитву он прочитал так быстро, словно Библия у него в руках загорелась. Послание Павла к римлянам в его исполнении звучало так, будто Павел злоупотреблял энергетическими напитками. К тому времени, когда он закончил с Евангелием от Луки и жестом велел прихожанам садиться, было семь минут первого и большинство верующих на скамьях выглядели слегка ошарашенными.
Он обеими руками вцепился в амвон и бросил вниз, на скамьи, взгляд, в котором холод граничил с презрением.
— «Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света».[10] Как вы думаете, что он имел в виду, говоря, что мы должны отвергнуть дела тьмы и облечься в оружия света?
Еще в те времена, когда я посещал церковь относительно регулярно, эта часть службы нравилась мне меньше всего. Получалось, что священник берет глубоко символичный, написанный почти две тысячи лет назад текст и пытается с его помощью объяснить такие события, как падение Берлинской стены, войну во Вьетнаме, дело Роу против Уэйда,[11] а также спрогнозировать шансы «Брюинс» выиграть Кубок Стэнли.
— Вот именно это он и имел в виду, — проговорил отец Маккендрик таким тоном, словно обращался к умственно отсталым первоклассникам. — Он имел в виду, что каждый день, вставая с постели, нужно отринуть тьму своих низменных желаний, своих мелких склок и своей ненависти к ближнему, забыть о взаимной подозрительности и перестать попустительствовать тому, чтобы ваших детей воспитывало и развращало телевидение. Апостол Павел учит нас: выйдите на улицу, на свежий воздух, окунитесь в свет. Бог — это и луна, и звезды, и уж наверняка солнце. Ощутите тепло солнца и передайте это тепло другим. Творите добро! Жертвуя церкви, опустите в ящик чуть больше, чем обычно. Почувствуйте, что вашей рукой водит Господь. Собирая одежду для неимущих, отдайте то, что вам самим нравится. Господь наш — броня из света. Ступайте в мир и творите дела праведные! — Он стукнул кулаком по амвону. — Творите дела светлые! Теперь понимаете?
Я огляделся по сторонам. Некоторые прихожане согласно кивали, хотя, судя по выражению их лиц, они понятия не имели, о чем им только что толковал отец Маккендрик.
— Ну вот и хорошо, — сказал священник. — Поднимитесь!
Все встали. Я посмотрел на часы. Отец Маккендрик уложился ровно в две минуты. Это была самая короткая проповедь в моей жизни. У священника явно были билеты на матч «Ред Сокс».
Прихожане производили впечатление людей слегка оглушенных, но в общем и целом довольных. Единственное, что католики любят больше Бога, — это короткие проповеди. Оставьте себе органную музыку, хоровое пение, воскурение фимиама и торжественные процессии! Дайте нам пастыря, который одним глазом смотрит в Библию, а вторым косится на циферблат часов, и в церкви нас набьется столько, сколько не соберет и розыгрыш индейки за неделю до Дня благодарения.
Пока служки обходили паству с корзинками для подаяния, отец Маккендрик молнией пронесся через ритуал приношения даров, поглядывая на двух служек-двенадцатилеток с таким видом, словно хотел им внушить: здесь все по-серьезному, дурака валять некогда.
Примерно три с половиной минуты спустя, сразу после прочитанного стремительной скороговоркой «Отче наш», преподобный Маккендрик призвал всех к знаку мира. Ему это не доставило особого удовольствия, но против правил не попрешь. Я пожал руки стоявшей рядом со мной супружеской паре, трем старикам с задней скамьи и двум пожилым женщинам с передней.
Одновременно я ухитрился поймать взгляд Энджи. Она находилась впереди, в девятом ряду от алтаря, и как раз поворачивалась пожать руку пухлому подростку у себя за спиной. У нее на лице отразилось легкое удивление, радость и обида; она слегка качнула головой, показывая, что узнала меня. Я не видел ее шесть месяцев, но, собрав выдержку в кулак, подавил в себе желание замахать руками и издать восторженный вопль. В конце концов, мы были в церкви, где пылкие проявления любви не приветствуются. Более того, мы были в церкви отца Маккендрика, и подозреваю, что, закричи я, он без колебаний отправил бы меня в ад.
Еще семь минут, и мы очутились на свободе. Будь на то воля Маккендрика, мы бы и в четыре уложились, но отдельные сильно немолодые прихожане ковыляли к причастию нога за ногу, несмотря на то что пастырь жег их взглядом, без слов говорящим: у Бога, может, и есть все время мира, но у меня его нет.
Я остановился на паперти перед церковью и видел, как Энджи, задержавшись в дверях храма, разговаривает с пожилым джентльменом в костюме из сирсакера. Она пожала его трясущуюся руку своими двумя, наклонилась, прислушиваясь к нему, и широко улыбнулась, когда он договорил. Мимо них протискивалась мамаша с тринадцатилетним пухлым сыном; пацан чуть шею не свернул, пытаясь на ходу заглянуть наклонившейся Энджи в декольте. Словно почувствовав мой взгляд, он обернулся и густо покраснел, охваченный старым добрым католическим комплексом вины. Я строго погрозил ему пальцем, он спешно перекрестился и уставился вниз, себе под ноги. В следующую субботу он будет на исповеди горько каяться в низменных чувствах и греховных мыслях. Учитывая его возраст, таких чувств и мыслей у него должно быть завались — не меньше тысячи.
«— Прочитай „Богородицу“ шестьсот раз, сын мой.
— Угу, отче.
— Ослепнешь ведь, сын мой.
— Угу, отче».
Энджи спустилась вниз, лавируя между толпящимися на каменных ступенях прихожанами. Она пальцами откинула волосы со лба, хотя могла бы просто мотнуть головой — эффект был бы тот же самый. Приближаясь ко мне, она не поднимала глаз. Возможно, опасалась, что я прочту в них нечто такое, что либо сделает меня счастливым, либо разобьет мне сердце.
Она сменила прическу. Сделала короткую стрижку. Пышной гривы темно-шоколадных волос, в которых поздней весной и летом всегда начинала золотиться рыжина, этих роскошных прядей, доходивших ей до пояса и густо усыпавших не только ее, но отчасти и мою подушку, этих восхитительных локонов, требовавших не меньше часа возни перед каждым выходом в свет, — ничего этого больше не было.
Узнай об этом Бубба, он бы заплакал. Ну, может, и не заплакал бы, а взял и застрелил кого-нибудь. Для начала — ее парикмахера.
— О прическе — ни слова, — сказала она, подняв ко мне голову.
— О какой прическе?
— Спасибо.
— Нет, я серьезно, у кого тут прическа?
Ее глаза цвета карамели потемнели.
— Что ты здесь делаешь?
— До меня дошел слух, что здесь можно послушать офигительную проповедь.
Она переступила с ноги на ногу.
— Ха.
— А что, нельзя? Заодно и с тобой повидаться.
Она посмотрела на меня, и я прочитал в ее глазах обиду, стыд и уязвленную гордость.
В прошлый раз мы виделись зимой. Выпили кофе. Потом вместе пообедали. Потом пропустили по рюмке. Чисто по-дружески. А потом вдруг оказались у нее в гостиной на ковре. Наша одежда валялась на полу в столовой. В том, что произошло дальше, было много злобы, печали, жестокости, восторга и пустоты. Позже, когда мы подбирали с пола свою одежду, чувствуя, как зимний холод высасывает из тела тепло, Энджи сказала:
— У меня есть другой.
— Другой?
Я выудил из-под кресла термомайку и стал ее натягивать.
— Другой. Поэтому больше никаких встреч.
— Тогда просто вернись ко мне, и к черту этого другого.
Обнаженная по пояс и сильно этим недовольная, она взглянула на меня, пытаясь расцепить крючки бюстгальтера, обнаруженного на обеденном столе. Я-то оделся гораздо быстрее. Хорошо мужикам: трусы, джинсы, свитер, и готово.
Энджи, продолжавшая бороться с крючками, выглядела несчастной.
— Ничего у нас не выйдет, Патрик.
— Да выйдет все.
Она решительно застегнула на себе бюстгальтер, словно ставя в наших отношениях последнюю точку, и потянулась за свитером.
— Нет, не выйдет. Как бы нам этого ни хотелось. По мелочам у нас расхождений нет. Но в главном мы никогда не договоримся.
— А с другим? — спросил я, обуваясь. — С ним у тебя все в шоколаде?
— Надеюсь, что да, Патрик. Надеюсь, что да.
Она натянула на голову свитер и рукой высвободила из-под ткани гриву своих волос.
Я поднял с пола свою куртку.
— Если с другим у тебя все так хорошо, Эндж, то чем мы сейчас занимались в гостиной?
— Считай, что это нам приснилось.
Я через всю комнату бросил взгляд на ковер.
— Хороший был сон.
— Возможно, — тусклым голосом сказала она. — Но я уже проснулась.
Стоял поздний январский вечер, когда я покинул ее квартиру. Город казался напрочь лишенным красок. Я поскользнулся и, чтобы не упасть, ухватился за черный древесный ствол. И потом еще долго стоял, держась за него. Стоял и ждал, пока пустота внутри не заполнится хоть чем-нибудь.
Через какое-то время я пошел дальше. Темнело. Температура падала, а у меня не было перчаток. И ветер поднялся.
— Ты слышала о Карен Николс? — спросил я, пока мы с Энджи шагали в тени деревьев в Бей-Вилледж. В листве мелькали солнечные пятна.
— Кто же о ней не слышал?
Вечер был облачный. Кожу ласкал влажный ветер, пахнувший приближающимся ливнем. Он мылом проникал в каждую пору тела.
Энджи взглянула на толстую марлевую повязку, закрывавшую мое ухо.
— Кто это тебя так?
— Да вот, вмазали по башке разводным ключом. Сломать ничего не сломали, но синячище знатный.
— Внутреннее кровотечение?
— Было, — кивнул я. — В травмопункте все промыли.
— Удовольствие еще то, подозреваю.
— Ниже среднего.
— Что-то часто тебе морду бьют, Патрик.
Я закатил глаза. Пора переводить разговор на другую тему. Хватит обсуждать мои физические достоинства, вернее, их отсутствие.
— Мне нужна дополнительная информация о Дэвиде Веттерау.
— Зачем?
— Ты ведь через него направила ко мне Карен Николс. Я прав?
— Ну да.
— Откуда ты его знаешь?
— Он собирался открыть свой бизнес, а «Сэллис & Солк» проводили для него проверку персонала.
«Сэллис & Солк» — контора, на которую теперь работала Энджи, — была огромной высокотехнологичной компанией по обеспечению безопасности. Она занималась всем на свете — от охраны глав государств до установки квартирных сигнализаций. Большинство ее сотрудников раньше работали в полиции или в ФБР, и всем им очень шли темные деловые костюмы.
Энджи остановилась.
— Патрик, а что за дело ты расследуешь?
— Да нет никакого дела. Строго говоря.
— Строго говоря… — Она покачала головой.
— Эндж, — сказал я. — У меня есть причины считать, что жуткая невезуха, преследовавшая Карен Николс в последние месяцы перед смертью, не была такой уж случайной.
Она прислонилась спиной к чугунной ограде дома из коричневого камня и запустила пальцы в свои остриженные волосы. Она вдруг показалась мне какой-то безжизненной. Может, от жары? Следуя традициям родителей, Энджи, отправляясь в церковь, всегда принаряжалась. Сегодня на ней были кремового цвета льняные брюки, белая шелковая блузка без рукавов и синий льняной блейзер, который она сняла сразу после выхода из церкви.
Даже со своей чудовищной прической (ладно, ладно, признаю, прическа была не такая уж чудовищная, даже вполне симпатичная, но только если вы не видели Энджи с длинными волосами) она выглядела сногсшибательно.
Она уставилась на меня. В ее глазах читался немой вопрос.
— Знаю, знаю. Сейчас ты скажешь мне, что я сошел с ума.
Она медленно покачала головой.
— Ты хороший сыщик. Ты не стал бы беспокоиться на пустом месте.
— Спасибо, — мягко сказал я. Меня самого удивило, какое облегчение я испытал, поняв, что хоть кто-то не считает меня сумасшедшим.
Мы двинулись дальше. Бей-Вилледж расположен в районе Саут-Энд; гомофобы и борцы за семейные ценности часто называют его Гей-Вилледж, потому что там обитает множество гомосексуалистов. Энджи переехала сюда прошлой осенью, через несколько недель после того, как покинула мою квартиру. Ее теперешнее жилье отделяло от моего примерно три мили, но с тем же успехом она могла перебраться на обратную сторону Плутона. Выстроенный компактными кварталами, состоящими из шоколадного цвета каменных домов с вкраплениями красной гальки, Бей-Вилледж находится между Коламбус-авеню и Массачусетской платной автострадой. В то время как весь остальной Саут-Энд становится все более модным местом и в нем как грибы после дождя растут галереи, кофейни и бары в духе голливудского ар-деко, а жителей, в 70–80-х спасших этот район от превращения в гетто, все активнее вытесняют дельцы, желающие по дешевке приобрести здесь недвижимость, чтобы уже через месяц продать ее втридорога, Бей-Вилледж кажется последним оплотом старых добрых дней, когда все знали всех. В полном соответствии с репутацией района, большинство пар, встреченных нами по пути, были однополыми; как минимум две трети из них выгуливали собак, и все как один приветственно махали Энджи, а некоторые останавливались, чтобы перекинуться парой фраз о погоде или поделиться местными слухами. Мне пришло в голову, что здесь действительно еще жив дух добрососедства, давно забытый в других кварталах, где мне приходилось бывать, включая мой собственный. Эти люди были знакомы между собой, и складывалось такое впечатление, что они и в самом деле интересуются делами друг друга. Один парень даже доложил Энджи, что вчера вечером отогнал пару мальчишек от ее машины, и посоветовал ей установить сигнализацию «Лоджек». Возможно, я чего-то не понимаю, но лично мне казалось, что это и есть самое настоящее воплощение семейных ценностей; как так получается, подумал я, что все эти праведные христиане, укрывшиеся за лживыми фасадами стерильных пригородов, считают себя образцом нравственности, а сами понятия не имеют, кто живет за четыре дома от них.
Я рассказал Энджи все, что успел узнать о последних месяцах жизни Карен Николс; о том, как она стремительно скатилась в пучину пьянства и наркомании; о поддельных письмах, подписанных ее именем и адресованных Коди Фальку; о ее изуродованной машине, которую, по моему твердому убеждению, Коди Фальк не тронул и пальцем; о ее изнасиловании и аресте за проституцию.
— Господи, — сказала она, когда я дошел до изнасилования.
До этого она молчала. Мы прошли через Саут-Энд, пересекли Хантингтон-авеню и теперь шагали мимо церковного комплекса «Христианская наука», на территории которого располагались здания с куполообразными кровлями и серебрился пруд.
— Так почему ты интересуешься Дэвидом Веттерау? — спросила Энджи, когда я закончил свой рассказ.
— Это была первая ласточка. С нее у Карен и начались все неприятности.
— Ты думаешь, под машину его толкнули?
Я пожал плечами:
— Обычно, если у тебя есть сорок шесть свидетелей происшествия, никаких сомнений не возникает. Но в тот конкретный день его вообще и близко не должно было быть на том конкретном углу. А если еще вспомнить письма, которые кто-то посылал Коди… Я практически уверен, что кто-то задался целью сжить Карен Николс со свету.
— Подтолкнув ее к самоубийству?
— Не обязательно, хотя я и этого не исключаю. Скажем так: пока я думаю, что кто-то решил разрушить ее жизнь по частям.
Она кивнула. Мы присели на бортике искусственного пруда. Энджи опустила пальцы в воду.
— Веттерау и Рэй Дюпюи основали фирму по прокату и продаже кинооборудования. «Сэллис & Солк» провели для них проверку всего персонала, включая стажеров. Все было в ажуре.