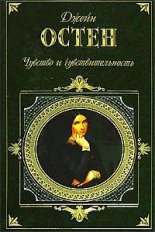Мне всегда везет! Мемуары счастливой женщины Артемьева Галина
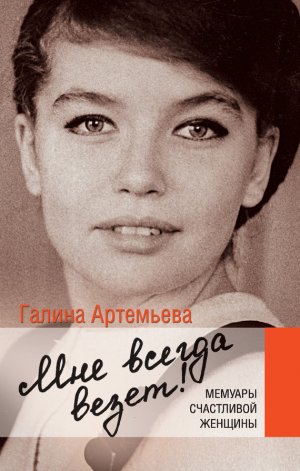
Откуда что взялось
…В некотором царстве, в некотором государстве… жили-были… поживали-добра наживали…
Подумать только! Ничего из вышеперечисленного не подходит для начала истории о большом человеческом везении.
Это же документальная проза. Надо чтоб честно и точно. Чтоб отображало моменты и судьбы.
Тогда так.
В некотором бывшем царстве, в некотором не существующем уже государстве… каким-то чудом все еще жили-были… проживали-из последних сил выживали…
Вот вроде ближе к истине. Но где же позитив? Или это страшная сказка-быль? И, может, ну ее совсем?
Нет! Стойте! Ничего не ну! Позитива полно. И вы с ним встретитесь. И даже удивитесь, как и автор, тому, откуда что берется. И, возможно, вместе с автором придете к определенному выводу насчет истоков везения.
Не бойтесь. Давайте снова обратимся к сказкам. Добрым и прекрасным. В тридевятом царстве за морями-за горами жили король с королевой, у них была дочка-принцесса. Там все было хорошо и красиво. Пахло розочками от каждого куста. Пели канарейки. Все подданные играли на арфах и бегали наперегонки по цветущим лугам. Сияло вечное солнце на вечно голубом небе. Принцесса подросла. К ней посватался принц из соседнего царства. Они поженились. Жили долго, счастливо и беззаботно. Все умерли в один день.
Наверное, от скуки.
Как вы думаете, они вообще отдавали себе отчет, что такое, когда везет? Зачем им это понимать, если все всегда голубое, розовое, душистое и мелодичное?
Ведь чтоб понять про свое везение, надо видеть: бывает и хуже.
И ценить то, что дарит тебе жизнь. В какие бы времена ни пришлось в ней оказаться.
«Помню себя с раннего детства». Этими словами начнет папа записки о своей жизни, которые я попросила его написать для меня. И я радостно удивлюсь: значит, мне досталась по наследству от отца эта ранняя память о своей жизни.
Я помню себя с младенчества. То ли Бог вдохнул в меня душу, немножко не дождавшись, пока мать мною разрешится. То ли естественному процессу родов что-то помешало…
…Все детство и юность меня мучил один и тот же сон: я продираюсь сквозь узкую пещеру из последних сил. Не могу вдохнуть. И понимаю: можно сдаться, оставить попытки сделать вдох — и не жить. Или все-таки заставить себя сделать усилие, вдохнуть и…
Эти мучительные сны были непонятны, пока я не родила своего первого ребенка.
Именно тогда я сообразила, что мои кошмары как-то связаны с родами. Я спросила маму, что происходило в то время, когда я появлялась на свет. Было ли какое-то особое памятное событие в те часы?
— Женщина рожала рядом, — рассказала мама. — Акушерки куда-то ушли. Она звала-звала, кричала-кричала, а потом все-таки ребенок у нее родился и упал прямо на пол… И я очень боялась, что мой ребенок тоже вот так появится на свет… Упадет на каменный пол… Я сдерживалась изо всех сил, ждала, когда придет акушерка.
Моя жизнь, стало быть, началась с подвига моей мамы. И это не шутка — сдерживать родовые потуги, зная, что ребенку грозит настоящая опасность. Любая рожавшая женщина подтвердит.
В общем, каким-то чудом я не вывалилась при родах на каменный пол. И каким-то чудом не задохнулась, продираясь на свет Божий. Осталось лишь небольшое страдание перед утренним пробуждением в течение двадцати с небольшим последующих лет. Это — правда — полная ерунда. Бывает гораздо хуже!
Так что везение мое началось 20 октября 1950 года — непосредственно в день рождения.
Вопрос. Почему надо было всем поголовно рожать в казенных домах, по обстановке напоминающих тюрьмы и пыточные камеры?
Когда-то, в уничтоженном царстве-государстве, женщины рожали в своих жилищах, на своих постелях. Ребенку некуда было падать, кроме как на материнское ложе. Да и рядом с будущей матерью обязательно кто-то был. Жалел, поддерживал, сочувствовал, помогал.
Кому-то понадобилось, чтобы дети «в нашей солнечной стране» с первого момента своего появления испытывали одиночество и враждебность окружающей среды. Поколение за поколением.
Будем удивляться тому, что происходит с народом?
Еще деталь, о которой, может, сейчас и не помнят. Детей приносили матери не сразу. На третий день после рождения. Лежали они в своих лотках, заходились в крике, спеленутые, словно мумии, с клеенчатыми бирками на руках. А матери мечтали наглядеться на своих младенцев… Просили принести, показать. Но! Не положено!
Понимаете?
Не положено!
Кем? Почему?
И мы терпеливо сносили (и сносим) это безумное «не положено». С первых наших вздохов до последних.
— Ты несколько месяцев непрерывно кричала. Я с ума сходила, — пожаловалась мне, взрослой, мама.
— Ты слишком туго меня пеленала, — сказала я. — Мне хотелось освободиться. Я же не могла двигать руками и ногами.
— Так все делали, так полагалось, — объяснила мама. И только потом удивилась: — А ты откуда знаешь?
— Я это помню, — ответила я.
Я никогда не пеленала своих детей. Их ручки всегда оставались свободными. С первых дней их жизни. Они не кричали по пустякам и хорошо спали ночами. Это было то немногое, что я могла сделать для своих детей, хорошо помня собственное младенчество.
А свои ощущения (не мысли — но отчетливые ощущения) самого раннего периода я могу передать в виде внутреннего диалога, состоящего из вопросов и ответов:
— Ух-ё! Куда это я попала?
— Терпи.
— Какое все некрасивое!
— Подожди.
— Как страшно тут!
— Ничего, образуется.
— Ну и запахи!
— Задержи дыхание.
— Что мне делать?
— Не задавай лишних вопросов.
— Почему я здесь?
— Так надо.
И вот еще что. Много позже я прочла слова Шекспира из «Бури»:
«Be not afeard; the isle is full of noises, sounds and sweet airs that givw delight and hurt not. sometimes a thousand twangling instruments will hum about mine ears; and sometime voices that, if I then had waked after long sleep, will make me sleep again; and then, in dreaming, the clouds methought would open and show riches ready to drop upon me, that, when I waked, I cried to dream again». —
«Не бойтесь, остров полон шумов, звуков и сладких воздушных струй, которые дают свет и не причиняют боли. Иногда тысяча звенящих инструментов будет шептать у моих ушей; а иногда такие голоса, что если бы я проснулся после долгого сна, они снова усыпили бы меня, и потом, в сновидениях, облака, я думал, открылись бы и показали бы богатства, готовые осыпаться на меня, так что, когда я проснулся, я плакал (от желания) уснуть снова».
Я вспомнила свои смутные ощущения. Как хорошо спалось до рождения!
Отчего так плачут только что рожденные дети?……
Так вот, что было на самом деле!
Все эти неясные ощущения — полная ерунда. Мне папа рассказывал совсем другую, честную и радостную историю моего возникновения в его жизни.
Он повторял ее многократно, никогда не сбиваясь, не путаясь в деталях:
«Я очень хотел, чтобы у меня появилась дочка. Дети продавались в специальном магазине.
Ну, стал я денежки копить. Копил, копил…
Пошел в магазин.
Детей много! Разных. Но все не те. Мне нужны была ты. Такая кудрявенькая, глазастенькая, красивенькая.
Мне продавщица приносит разных детей, а я все отказываюсь: нет, я ищу свою девочку.
И вдруг вижу: на самой дальней полочке: ты! Именно такая, какую я искал. Моя доченька!
Я говорю:
— Дайте мне, пожалуйста, вот этого ребенка.
А продавщица отвечает:
— Это самая дорогая девочка в нашем магазине. Вы не сможете ее купить. Денег не хватит.
Стал я деньги считать. И вот же как повезло: у меня оказалось ровно столько денежек, сколько требовалось. Копейка в копейку.
— Что ж, — говорит продавщица. — Тогда платите и забирайте вашу девочку.
Я тебя взял и думаю: а как же я тебя понесу домой, у меня же денег на одеялко не осталось. Ничего! Придумал. Достал из кармана носовой платок — вот такой, видишь? Завернул тебя, прижал к себе и домой понес, самую красивую, самую дорогую…»
Вот это я понимаю — история! Все до последней копейки отдал за меня папа! И почему? Потому что я — та самая! Его девочка!
Эти папины рассказы незаметно, но прочно создавали во мне очень важное для каждого человека осознание собственной нужности и значимости.
Недавно прочла у Макса Фрая: «… Я с рождения абсолютно уверен, что совершенно замечателен сам по себе и никакая дурная репутация мне не повредит! То есть, я слишком люблю себя, чтобы утруждаться попытками самоутвердиться».
Да, правда. Всё так. Любовь папы рождала у меня веру в себя. Эта вера не подпускала близко отчаяние или уныние в самые тяжкие моменты моего существования.
Примечательно: мама в этих увлекательных повествованиях не фигурировала совсем. Но меня это не смущало. Я верила папе, потому что верила очевидной силе его любви.
Да и поразительное сходство между нами восхищало и умиляло окружающих: «Вот это да! Папина дочка! От макушки до пяточек — все папино!»
От папы шло ощущение мощной жизненной силы. Мягкий, спокойный, уравновешенный человек. Во многом — созерцатель.
Я потом спрашивала себя: почему он всегда казался мне безусловным победителем? Ответ прост: он и был победителем, прошедшим всю войну. От многих фронтовиков шла эта сила.
Я без внутренней дрожи не могу смотреть хронику подписания германской капитуляции. Выходит маршал Жуков. И — вот! То же ощущение… В нем — сила.
Если забираться далеко… Есть у Пушкина стихи, которые рождают это же чувство. Помните «Полтаву»?
- …Из шатра,
- Толпой любимцев окруженный,
- Выходит Петр. Его глаза
- Сияют. Лик его ужасен.
- Движенья быстры. Он прекрасен,
- Он весь, как Божия гроза.
- Идет. Ему коня подводят.
- Ретив и смирен верный конь.
- Почуя роковой огонь, дрожит.
- Глазами косо водит
- И мчится в прахе боевом,
- Гордясь могущим седоком…
«Могущий» — это невозможно не ощутить — и человеку, и зверю… Сила, исходящая от «могущего», не требует особой демонстрации. Она просто есть. Сама по себе. Вот этой силой — только ею — дается любая победа.
Этой силы фронтовиков-победителей, видно, и испугался Сталин после войны. Ее и повелел придавить, затоптать, уничтожить. Отсюда и репрессии…
Мы, родившиеся после войны, дети фронтовиков — выживших, выстоявших, преодолевших испытания — мы несем в себе их силу. Мы — дети Победы.
Эта папина сила держит меня и сегодня.
Мама
От мамы тоже исходила сила. Сила тех самых «женщин в русских селеньях», воспетых Некрасовым.
Но сила русского народа в большевистские времена на корню подрубалась богоборчеством. Душа народная испепелялась всеми возможными способами: беспросветной нищетой, войнами и — главное — разрушением основ существования каждого народа: уничтожением общей веры.
В России издавна устроено отношение к человеку: молчи и терпи, раб.
Можно тысячи раз провозглашать свободу. Но до нее надо дорасти. Нашему народу никак не дают дорасти до бесстрашия. Обычного, бытового, не бесстрашия воина, что смотрит, не отшатываясь, в глаза смерти, потому что — готов уже на все. Этого у нас хватает. А вот не бояться идти своей дорогой, не бояться начальства… Тут рабство многовековое и просыпается…
И все же… В самые тяжкие крепостные времена было то место у русского человека, где получал он силу жить дальше. Храм. Молитвы, псалмы, Святое Причастие… И каждый, самый маленький в общественном отношении человек, знал: он создан по воле Божьей, по Его образу и подобию.
Вот почему большевики так яростно и злобно уничтожали, растаптывали веру. Им нужны были настоящие рабы. Не люди — Божьи создания, а полые внутри, человекоподобные существа…
Вот у Некрасова:
- Три тяжкие доли имела судьба,
- И первая доля: с рабом повенчаться,
- Вторая — быть матерью сына раба,
- И третья — до гроба рабу покоряться,
- И все эти грозные доли легли
- На женщину русской земли.
Жаль, что поэт не знал, каково будет жить женщине русской земли в обезображенном, обезбоженном мире не столь уж далекого будущего его Отчизны.
Сила русской женщины становилась стихийной, как сила огромного корабля, плывущего без руля и без ветрил…
Если говорить просто, в советские времена на женщине лежала обязанность не только рожать и поддерживать дом, но и на равных с мужчиной участвовать в добывании средств на жизнь. Декретный послеродовой отпуск — меньше двух месяцев. А там — крутись, как можешь. Но на работу выходи. Дома ребенок. Его надо кормить… Ночью он вопит. Вставать рано…
Я все понимаю. Но ребенку от этого не легче. Он не в курсе, что и как устроено в государстве. Ему бы как-то на собственные вопросы ответить: «Зачем я здесь» и «Просыпаться ли, когда чувствуешь смертельное удушье».
Эпизод.
Мне примерно полтора года.
Ночь. Я стою в своей кроватке с веревочной сеткой. Прошусь на горшок. Папы нет. Мы с мамой одни. Она спит, а я нет. Я зову ее. Она спит.
Я кричу, плачу, прошусь.
Мама слышит. Она проснулась. Но не встает ко мне.
Она говорит:
— Писай в кровать!
(Сейчас я знаю — работала, училась, уставала нечеловечески… А тут я… Но — откуда это? «Писай в кровать!» Она же к человеческому детенышу обращается, наделенному душой, разумом…)
— Писай в кровать!
А я этого не могу! У меня уже есть собственное достоинство. Я себя уважаю.
Мама не встает.
Я захожусь в крике.
Тогда она вскакивает, рывком вытаскивает меня из кроватки и тащит в другую комнату. В той комнате пол каменный, серый в белую крапинку.
Разгневанная, мама сдирает с меня ползунки и, держа на весу, приказывает: «Писай!»
Я ощущаю жуткое унижение. Мать заставляет меня делать то, чего делать нельзя человеку.
Но я уже не могу сдерживаться. Писаю на пол.
Душа моя заледенела от ужаса. Чудовищное противоречие: именно мать принуждает меня совершать то, что запрещено.
И вот до сих пор я не понимаю: почему ей легче оказалось тащить меня в другую комнату, унижать? Ведь гораздо проще было посадить меня на горшок в кроватке…
С этого эпизода возникло в моей душе серьезное опасение в отношении матери. Какое-то подобие сомнения: «А умеет ли она любить?»
Сомнение и отчуждение…
Есть слово в тюремном лексиконе: беспредел. Вошло оно в обиход всей нашей страны на изломе 80-х. И — заметьте — легко вошло, быстро, без выяснений: а что это значит, а как и куда это приладить? Родное слово. Наше. Понятное по изначальной сути.
Для меня — очень понятное. Есть такая черта в характере народном: срывает все ограничители — и понеслось!
«Птица-тройка»… Три обезумевших, мчащихся без дороги, ослепленные шальным куражом коняки…
А потом… Уже из другого классика… «Заездили клячу… Надорвалась…»
Надо сказать, что во мне тоже сидит эта материнская сила. Еще какая! Перед лицом опасности я не сробею. И на защиту своих встану. И буду смеяться в лицо врагу. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Поэтому — стой до последнего!
Эта сила хороша для войны. Именно она делает солдат непобедимыми. Именно за нее русский солдат так ценился и ценится. Неслыханное упорство и самоотречение!
Но в быту, по отношению к ребенку, сила эта не имеет права о себе заявлять. Она — убийца. Она — табу.
Я постоянно вижу, как она возникает, вспыхивает, испепеляет что-то самое важное, трепетное в готовой любить душе… Об этом надо знать.
Но откуда было этому научиться моей двадцатидвухлетней матери? Все ее отрочество, юность прошли в непосильных трудах: старшая сестра в семье, где росло 9 детей, военные годы, голод, нищета… А тут уж и я подоспела…
Мотивы ее мне, взрослому человеку, понятны сейчас. Как я догадываюсь, в обиходе их отчаянно бедной семьи, может, и отсутствовал вовсе такой предмет роскоши, как детский горшок. Я не сужу маму.
Но тот ребенок, который остался во мне, до сих пор недоумевает и спрашивает: почему?
Последствием этого эпизода стала моя определенная проблема. Я не могу, как все нормальные люди, запросто забежать в туалет — куда там! Я сначала пытаюсь узнать обстановку: чисто ли, запираются ли кабинки… И только тогда… А лучше всего — до дома добраться…
Такие дела…
Все черты русской женщины, перечисленные Некрасовым, отчетливо проступали в цельном облике мамы: и спокойная важность ее красивого лица, и сила в движеньях, и царственность облика, взгляда. Да, красива во всякой одежде. Да, ловка ко всякой работе. И «грязь обстановки убогой не липнет»…
Но это — до поры до времени… Коррозия происходит. Точит ржа… Такое выпестованное веками сокровище, как русская женщина, должно бы храниться гораздо бережнее… А если нет… Оглянитесь вокруг…
С мамой связано у меня еще одно глубокое переживание раннего детства.
Мне два с половиной года.
Поздняя весна.
Мы гуляем среди травы, деревьев в зеленой листве, кустов. Все в природе свежее, новое, ясное. Я не помню других людей рядом. Они наверняка были. Но в памяти — только я и мама.
Мы проходим сквозь небольшую светлую рощицу и оказываемся перед бескрайним зеленым лугом. На горизонте зеленеет всеми оттенками лес.
Дух захватывает от незнакомого щемящего чувства. Хочется смотреть и смотреть.
Мама берет меня на руки, прижимает к себе. Мы просто смотрим и молчим. Долго-долго.
— Смотри: это твоя родина, — произносит мама.
С этих материнских слов и началась для меня Родина-мать.
Душа впитала.
Это чувство я поняла.
Так возникло предощущение моей Первой и Неизменной Любви.
Мать-сыра земля! Странной любовью любим мы тебя!
И ты… Ты даришь нам любовь, порой похожую на ненависть…
Но нет! Так думать нельзя! Ненависть — от людей, от лукавого…
А цветущий луг и бесконечный лес на горизонте — вот что вечно.
Маленькое отступление по поводу…
Наш, русский менталитет.
Итак, из чего мы с вами состоим? Ментально? То есть — какие мысли бродят в наших бедовых головах и каким импульсам мы подчиняемся прежде всего? Чему нас учит наш социум (пышно выражаясь), а — честно выражаясь — те разодранные в клочья подобия человеков, что встречаются на нашем тернистом и каменистом пути, ведущем незнамо куда.
И подошли мы к, так сказать, краеугольному камню нашего менталитета. Помните ведь — не отрицайте, вы все читали — помните сказочку:
— Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что?
А?
Каково?
Лично я просто терялась. По детскому недоумию, вероятно. Мне почему-то в детстве надо было «чисто конкретно», «реально» указать направление и цель. И вот от этой сказки мой родной менталитет заряжался чем-то загадочно-негативным.
— Куда итить-то, мам-пап?
— Ай, да незнамо куда. Иди-молчи. Не спрашивай. Не мешай. Мы устали.
— Чего принести-то?
— А хули ты тут вертисси под ногами? Поживешь с наше — поймешь. Иди. Учи что-нибудь. Пригодится…
Но и это как ба (не путайте с как бы) были цветочки.
Потому что нашему менталитету помимо неясных целей и задач требовался особый дорожный знак.
Ну, вот такой:
Едешь ты себе по дороге луговой-полевой, цветочки зреют-распускаются,
соловьи поют, не тревожа солдат, полегших на полях сражений…
Цок-цок-цок. Скок-поскок.
И вдруг: камень.
Ёлкино-моталкино! Камень — такой гранитный надгробный буквально монумент. И на нем обещание тебе, непонятно от кого. То ли от работников ГАИ, то ли выше…
— Направо пойдешь — коня потеряешь. (Не, коня жальче всего, он ни в чем не виноват — направо не пойду, не бойся, коняга!)
— Налево пойдешь — голову потеряешь (вместе с менталитетом, видать) — ой, нет, налево не надо… Куды ж без менталитета…
— Прямо пойдешь — потеряешь все: коня, голову, имущество — движимое и недвижимое, все перспективы накроются медным тазом напрочь — мамма мия! Куда ж нам плыть?
Может, назад как-то изловчиться-вывернуться? И тихо-тихо на коне к соловьям и лугам полевым?
Хрен те к соловьям! Читай: назад повернешь — все ваще взлетит на воздух! Потому что история не знает сослагательного наклонения. И в прошлое вернуться нельзя, не превратившись в соляной столп.
Что ж получается-то?
Как это выразить поприличнее?
Ну, короче: вы делаете мне больно!
А камень: «Свобода — исконное право русского человека! Выбирай, сволочь! Вас много, а я один!»
Ну, и прешься на свой страх и риск, стараясь, чтоб, если что, своя голова слетела, но хоть конь, ни в чем не виноватый, не пострадал.
Или есть еще вариант, который никто не исключал. Напротив, весьма популярный вариант (и поди кого-то обвини в его выборе). Это вариант Ильи Муромца. Помните в Третьяковке? Три богатыря. Один другого смелее. Сидят себе — при конях и менталитете.
А суть в том, что И. Муромец поначалу, растерявшись, видимо, от сообщений на камне, просто тридцать лет и три года лежал на печи.
Есть такие, кто его осудят?
Лично я — нет.
Я бы тоже предпочла построить у самого камня избу с печью. И лечь на нее. И чё? Много ли человеку надо? Кувшин молока и краюха хлеба. И лежи. И всем хорошо.
Оно как-то все само собой образуется.
Главное, блохи чтоб не завелись. А то щекотно больно.
Но — жив. И камень доволен. Не возражает камень. Про печь на нем ничего не написано.
(Это тогда еще не придумали налоги на недвижимость по рыночной стоимости взымать, а то б Илюша подскочил еще до появления Соловья-Разбойника.) А так — он лежит себе без налогов и в ус не дует. И в бороду не плюет.
Но встать все же пришлось.
Соловей-Разбойник слишком сильно свистел.
Терпежа никакого уже не осталось.
И ТОГДА ОН ВСТАЛ…
Ну, вот как-то так с нашим менталитетом — в общих чертах)))
Главное, кому это интересно, — вопрос времени.
Встанет обязательно.
Но каждый раз хочется, чтоб не вставал.
А ведь будят, гады!
Лежать мешают.
Свистят…
И книжек не читают. И истории своей не знают…
А вы говорите — менталитет.
Мока, или Искусство медитации