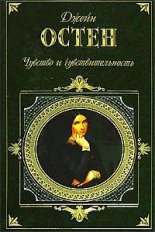Мне всегда везет! Мемуары счастливой женщины Артемьева Галина
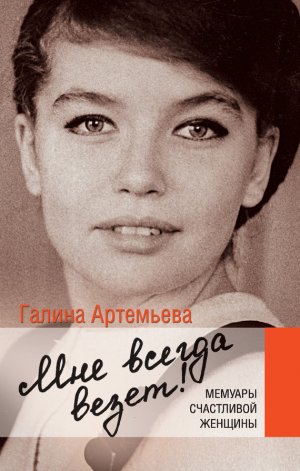
Но еще до выноса тела Сталина из Мавзолея произошло одно удивительное событие, которое тоже широко все обсуждали.
В августе 1961 года в произошло беспримерное историческое действо: в фантастически короткие сроки была воздвигнута Берлинская стена. Если очень коротко, то суть заключалась в том, что после войны Германия потеряла государственную целостность. На тех территориях, которые после войны были заняты союзниками (США, Англия, Франция), существовала Федеративная республика Германия (ФРГ). А территория, на которой находились наши войска, провозгласила себя другим немецким государством: Германской демократической республикой (ГДР). Строилась ГДР по образу и подобию СССР. Надо сказать, что западные страны отказывались признавать ГДР. Они требовали, чтобы Советский Союз согласился на проведение общенемецкого референдума, по результатам которого и выяснится, чего же хотят сами немцы. СССР от референдума отказывался категорически. Однако ГДР существовала. Но это еще что! Существовал очень странный город Берлин, поделенный на зоны. Одна зона — советская — считалась столицей ГДР, а вот зона, контролируемая союзниками, имела особый статус. Это не была ФРГ. Но и социализм в Западном Берлине не строили. Это был вольный город. Надо еще добавить, что Западный Берлин от бомбежек хоть и пострадал, но гораздо меньше, чем Восточный. Ведь бомбили особенно массированно центр (Митте), район Рейхстага, Бранденбургских ворот. В Восточном Берлине некоторые улицы практически стерли с лица земли, а в Западном очень много оставалось из прежней, уютной, зеленой, обстоятельной и надежной немецкой жизни. И вот до августа 1961 года жители Берлина практически свободно перемещались из Западной части в Восточную (и наоборот). Многие очень быстро поняли выгоды такой жизни. Например, учились в ГДР (это было бесплатно), а работали в Западном Берлине (там зарплаты были гораздо выше).
Через Западный Берлин шел огромный отток жителей ГДР, не желавших строить коммунизм всю оставшуюся жизнь, а хотевших просто и спокойно прожить в той части страны, где такая возможность предоставлялась (то есть — в ФРГ).
Вот и решено было построить между Западом и Востоком непроходимую стену. Нагнали войска (и наши, и ГДРовские) и в считаные дни соорудили заграждение — не только в самом Берлине, но и в окрестностях, на протяжении ста пятидесяти км! Сначала натянули колючую проволоку. Потом установили глухие бетонные стены с колючей проволокой и током поверху.
Весь мир ахнул.
У нас дома это воспринято было совершенно спокойно. Война-то всего 16 лет как закончилась. Раны еще и не затянулись. Не было ни одной семьи, где бы война прошла стороной. Немцев не любили, им не сочувствовали.
— Ну, и правильно.
— Так им и надо.
— Что хотели, то и имеют.
Вот в основном такие были мнения.
Все только удивлялись, как быстро удалось эту стену возвести — в живом городе… И еще говорили, что родственникам теперь будет туго… Допустим, кто-то живет на западе, а кто-то остался на востоке. Им — как?
Не могу сказать о себе, что я кому-то сочувствовала. Но факт возведения стены меня, конечно, интересовал. Я себя спрашивала, хороший ли это выход? Решаются ли так проблемы? Ответов у меня не было.
Дальше было вот что.
Мы в пятом классе наконец-то стали изучать иностранный язык. Нашему классу выпало изучать немецкий. В параллельном классе учили английский. Немецкий учить хотели далеко не все. Некоторые мальчишки злились на немецкий язык из-за фашистов и войны. А некоторые считали, что английский становится языком международного общения, его-то и надо изучать. Из-за этого кое-кто перевелся в параллельный класс. Но очень мало — один или два человека. Остальные не захотели разлучаться, привыкли мы друг к другу.
Немецкий поначалу показался мне очень легким. Я же уже знала латинский алфавит благодаря испанскому языку и, кроме того, по своей обычной привычке за лето почитала некоторые учебники для пятого класса. Главный интерес для меня представляла «История античного мира» Коровкина и учебник немецкого языка. Летом знания сами запрыгивают в голову — это же не из-под палки, а для себя. Вот я и выучила по своему, уже сложившемуся методу большую часть слов, которые нам еще предстояло выучить в классе. Тексты читала легко. Грамматику отложила на потом, на школьное время.
К ноябрю я уже вполне могла вести несложную беседу на немецком, а именно: рассказать, что зовут меня Галя, что я живу в Москве, учусь в пятом классе, что я люблю читать книги, прыгать, бегать, танцевать, петь. Могла я даже доложить о достопримечательностях столицы, о главной улице, о Третьяковской галерее… Ну, и еще кое-что по мелочи… И вот как раз во время осенних школьных каникул Танюся предложила мне поехать на экскурсию по Москве с немецкими слушателями из Академии Фрунзе.
— Там будет один офицер, к нему приехала жена с дочкой. Дочка — твоя ровесница. По-русски не говорит. Зато ты уже говоришь по-немецки. Попрактикуешься.
В назначенное время я стояла у академии в ожидании экскурсионного автобуса. Танюся усадила меня, познакомила с офицером-немцем, говорившим по-русски, с его женой и дочкой по имени Сабина. Девочка была ниже меня (я очень вытянулась за лето), казалась младше. Ее аккуратная и нездешняя одежда ничем особенным не отличалась, но все же видно было, что она иностранка. Ей все было непривычно, она как-то пугливо жалась к матери, та обнимала ее за плечи…
Мы поездили по центру, потом остановились у гостиницы Москва и пешком отправились на Красную площадь. Экскурсовод все время что-то рассказывала по-русски. Офицерам рассказ уже был вполне понятен, а только что приехавшим к ним женам — явно нет. Мы потихоньку зашагали по брусчатке к Мавзолею. Я стала рассказывать Сабине о себе. По-немецки. Довольно долго говорила. Она смотрела на меня во все глаза. Но ничего не отвечала. Тогда я спросила ее:
— Как твои дела? Где ты живешь?
— Я живу в Берлине, — сказала вдруг Сабина.
Я испытала восторг. Значит, она меня поняла! Значит, я все правильно говорю.
— У Сабины проблемы со здоровьем, — сказал вдруг ее папа по-русски. — Она почти не может говорить. Но это удивительно: она тебе ответила! Это редко бывает.
— Я не знала, — сказала я.
Мне стало очень стыдно, что я все лезла к этой бедной немецкой девочке ради практики в языке, а она вон что — и говорить не может.
— Это очень хорошо, что ты с ней говорила. Спасибо, — сказал немец.
Сабину тем временем взяла за руку мама и повела дальше, что-то тихо и ласково рассказывая.
— Ты спросила у Сабины, как дела, — продолжал ее папа. — Хочешь, я тебе отвечу?
Мы стояли отдельно от группы, которая дошла уже до мавзолея и слушала экскурсовода.
— Я из Берлина, — сказал мой собеседник на очень правильном русском языке (только акцент выдавал его). — Я родился в Берлине. Берлин — мой город. Понимаешь?
— Да, — сказала я. — Конечно.
— А сейчас в Берлине стена.
Я сразу поняла, о какой стене он говорит, хотя прошло уже время и о стене мы забыли.
— Это плохо? — спросила я.
Моя тяга к познанию мира заставляла меня допытываться до самой сути.
— Это очень плохо. Я не могу в моем городе ехать туда, куда хочу. Понимаешь?
— Понимаю, — ответила я.
— Я родился в тридцатом году. Я не виноват, что в Германии был Гитлер. Он преступник. Но я все прожил с моим городом. И когда бомбы падали, я тоже был в Берлине. И потом мы убирали все руины… Сейчас у нас стена.
Разговор наш занял чуть больше минуты. Папа Сабины сказал еще, что у меня красивый немецкий. Я была счастлива.
Потом мы подошли к остальным. Экскурсия продолжилась.
Дома я все думала про стену. Я впервые засомневалась: надо ли было так поступать? Зачем так с людьми? Если бы Москву так взяли и всю разгородили? О таком ужасе думать не хотелось…
А еще я удивлялась, что взрослый немецкий дяденька именно мне рассказал о том, что стена — это плохо. Я почему-то понимала, что ему нельзя было это говорить, а он сказал.
Странная штука: офицер Немецкой народной армии сказал советской девочке о том, что стена, которую воздвигли совместными усилиями ГДР и СССР, — это плохо. И объяснил это не политическими причинами, а вполне понятными, человеческими.
Человеку иногда бывает надо СКАЗАТЬ.
Хорошо, что он выбрал меня. Мне было надо УСЛЫШАТЬ.
Потом этот немец привез из своего Берлина и передал мне через тетю набор пластинок с песнями, которые исполнял Эрнст Буш. Это были песни конца 20-х — 30-х годов. И музыка, и слова, и исполнение меня потрясли. Удивляться этому не приходится: автор слов — великий поэт Бертольд Брехт, музыка — Ханса Айслера.
Именно благодаря этим песням я полюбила немецкий язык. Он звучен, богат, прекрасен. Не вина языка, что на нем говорят не только великие поэты, философы, ученые, но и преступники, душегубы. Но народ, который смиряется с приходом к власти душегубов, должен отдавать себе отчет: стыдиться за последствия власти преступников придется всем. Всем, кто говорит на одном с ними языке.
Две песни с тех пластинок так и живут в моем сердце. И иногда я пою их — они дают мне силу. Я назову и процитирую. А услышать их сейчас легко — набрать в поиске ютюба название — и вот: моя любимая музыка с вами.
«Песня единого фронта» — «Einheitsfrontlied»:
- …Und weil der Mensch ein Mensch ist,
- drum hat er Stiefel im Gesicht nicht gern.
- Er will unter sich keine Sklaven sehn
- und ueber sich keine Ђerrn —
- И поскольку человек является человеком,
- Ему не нравится получать сапогом в лицо.
- Он не хочет видеть под собой рабов,
- А над собой господ.
- Drum links, zwei, drei!
- Drum links, zwei, drei!
- Wo dein Platz, Genosse, ist!
- Reich dich ein in die Arbeitereinheitsfront,
- Weil du auch ein Arbeiter bist! —
- Марш левой, два, три!
- Марш левой, два, три!
- Встань в ряды, товарищ, к нам!
- Ты войдешь в наш единый рабочий фронт,
- Потому что рабочий ты сам!
Сильнейшее впечатление производил на меня «Марш тревоги» — «Ђeimliche Aufmarsch» с его призывом встать на защиту Советского Союза:
- Arbeiter, Bauern, nehmt die Gewehre,
- Nehmt die Gewehre zur Ђand!.. —
- Рабочий, крестьянин, в ружье!
…Открывая для себя эти песни, я открывала и трагическую историю борьбы немецкого народа, которая закончилась поражением (при молчаливом попустительстве большинства), приходом Гитлера к власти, мировой бойней, а потом и многолетним национальным позором и непреходящим чувством вины… Страшный результат.
Впрочем, до осознания путей и судеб народов еще далеко…
Я живу вполне девчачьей жизнью, веселой, любопытной, насыщенной… Впереди столько всего! Лишь бы успеть!
Дворец пионеров
Про то, что скоро откроется удивительный Дворец пионеров на Ленинских горах, писали в газетах, говорили по радио. Мы ждали, мечтали. Мы с Алкой решили туда отправиться, как только он откроется, и записаться в разные кружки.
Когда мы пошли в пятый класс, долгожданный Дворец открылся. Мечта сбылась, оставалось только воочию убедиться. Мы доехали на метро до станции Ленинские горы. Сама по себе станция — уже чудо: она не под землей, а на мосту через Москва-реку. Через ее прозрачные стены видна река, Лужники, деревья — красота дивная, не хочется из метро выходить. Так бы стоять и любоваться. Но потом, когда оказываешься на улице, тебя ждет еще один сюрприз: через несколько шагов ты как будто снова заходишь в метро, но уже бесплатно: там устроен специальный эскалатор, который поднимает людей от метро-моста до уровня городских улиц. Здорово! Можно немножко покататься на эскалаторе — туда-сюда, раз не требуют за это пятачок. Потом мы все-таки выходим в город — это совсем пустынное место, жилых домов нет, надо перейти через дорогу, и вот мы на огромной площади перед Дворцом пионеров!
Как же тут красиво! Дворец Пионеров строили лучшие архитекторы. Он получился просторным, воздушным, светлым. Стены из стекла, удивительный, самый настоящий ботанический сад, каждый может гулять, слушать журчание воды… Даже если на улице холодно, здесь всегда тепло. Все новое, современное, необычное, и все — наше. Пожалуйста, пользуйся, приходи, занимайся, чем хочешь. Тут и танцы, и музыкальные студии, и хор, и своя киностудия, и театральный кружок, и изостудия, кружок кройки и шитья, театр кукол, клуб интернациональной дружбы, где можно изучать иностранный язык, какой захочешь, бесплатно.
Кружков оказалось столько, что глаза разбежались. Мы, конечно, записались в клуб интернациональной дружбы. Я — в кружок испанского языка. Мне хотелось позаниматься языком под руководством преподавателя, а не только по самоучителю, который я почти одолела.
Подружка записалась еще на курсы кройки и шитья, а я — в изостудию. На большее попросту не хватило бы времени, а жаль. Уходить из Дворца не хотелось. Он притягивал к себе. Он стал прекрасной сбывшейся мечтой, которую не перестаешь любить, хоть она и сбылась.
Дома я просто сказала, что записалась в кружки. Что это значило? Ничего, кроме того, что по определенным дням мне требовались пятачки на метро и дополнительные десять копеек на то, чтобы перекусить во Дворце.
Мы так и ездили одни, две девчонки, и старшие за нас не опасались. И правда — что может случиться с ребенком в метро или на улице? Рядом люди, они помогут.
Съемки «Войны и мира»
Мы с моей подружкой Алкой, с которой сидели за одной партой все годы, начиная со второго класса, решили отправиться на съемки «Войны и мира». Прошел слух, что какие-то батальные сцены Бондарчук снимает на обширном в то время пустыре между Минской улицей и Ломоносовским проспектом. Мы никогда не видели, как снимают кино, а тут такая возможность! Целое сражение можно увидеть. Мы договорились, что не будем делать после школы уроки, а сразу, оставив дома портфели и переодевшись, отправимся глазеть на съемки.
Стояла теплая осень, конец сентября. Листья даже не все еще пожелтели. Мы были легко одеты: в платьях и кофтах. Кто-то из наших знакомых уже был на съемках и точно описал нам маршрут. Путь был неблизкий. Мы договорились не спрашивать разрешения у старших: могли не отпустить. Тем более часть пути пролегала по совершенно пустому перелеску. Проезжая часть, а по бокам деревья. И всё. Ни домов, ни людей.
Мы решили, что ничего с нами случиться не может, ведь мы опытные путешественницы по Москве, уже столько времени сами ездим во Дворец пионеров. Быстренько посмотрим на съемки — и домой. И никто не узнает. Сядем за уроки. Даже гулять потом не пойдем — вот мы какие разумные и примерные.
И вот мы идем. От метро «Филевский парк» по Минской улице, под железнодорожный мост. И — ничего страшного. Люди мимо ходят. Всё в полном порядке. Идти-то по прямой — не заблудишься. И мы идем. И уже видим вдалеке — как будто много ружей стреляет — дым от выстрелов. Значит, все правильно. И съемки идут, и дорога та. Мы замечаем, что никого, кроме нас, на дороге нет. Мы совсем одни. Ну и что? Ничего. Просто одни совсем, как никогда.
И в этот момент мы видим, как с той стороны, где идут съемки, в нашу сторону очень быстро движется плохо различимая группа людей. Что-то в этой группе нас настораживает, хотя люди эти еще очень далеко. Мы оглядываемся назад: не побежать ли нам туда, где много людей? Нет, никого не видно, мы ушли уже слишком далеко. Выбираем движение вперед. Очень скоро видим: навстречу нам бежит стая парней лет тринадцати-четырнадцати. Один из них, щупленький, маленький, ему вообще лет десять на вид, подскакивает к нам первый.
— Девчонки, а вы куда?
На лице его пакостная улыбка. Я таких искаженных странным выражением, мальчишеских лиц прежде и не видела.
— Мы на съемки, туда, — миролюбиво отвечает моя подружка.
И тут паренек свистит. И к нам подбегает вся стая. Мы понимаем, что нет нам спасения. Что они с нами сделают — об этом подумать нет времени. Мы в ужасе. Я не знаю, сколько их. Человек десять — двенадцать. Лица оскаленные, как у зверей, когда они нацелены жертву загнать.
Один из них набрасывается на подружку, но та как-то изворачивается и убегает прямо на проезжую часть. Она бежит без оглядки. А я остаюсь среди стаи. Мне на спину бросается один из них, обхватывает горло, душит, стараясь завалить… Я из последних сил кричу:
— Ааааа! Помогите!
И вдруг душитель отбегает от меня. И стая тоже. По дороге идет взрослый дядька. Он один. Но эта малолетняя стая его испугалась. В этом человеке наше спасение. Мы идем за ним. Он ни о чем нас не спрашивает. Мы тоже идем молча. Стая проносится мимо нас — с другой стороны, в том же направлении, куда — теперь уже поневоле, без всякой радости — идем мы.
И вот мы на месте. Съемки действительно идут. Зеваки стоят, наблюдают. Мы боимся всего на свете. И людей боимся, и далеко отходить от людей боимся тоже. Мы стараемся держаться поближе к массовке. Они-то точно не насильники. Они артисты.
На нас орут в мегафон:
— Девочки, отойдите!
Мы отходим на два шага и возвращаемся.
Наконец какая-то возбужденная киношная тетка самолично отводит нас подальше. Мы лепечем про то, что тут парни нас выслеживают. Она ничего и слушать не хочет.
Мы думаем, как нам возвращаться. Мы смотрим за стаей. Они мечутся с другой стороны, высматривают кого-то. До нас им далеко.
— Бежим сейчас?
— Бежим!
И вот мы со всех ног бежим туда, откуда пришли. К людям. На дороге опять никого.
Оглядываемся — и видим вдалеке силуэты двух девчонок. А за ними стая.
— Бежим!
Я задыхаюсь. Что-то с моим горлом не то. Воздух не проходит в него, нечем дышать. Я бегу уже только ногами, дыхание, кажется, остановилось. Сердце печет.
Наконец мы оказываемся под железнодорожным мостом. Людей уже видно. Не близко, но видно.
Оглядываемся — стая настигает тех девчонок.
Мы убежали! Мы спасены!
У меня ушло много времени на то, чтобы отдышаться. Сердце никак не хотело стучать в обычном режиме, трепыхалось и дрожало…
Перед тем как разойтись по домам, мы пообещали друг другу, что никогда никому про то, что с нами приключилось, не расскажем. Да и зачем рассказывать? Что это могло изменить?
Но та погоня была точно нужна. Как вполне определенный и ясный урок.
Мои грехи
Все свои школьные годы я привыкла после уроков — до самого вечера — оставаться дома одна. Все расходились на работу. И тетя Аня работала с моего второго класса. Ей нужно было заработать трудовой стаж для пенсии. Поэтому я (как многие другие дети) приходила домой, отпирая дверь своим ключом, обедала, делала уроки.
Мне доверяли. Я казалась вполне разумным вменяемым человеком. И вот только сейчас я расскажу о двух своих грехах, которые совершала дома в одиночестве.
Один грех я вполне могу объяснить.
Меня заставляли есть.
Предшествующее поколение настрадалось во время войн и связанных с ними голодом настолько, что главным благом жизни считало еду.
Их очень даже можно понять. Настоящий (не ради диеты) голод — это самая реальная беспощадная пытка. Человек, испытавший подлинный голод, помнит о нем всю жизнь. И если даже очень и очень сыт, станет кормить гостя или ребенка с особым тщанием. И при этом любоваться, как тот ест.
Я испытала на себе этот процесс!
Вот я ем.
С неохотой, через силу. Можно даже сказать, давлюсь. А рядом сидит со сладкой улыбкой моя тетечка и своей чистой вилочкой пододвигает на моей тарелке кусочки получше. Просто чтобы я не пропустила, обратила на них свое пристальное внимание.
И попробуй не съешь!
Это же будет горе! Страх и ужас!
То есть — я запросто могу начать пухнуть от голода, если откажусь съесть последний кусочек тушеного мяса — мягенького, без жилок!
Был и еще упрек: «Я целый день стояла у плиты ради тебя, а ты…»
Приходилось смиряться. Давиться и глотать. Ради спасения собственной жизни и чтобы не подводить любящего человека.
Но для себя я делала выводы. Давала себе обещания насчет еды.
Знаете, все проходят через мечты на тему «Вот подождите! Вот я вырасту!..»
Очень много проектов по поводу моего вырастания было связано именно с едой.
Ну, во-первых: я никогда не буду есть больше, чем мне хочется.
Во-вторых: я никогда не буду заставлять своих детей есть. Не сяду вот так вот с вилочкой и не стану запихивать им в рот куски, когда видно же, что они уже не могут.
В-третьих, я никогда-никогда-никогда не буду есть суп!
С супами моего детства связано много печальных историй. Я их не любила. Особенно в детском саду. Ну — они были там невкусные и некрасивые. Быстро остывали, и белые круги жира плавали на поверхности. Гадость!
А воспитательницы на меня злились и оставляли за столом, пока я все не доем. Бывало, даже наказывали, не брали на прогулку. И я сидела одна и роняла детские слезы в тарелку с ненавистной жижей.
Думаете — доедала? Нет! Ни за что! Это было просто невозможно. Почему я должна запихивать в себя этот белый жир? За что? Что я такого сделала?
И вообще — зачем супы?
А когда я пошла в школу, начался новый этап.
Газ мне включать не разрешалось. Но меня все равно ждал теплый обед. Суп — в термосе. А второе — в укутанной полотенцами и одеялами сковородке.
Cуп пропитывался запахом пробки от термоса. Есть его возможным не представлялось. Он вонял. И я совершала преступление, прекрасно понимая, что поступаю очень плохо. Я выливала содержимое термоса в унитаз.
Я была сознательным членом общества. Я понимала, сколько в мире голодных детей, которые были бы счастливы съесть этот любовно приготовленный для меня суп. Но где эти дети? Не доедешь, не доскачешь… Суп отправлялся в унитаз.
Таковы были правила игры. Если бы я честно оставила суп нетронутым, разразилась бы трагедия. Точно говорю: пробовала жить по-честному пару раз. Просьбы не оставлять мне суп в термосе ни к чему не приводили… Вот я и… Приспособилась…
И каждый раз, выливая суп, я давала себе слово: вырасту — супы ни-ни. Их не будет в моей жизни. Должна сказать, что много лет я следовала этому обещанию!
Второй же грех — до сих пор мне самой не понятен. Пишу о нем исключительно ради того, чтобы кого-то предупредить: в раннем подростковом возрасте ребенок в очень многих вещах совершенно не может отдавать себе отчет и действует бессознательно.
Итак. Я возвращалась домой из школы, чувствуя огромную усталость. Мне совсем не хотелось есть. Мне совсем не хотелось спать. Я чувствовала опустошение. Я была приучена к нескольким главным правилам возвращения домой: первое — сменить обувь, на улице грязно; второе — вымыть руки и лицо; третье — снять школьную форму и повесить ее на вешалку в шкаф, чтобы она не помялась.
Дальше полагалось пообедать.
Я не делала ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого…
Я шла на кухню и зажигала газ. Потом я ставила на огонь пустую жестяную банку из-под консервов и «производила химические опыты». Пишу в кавычках, потому что просто не знаю, как иначе назвать то, что я творила. Я наливала в банку, например, одеколон, сыпала соль, сахар, кидала туда куски гуталина, какую-нибудь пластмассовую штуковину — все, что в голову придет. И смотрела, что будет.
Иногда не происходило ничего. Ну, просто жидкость закипала, шипела, бурлила, шел пар… И все.
Но чаще… Чаще полыхмякало так, что мама не горюй! Буквально до потолка могло подняться пламя. Оно поднималось, вспыхивало и опадало. К счастью. Вообще-то после первого такого вспыхивания я стала подстраховыватья: ставила рядом с собой полный чайник. Предполагалось, что я затушу водой из чайника начавшийся пожар.
То есть — какие-то остатки разума все же сохранялись в моей взрослеющей голове. В остальном — чистое безумие. Мне, во-первых, надо было смотреть на огонь. А во-вторых, было интересно, какие именно ингридиенты приводят к наиболее интенсивному вспыхиванию.
Несколько раз пламя, поднимаясь высоко, лизало потолок, оставляя на нем следы копоти. Но, видимо, горючих веществ в моих банках оказывалось слишком мало. До пожара дело не дошло. Сейчас понимаю — чудом! Самым настоящим чудом. Могло запросто разгореться.
Что интересно: иной раз кто-нибудь из теть поднимал голову к потолку и произносил задумчиво:
— Надо бы кухню побелить! Потолок почернел весь, закоптился.
И ни разу это их не удивило, не насторожило.
Странно.
…Насмотревшись на огонь, я приходила в себя, обретала какие-то новые силы. Вот с этими новыми силами я начинала жить, как полагается: разувалась, убирала следы своих опытов, тщательно мыла руки и лицо, переодевалась в домашнее…
И продолжалась эта история года два, если не больше!
В тринадцать лет я вдруг потеряла интерес к подобным действиям. И усталость после школы не так уже проявлялась. Все вошло в свое русло.
…Когда мой средний сын пошел в первый класс, я застала однажды на кухне такую картину: целый коробок спичек был опустошен. Спички аккуратно, горкой лежали на кухонном полу. Оставалось только поднести огонь. Костерок получился бы вполне ничего себе. Взвейтесь кострами, синие ночи…
— Что-то рановато начал, — грустно подумала я.
Потом собрала спички и долго-долго втолковывала, почему не стоит зажигать их на полу в квартире.
Сгорит дом — где жить потом будем?
Умная стала…
Меня жалеют
Запомнилось. Мне двенадцать лет. Я иду с урока музыки. В руках — черная нотная папка на веревочках, доставшаяся мне от Женечки.
Дождь! Ливень! Поздняя весна. Я в школьной форме и в босоножках — совсем тепло.
Улицы тогда отличались чистотой: каждый вечер дворники не просто мели их, но и поливали из шлангов. Веселое детское развлечение: попасть под струю воды, когда дворник начинает свою работу.
Дождь… Теплый дождь. Надо бы домой, но я так люблю дожди! Я скидываю свои босоножки и медленно бреду босиком по лужам. Плевать, что вся промокла! Мне удивительно хорошо. Я счастлива.
Я ничего не вижу и не слышу, кроме дождя. Я поднимаю к нему лицо, смеюсь…
— Галя! Галя!!! Галя!!! — вдруг доходит до меня чей-то крик.
Я вздрагиваю от этого заполошного крика. Словно меня сдернули с облака… Падаю на землю…
На балконе соседнего с нашим подъезда стоит мама нашей дворовой подружки. Учимся мы не вместе, она на пару лет младше меня. Но играем вместе.
— Галя! — приказывает чужая мать. — Немедленно зайди!!!
Я, ничего не понимая, захожу в чужой подъезд, поднимаюсь на второй этаж. Дверь в квартиру открыта.
— Заходи! — велит мне женщина.
Захожу.
Останавливаюсь у порога: с меня течет вода.
— Почему ты на улице? — с нездоровым жадным любопытством спрашивает соседка.
— С музыки иду, — отвечаю я, все еще ничего не понимая.
— Почему так медленно? — допытывается она.
— Я гуляю.
— Понятно, — жалостливо вздыхает баба. — Без родителей, никому не нужная…
— Что???! — восклицаю я.
До меня доходит: домохозяйке скучно, и она решила меня пожалеть, а заодно и тетям кости перемыть с соседками. Ребенка так обижают, что ребенок предпочитает под дождем мокнуть, но домой не торопится.
— Возьми зонтик и немедленно иди домой, — велит мне сердобольная мать семейства.
Она даже не понимает, чего добилась своей «жалостью», гадина.
Она такой удар мне нанесла, что у меня дыхание перехватывает. Мне хочется пнуть ее ногой по колену. Я еле сдерживаюсь.
— Я люблю под дождем гулять. И мне не нужен зонтик.
Выхожу на лестницу.
— Возьми зонт, — слышится приказ.
Я выбегаю из подъезда. Дождь кажется мне теперь холодным и злым.
Капли дождя на моих щеках смешиваются с моими слезами.
Не смейте меня жалеть, сволочи!
Не смейте говорить плохо о самых дорогих мне людях!
Дома я успокаиваюсь, но не перестаю удивляться: почему людям так часто хочется, чтобы у других все было плохо? Неужели это делает их счастливее?
Похоже, что да.
«Я шагаю по Москве»
Фильм вышел, и в него сразу влюбились. Он был чистым, свежим, весенним, как юность. Мы, до юности еще не доросшие, ужасно завидовали героям фильма. Они уже выросли, они — девушки и молодые люди. А мы — девчонки и мальчишки. Но все равно — Москва была и наша тоже. Мы могли по ней гулять, где хотели. Мы, как героиня фильма, бегали босиком по залитым дождем, чистым улицам (туфли полагалось беречь), мы ходили загорать в конце мая в парк, на берег реки, мы катались на лыжах на Поклонной горе (там ничего, кроме леса, не было тогда). Мы чувствовали свободу и легкость.
В параллельном классе училась моя подружка Ленка, с которой мы жили еще в доме Академии Фрунзе. Мы с ней пускались во всякие авантюры. Одно из любимейших развлечений называлось у нас «кататься до „Юго-Западной“».
Вот едем мы на метро от станции «Библиотека имени Ленина» до конечной станции «Юго-Западная». И что? А суть в том, что после станции «Университет» из вагонов выходили почти все. Потому что проспект Вернадского еще только строился, там почти никто не жил. А на станции Юго-Западная вообще ничего еще не строилось! Только запланировано было. Зато метро уже провели.
Суть нашего развлечения была проста, даже примитивна. Если все пассажиры выходили на станции «Университет» — наше счастье! Двери закрывались, мы оставались одни в вагоне, и тут начиналось. Две благопристойные девочки в платьицах с оборочками превращались… даже не знаю, в кого. Наверное, в стадо диких обезьян. Правда: нас как-то сразу делалось очень много. Мы орали, визжали, бегали по сиденьям, раскачивались на поручнях, хохотали, как сумасшедшие. Несколько минут невероятного блаженства. Развлекались мы с такой самоотдачей, что становились на себя не похожи совсем. Но увы — все прекрасное кончается. К станции «Проспект Вернадского» подъезжали две вполне приличные, тихие, только очень разрумянившиеся девочки с аккуратно расправленными оборочками и кружавчиками на платьицах и с чуть растрепавшимися косичками. Ну — чуть-чуть. Ну — бывает. Мы пережидали коротенькую остановку. До «Юго-Западной» никто не ехал — это точно. И вот — начиналось! Вопли, топот, прыжки, раскачивания, беготня… Как хорошо, что не было никаких видеокамер, служб безопасности! Это детское счастье (да, дурацкое, да, идиотское) помню до сих пор, и оно заставляет меня и сейчас смеяться от ощущения полной свободы и наших перевоплощений из приличных девочек в разбойниц. Назад — до «Проспекта Вернадского» — новая серия прыжков, кривляний, валяний на сиденьях… Потом обычно кто-то заходил. Увы. Мы сидели — две кроткие голубицы, — глядя на входящих своими наивными детскими глазами. Одно удивляло пассажиров: на сиденьях было как-то… натоптано… Следы ног виднелись. Люди удивлялись и выбирали места почище. И мы удивлялись вместе с ними. Надо же! Кто это по сиденьям ходил? Бывают же персонажи!..
Круглое озеро
У Академии Фрунзе имелась своя загородная территория в Подмосковье, в получасе езды от станции Лобня. Там, на берегу Круглого озера, располагались дачные домики. Одно время туда привозили слушателей-иностранцев Подготовительного отделения, чтобы они к началу учебного года освоили русский язык. Так продолжалось года два подряд, в 1964 и 65 году. Потом эти дачки превратили в академический пансионат. Несколько лет подряд какую-то часть лета я проводила на Круглом озере.
Самое для меня интересное время — годы, когда там находились кубинцы. Это же возможность говорить по-испански! Практика! И еще — кубинская военная форма делала любых, даже самых неказистых парней, романтическими героями.
Они общались с удовольствием. Уговор был: общаемся половину времени на испанском, а потом — для их практики — на русском.
Появилась у меня там и подружка-ровесница, Ларида Ширахмедова. Ее тетя, Альфия, преподавала кубинцам русский язык, вот мы и оказались вместе. Ларидкина мама, кинорежиссер, жила своей насыщенной жизнью и не могла полноценно заниматься дочерью. Тетя Альфия, бездетная и преданная, взяла заботу о племяннице на себя.
Ларидка была хорошей подругой, миролюбивой, доброй, к тому же интересной собеседницей. Время на Круглом озере мы проводили весело. Кубинцы в любую свободную минуту пели — у них всегда были с собой их музыкальные инструменты: гитары, барабаны… Мы наслаждались их музыкой, учили слова, подпевали…
У меня появился поклонник. Один из самых успешных студентов, по имени Балоиз. Он обладал огромным упорством и быстро научился говорить по-русски. И с тем же упорством он показывал мне свои чувства, которые мне, безусловно, льстили, но до которых я не доросла.
Однажды Балоиз встал рано утром, еще до побудки, побежал в поле, нарвал ромашек и васильков (там неподалеку имелся удивительный луг, заросший полевыми цветами, возле которого можно было стоять часами, любуясь ими — нигде потом не видела подобной красоты). И вот с огромным ярким букетом, на виду у всей своей группы, встретил меня у крылечка старательный кубинский слушатель, когда я, умывшись, спустилась, чтобы идти завтракать. Он торжественно вручил мне цветы. Я смутилась. Спрятала лицо, делая вид, что наслаждаюсь ароматом васильков.
Балоиз с гордой улыбкой смотрел на меня.
— Воняют? — спросил он, желая блеснуть новым для себя словом на русском.
Я хохотала, как сумасшедшая.
— Я неправильно сказал? — недоумевал парень.
У меня не получалось успокоиться и объяснить, что не так. Я вспоминала его романтическую интонацию, само слово… Смех накатывал…
«Вот вы тут радуетесь, а Никиту Сергеевича…»
Октябрь 1964-го. Мне вот-вот исполнится четырнадцать лет. Тетя Стелла возвращается с работы и удивленно рассказывает:
— Иду сейчас к дому, а навстречу подвыпивший субъект. На ногах держится, но пошатывается. И знаете, что он мне сказал? «Вот вы тут, — говорит, — радуетесь, а Никиту Сергеевича сняли!» Что за бред? Неужели сняли?
Все удивились, включили телевизор. Никаких новостей. То есть — новости, как обычно: ударный труд ударных бригад, то да сё… Но про Никиту Сергеевича — ни слова.
— Болтал чушь спьяну, — определяет Стелла, — хотя… кто его знает… подождем.