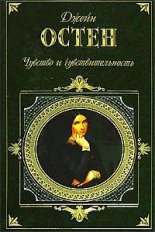Мне всегда везет! Мемуары счастливой женщины Артемьева Галина
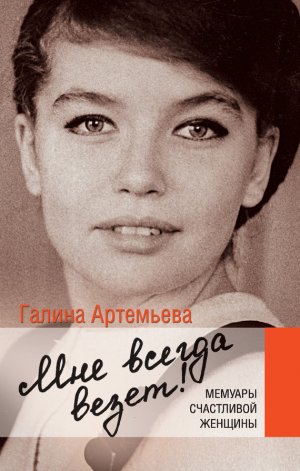
Господи, ничего мне не надо, только им ЗДОРОВЬЯ!
Еду с Пасей и Зорей в лифте с прогулки, и с нами едет Иржин дедушка и вздыхает (чехи очень любят детей): „Милые дети, что вас только ждет в жизни“. (он имеет в виду обстановку в мире), и я вспомнила дорогую тетю Стеллочку, которая так же вздыхала, когда Соня родилась. Кто прошел войну, тот это понимает.
Целую, моя родная, пиши.
Очень хочу увидеть».
Через два месяца после рождения сына я вышла на работу. Насущная необходимость побудила меня. Отпуск без сохранения содержания — это, конечно, хорошо. А где тогда взять содержание? Муж приносил зарплату, но потом постепенно сообщал мне, что должен тому, другому, третьему. Я боялась долгов, беспрекословно соглашалась, чтобы он урезал семейный бюджет, лишь бы не быть никому должным. И опять взяла на себя то, что вообще-то полагается мужчине. Жили мы поблизости от моей работы, учительское расписание можно было составить относительно удобно. К тому же приближались каникулы. Я переведу дух… Поеду к своей дорогой Танюсе. Я всей душой стремилась к ней. Мы же не виделись почти год! Она писала, что хоть и не видела Пашеньку, но очень его любит и мечтает о встрече.
Попутчики
Уже не сосчитать, сколько раз за время нашей жизни в Чехословакии я ездила по маршруту Москва — Прага. Каждый раз попадались такие попутчики, что впору о каждом роман писать. Память моя хранит удивительные истории человеческих жизней.
Сейчас расскажу только о трех встречах.
Однажды (летом 1981 года) я ехала из Москвы в Оломоуц с двумя детьми. На детей не полагалось отдельное место, давали один билет на двоих. Так что, кроме нас, в купе было еще два человека. Я уложила детей спать, и мы разговорились с молодым человеком, который до этого очень ловко помог мне расстелить детям постель.
Ему было 23 года, учился на заочном в Москве, ездил сессию сдавать, а теперь вот возвращался домой, в Чечню. Он оказался отцом троих детей!
— Вот это да! Такой молодой, а уже трое, — восхитилась я.
— С третьим целая история произошла, — принялся рассказывать попутчик. — Мы же только второго родили, жена уставала… И решили мы, что надо сделать аборт. Повел жену в больницу, положил, сказали, что назавтра все сделают. Я лег спать и вижу сон. Иду будто за женой туда, в больницу, а она стоит в нечистотах, как в болоте, и эти нечистоты ее затягивают. Она ко мне руки тянет: помоги. Я бегу к ней, тяну ее, тяну… Вытащил… Проснулся весь мокрый. Сразу понял, надо бежать в больницу, жену забирать, пока не сделали с ней то, что мы задумали. Прибежал, там все спят. Я кричу: «Отдавайте жену!» Отдали… А жена идет ко мне, плачет и рассказывает свой сон, в котором она тонула в нечистотах и меня звала! Вот от какой грязи мы спаслись. А сын родился — одна радость от него…
Рассказ этот меня поразил. Мы познакомились и обменялись адресами. Я пригласила его с семьей к нам в Москву, когда мы вернемся. А он сказал:
— Приезжайте к нам отдыхать. У нас горы, чистый воздух. Как родных примем.
Звали его Асуев Супьян. Адрес так и хранится в моей записной книжке его рукой записанный. Жив ли? С тревогой думала о нем и его семье во время страшных войн, развязанных безмозглыми нашими правителями.
Я вспомнила о нем, когда и мне через год после нашего разговора в поезде приснился подобный сон. В ночь после памятного визита к врачу, которая предложила мне уничтожить моего ребенка, приснилось мне, что стою я на пороге больницы, меня встречает муж. Я плачу и говорю: «Что же мы наделали! Что мы наделали!» Проснулась я в ужасе и не сразу поняла, что это всего лишь сон, что ребенок со мной…
Помню еще одного попутчика, парня в солдатской форме, возвращавшегося домой после службы в армии. Он ехал издалека, в Москве сделал пересадку, кажется, дорога его лежала на Украину. Он странно выглядел. Глаза… Я таких глаз не видела… Он улегся на верхнюю полку и заснул. Мы с мужем уложили детей, а сами пока не ложились. Парень внезапно проснулся, как от толчка, спрыгнул со своей полки, встал перед детьми:
— Какие деточки, какие красивые деточки…
Он потянулся руками к ним…
— Не надо, пожалуйста, они спят, — сказала я.
Парень словно очнулся. Осмотрелся вокруг. Понял, что все это не сон.
— Я из Афганистана еду. Домой возвращаюсь. Понимаете? Простите, если что не так.
Он вышел, покурил, вернулся, улегся на свою полку и заснул.
А я не спала до утра, боялась за детей.
Я понимала, что парень возвращался с войны, что до конца не понимает еще, что жив, что впереди мирная жизнь… Но я тогда совсем ничего не знала о наркотиках… Сейчас, вспоминая те его глаза, уверена: из Афгана парень привез не только воспоминания о войне…
…Когда мы ехали по территории Союза, проводники подсаживали в купе кого угодно, не считаясь, что дорога наша длинна и утомительна. Им главное было заработать. И вот ночами на каждой станции входили-выходили разные люди. Однажды на пути в Москву проснулась я ночью. Поезд отходил от какого-то украинского города. В купе, стараясь быть деликатными, вошли два пассажира. Они понимали, что тут спят дети, они не хотели мешать, но счастье так и перло из них, им надо было поделиться.
— Трое суток уехать не могли! Спали на земле вповалку! — возбужденно сообщили они мне шепотом. — А потом кто-то надоумил к поезду подойти, проводнику сунуть! И вот — едем! Мы мешать не будем! Не беспокойтесь! Мы все понимаем! Деточки спят! А мы-то! Сели! Трое суток — и никак не уехать! Взопрели все!
То, что деликатные мужики сильно взопрели за истекшее в ожидании время, ощущалось очень сильно. Но, как оказалось, это было только начало. Мужики стянули с усталых за трое-то суток ног сапоги и размотали портянки.
Воздух в купе наполнился таким неописуемым ароматом!
— Мешать не будем! — пообещали мужики и вышли из купе босиком, предварительно разложив на полу нашего тесного общего помещения свои взопревшие портянки. Сапоги деликатно стояли рядом с портянками.
— Пусть проветрятся, — пояснили мужики и удалились радостно удивляться своему везению в тамбур.
Их ноги проветривались, и я даже как-то ухитрялась радоваться за незнакомых мне до этого момента людей. Ведь и правда: трое суток! И взопрели-то как!
Правда, радость моя за них продолжалась лишь миг. Портяночная вонь одолевала… Я пыталась терпеть, заставляла себя входить в положение несчастных, старалась заснуть… Дети раскашлялись во сне… Тогда я, собрав все свое мужество в кулак, пошла в тамбур и попросила убрать портянки. Мужики даже не сразу поняли.
— Нам бы просушить, взопрели, — поясняли они мне, как дитю неразумному.
— Так вот тут, в тамбуре, и просушите. Мы в купе задыхаемся.
— Как же в тамбуре? — испугались мужики. — В тамбуре стащут!
Пришлось объяснить, что взопревшие портянки вряд ли кому-то неотложно понадобятся этой самой ночью. Видимо, эта простая мысль все-таки была воспринята нашими попутчиками. Они забрали свои ценные портянки, и мы кое-как проспали остаток ночи.
29 июня 1983 года
В тот год 29 июня нашей семье исполнялось девять лет. К тому же это был день рождения моей мамы. Вот ведь совпадение! За девять лет наша семья здорово увеличилась: от двух до пяти! Мне очень хотелось отметить этот день, сделать его праздником. Тем более днем раньше Пашеньке исполнилось ровно четыре месяца. Мы договорились с медсестрой из госпиталя, что она пару часов посидит с детками, пока мы будем праздновать нашу дату в ресторане.
Мы встретились с мужем после его работы. Я хотела забежать в парикмахерскую (все еще старалась выпрямить свои кудри). Он хотел зайти домой, чтобы сменить форму на гражданскую одежду.
— Через двадцать минут зайду за тобой, — пообещал он.
И зашел. Все еще в форме и абсолютно пьяный.
Вот и весь наш праздник.
Весь этот день с утра настроение у меня было угнетенное, и, видя нетрезвого мужа, я решила, что сердце мое предвещало это его очередное предательство. Мы пошли домой. Тоска меня охватила.
Потом я вспоминала: как же хорошо, какое же для меня счастье, что не пошли мы в тот день отмечать годовщину свадьбы. Я бы себе этого не простила.
В этот день, в то самое время, когда сердце мое исходилось от тоски, умерла моя ненаглядная Танюсенька. Всего несколько дней не дожила она до нашей встречи.
Узнали мы об этом горе не сразу, хотя телеграмму Женечка послала мне немедленно. Телеграмма не дошла. Странное дело. Хотя — вполне понятное. Представьте, телеграммы о смерти ценились в ЦГВ на вес золота! Почему? Все просто: чтобы получить возможность внепланово съездить в Союз, нужна была веская причина. Например, смерть близкого родственника. Такие телеграммы специально заверялись. А внеплановые поездки нужны были офицерам и их женам потому, что практически все, кто проходил службу за границей, занимались еще и куплей-продажей, чтобы обеспечить свое будущее. В СССР шла эпоха тотального дефицита. Людям хотелось уюта, красоты. Основными элементами уюта и красоты считались в те времена ковры и хрусталь. В Чехословакии все это стоило сущую ерунду. Зато в Союзе продавалось в десять (а то и больше) раз дороже. Купишь за сто крон (10 рублей) хрустальную вазу, а продашь ее за сто рублей. Легко и просто. Из Союза везли цветные телевизоры и аппаратуру. Качество этой нашей продукции, конечно, уступало западным и восточным образцам, зато цена…
И вот — чем чаще ездили люди туда-сюда, тем больше сделок могли совершить.
Что же произошло с моей телеграммой? Она ведь дошла. Ее не вручили. Из подлости. Я даже знаю, кто это сделал тогда. Замполит госпиталя. Решил, что нам зачем-то понадобилось на несколько дней раньше оказаться в Москве, вот мы и организовали телеграмму. Что же творят люди по отношению друг к другу — подумать страшно.
В результате моя свекровь, не получая от нас ответа, позвонила по спецсвязи в Польшу, где служили родственники. Вот через генерала Дубинина, позвонившего из Польши в ЦГВ, нам и была передана весть о смерти моей Танечки. К этому времени похороны уже состоялись. Мы приехали к свежей могилке. Я так и не простилась с той, которая была всем моим добрым миром.
Я позвонила папе, и он тут же приехал. Один. Впервые за много лет мы находились с ним вдвоем и могли говорить, говорить. Рядом со мной был прежний папа, добрый, понимающий, ласковый. Тогда он признался мне, что несчастлив со своей второй женой из-за ее деспотичного давящего нрава и стремления к стяжательству. Между ними не было взаимопонимания. Но менять что-то было уже поздно. У них подрастал сын…
Я поехала на могилку к Танечке сразу, как только добралась до Москвы. Положила на свежую землю букет белых роз. Стоял июль, жаркое лето. Прошло дней десять, мы снова поехали на кладбище, на этот раз с папой. Белые розы, которые я принесла в первый раз, лежали совершенно свежие, будто их только что срезали. Я поразилась. Словно неведомая сила посылала мне утешение…
Владыка Никанор
К мужу в госпиталь приходил лечиться епископ православной церкви. Владыка Никанор, в миру — Николай Иванович. У него был сахарный диабет, он нуждался в постоянной медицинской помощи. Резиденция епископа Оломоуцко-Брненского находились неподалеку от нашего дома и от православного храма Св. Горазда.
— Вот бы с ним поговорить! — размечталась я.
В следующий визит Владыки в госпиталь муж спросил, нельзя ли с ним встретиться. Тот с готовностью согласился. Так начались наши прогулки.
К тому времени я уже давно и вполне осознанно верила в Бога. К тому же, оставшись без Танюси, я остро ощущала свое сиротство. Я мечтала о храме, о молитве.
В храмах я бывала не раз. Особенно любила храм Николы в Хамовниках с его чудотворными иконами. Он никогда не закрывался, не подвергался поруганию. Попадая в него, я оказывалась совсем в другом мире, далеком от злобы и грязи. Я не раз молилась в том храме, своими словами, как умела. Перед экзаменами в аспирантуру заходила и ставила свечки к иконе Николая Чудотворца. Просила помочь. Экзамены проходили легко.
Я жалела, что меня не привели в храм в детстве. И чувствовала: моим детям необходим Дом, их Дом, куда они могут войти для молитвы.
Муж сказал, что хотел бы покреститься всей семьей. Наши желания совпали. И вот мы говорим и говорим с Владыкой Никанором. Он отвечает на все вопросы, он рад моим знаниям Евангельских текстов (а самого Евангелия я еще и в руках не держала, все из Хрестоматии по старославянскому и древнерусскому языку).
— Я покрещу вас приватно, чтобы не было неприятностей, — говорит Владыка Никанор.
Но мы ничего не опасаемся. В выходной день приходим в его просторную квартиру всей семьей. Владыка уже все приготовил для крещения.
— Отреклися от сатаны? — трижды спрашивает нас епископ во время таинства.
— Отреклися, — отвечаем мы, не понимая, что это значит.
Мы даже не в начале пути еще. На пороге.
Еще много-много времени должно пройти…
— Ну вот, — поздравляет нас Владыка, — а то как же? Такие хорошие деточки — и некрещеные.
Он дарит нам подарки: иконы Спасителя, Казанской Божьей Матери. Еще мы получаем от него красивую хрустальную вазу. А самое главное: Библию! Она издана к тысячелетию крещения Руси. Владыка ставит на первой странице свою печать: «Епископ Оломоуцко-Брненский». И еще. Он вручает нам Молитвослов, тоже со своей печатью, и учит:
— А вот теперь — начинайте потихонечку молиться!
Как спасали меня эти молитвы!
Но все это начнется чуть позже.
На прощание Владыка говорит мужу, показывая из своего окна на вывеску пивной на противоположной стороне улицы:
— Не надо туда ходить. Часто вижу офицеров, заглядывающих туда. Не ходи туда. Иди домой, к деткам. Жену пожалей. Она у тебя мученица.
Муж слушает благоговейно. А я пугаюсь. Ну, какая я мученица? Нет, я счастливая. У меня все хорошо. Правда.
Картинка с натуры. Кормление
Мой обожаемый шестимесячный младенец должен быть накормлен в обед протертыми овощами или кашей.
Это кормление — спектакль не для слабонервных, поверьте.
Я одна с этим не справлялась никак.
Мой муж в свой обеденный перерыв старался мне помочь во время собственного обеденного перерыва, благо госпиталь его находился в пяти минутах ходьбы до нашего дома. Все это называлось: «Спасение сына от голодной смерти».
Мы были убеждены, что если не впихнем в ребенка миску каши, случится что-то неописуемо ужасное. Итак, прибегал папа. Начиналась операция «бу-ээээ».
Сначала я укутывала отца в пеленку, чтоб не испачкалась его форма. Потом мы обвязывали пеленкой нашего ненаглядного крошку, чтобы он не мог руками пошевелить и не выбил миску с кашей из рук кормильца.
Далее муж отдавал приказ: «Пойте!»
Мы втроем — дочка, сынок и я — начинали представление. Пели, плясали, дудели. Естественно, наш маленький дурачок каждый раз ловился на эту приманку: широко раскрывал свой беззубый рот и улыбался. И тут происходило вероломное нападение: отец с ходу втюхивал ему большую ложку каши.
Вдохновленные успехом, мы пели еще старательнее.
В общем, несколько ложек он проглатывал в эстетическом экстазе.
И вот тут-то нам бы и остановиться.
Поблагодарить малютку за внимание, распеленать и заняться дальнейшими делами.
Но, знаете, как устроен человек… Ему все мало… Нам каждый день хотелось, чтоб он съел всю миску. И точка.
Отец впихивал, впихивал, не замечая, что бэби давно уже не глотает питательный продукт.
Правда, для порядку муж иногда встряхивал сына и побуждал: «Ешь давай, глотай давай!»
И вот…
Даже сейчас страшно писать…
Так и вижу…
Щечки у сыночка раздулись от засунутой в его ротик лишней порции каши.
И — ррраз! Вся содержимое (в который уже раз) оказывается на любящем отце. На его лице, вороте рубашки, галстуке и даже брюках (пеленка, в которую я его заботливо укутывала, к этому времени безнадежно сползала).
Ребенок радовался, отец горевал.
И так — много дней подряд.
Кто бы нам тогда сказал, что мы совершаем нечто противоправное, мы бы очень обиделись. И не поверили! Мы же делали это любя. Ради блага нашего сына.
И тем не менее: то, что мы делали, называется насилием над личностью. А точнее: пищевым насилием.
Должна сказать, что у нас все же хватило ума прекратить эти танцы-шманцы.
Дошло до нас, что нет никакого смысла во всех этих действах.
Ведь ребенок так хитро устроен, что ест, когда голоден, и не ест, если сыт.
Представляете?
А зачем же пичкать сытого? Что это даст?
А даст это вот что:
наше собственное глубокое моральное удовлетворение.
Мы-де — правильные родители. Мы — хорошие. Мы все делаем ради ребенка. Мучаемся, пляшем, поем, впихиваем так, что из ушей лезет.
То есть — не ради ребенка мы стараемся, а ради самих себя.
Сколько раз я замечала такое родительское насилие. Причем не раз в родителях разгоралась такая злоба, что они уже начинали вопить на любимое дитя: «Жри, сволочь!» И много чего еще.
К счастью, мы одумались вовремя.
Еще одна картинка с натуры. Ожидание
Мне очень нужна помощь мужа по вечерам. Днем я вполне справляюсь. И даже успеваю делать все, что нужно по работе, и выписки по диссертации уперто делаю, что бы ни происходило.
Но вечером наступает немножко затруднительный момент: мне надо купать детей. А потом укладывать их спать. И если укладывать спать — дело привычное: почитаешь, поцелуешь, они и уснут, то купать одна я с некоторых пор боюсь.
Еще до рождения Пашеньки я, купая малышей, поскользнулась в ванной в тот самый момент, когда держала на руках сыночка. Руки мои оказались занятыми — ребенка я бы не выпустила ни при каких обстоятельствах. Я упала, ударившись лбом о кафельную мыльницу над ванной, она рассекла мне лоб до кости… Дети жутко испугались, Оленька побежала к соседке, той самой пани Марии, которая все угощала нас своими булочками. Та побежала в наш госпиталь (телефонов у нас тогда ни у кого не было). Муж в то время был на двухдневных учениях, вот беда. К счастью, за мной приехали быстро, лоб зашили, рана затянулась, да так, что и следа не осталось.
Остался только страх, что, купая ребенка, опять упаду. Вполне понятный, естественный страх человека, уже пережившего подобное.
Вот я и прошу мужа помочь мне купать детей вечерами. Он поздно возвращается домой. Ему дома скучно. Гораздо веселее в господе (так по-чешски называют пивную). Но он не говорит прямо: «Мне надо выпить». Он объясняет свои задержки или все тем же тяжелым больным, который все мучается и никак в себя не придет, то тем, что не может отказать своему начальнику, когда тот зовет его в пивную после окончания рабочего дня.
— Давай сделаем вот что, — предлагает муж. — Давай ты будешь за мной заходить, и тогда уж начальник не сможет меня затащить в пивную.
Какой замечательный выход! Как это нам раньше в голову не приходило, что вся беда нашей жизни проистекает от начальника? Ну, теперь — врешь, не возьмешь! Я буду заходить за своим мужем! Счастье семьи восстановится, зарастут старые раны…
Дня три все происходит, как в песне. Я захожу в отделение, мы выходим вместе, идем домой, ужинаем, купаем детей, укладываем. Вот же счастье-то мне привалило!
На четвертый день муж просит меня не заходить в отделение, а ждать у ворот. Ну, неудобно, понимаешь… Еще смеяться над ним начнут… Жена домой водит…
Я понимаю. Мы договариваемся, что ждать я его буду как раз на лестнице у храма Св. Горазда — это прямо напротив входа в госпиталь, пропустить невозможно. Я буду ждать, он выйдет, и мы вместе пойдем домой, как в эти предыдущие дни. Замечательно просто!
Я приходу и жду. Ну что мне — пять минут добежать до храма, а потом пять минут с мужем под ручку домой? Детки вполне десять минут побудут дома одни.
Я жду. Часы на храме отбивают каждые четверть часа. Муж все не выходит. Наверное, и правда — тяжелый больной. Ну — вдруг? Я уперто жду — как тот маленький мальчик на посту из рассказа моего детства.
Холодно, промозгло, ветер.
Через час я понимаю: надо идти домой. Дети одни.
Я возвращаюсь, кормлю, умываю, укладываю их.
Муж приходит ночью. Утром опять жалуется на начальника. Злой начальник вывел его через боковую калитку и увлек в пивную. Бедняга-муж просит снова ждать вечером у храма. И я — что вы думаете? Бегу к храму, словно ничего не случилось. Жду. Ровно час. Потом понимаю, что начальник опять меня перехитрил, увел-таки мужа, гад.
Так повторяется еще несколько раз, пока до меня, такой умной и прекрасной, не доходит, что стоять у храма на паперти не имеет ровно никакого смысла.
Начальник сильнее.
Или — не начальник, а стремление мужа вырваться из обывательских пут семейной жизни. На волю, в пивную!
Вязание
Мои мечты и мои книги по-прежнему жили во мне. Но для того, чтобы писать книги, нужны покой, собственное время и свое (пусть небольшое) пространство. Ничего этого у меня не было. Каждая минута — именно каждая! — была занята делом: работой, детьми…
А меня терзала потребность творить, создавать, придумывать, воплощать… И тогда я стала вязать. Пряжу — любую — можно было заказать по почте, по каталогу. Узоры, фасоны — все я выдумывала сама. Вязание же было удобным видом творчества, потому что руки мои действовали автоматически, я могла что-то еще делать, например помогать ребенку с уроками или наблюдать за ними во время их прогулки.
И вот однажды связала я свитер необыкновенной красоты. Он немножко походил на рыбацкую сеть, но с длинными манжетами и красивым воротником. Свитер этот вызвал большой интерес моих коллег. И одна попросила меня связать ей такой же.
— Это невозможно, — сказала я. — Я не фабрика, я не делаю одинаковых вещей.
Но она просто вожделела и трепетала. Подослала свою подругу, к которой я очень хорошо относилась. Та стала меня убеждать, что жаждущая иметь такую же, как у меня, вещь подруга вот-вот уедет, мы с ней никогда не увидимся, а ей так несладко живется, муж ее разлюбил, пьет, поколачивает…
Убедила.
Я согласилась связать точно такую же красоту при одном условии: она никогда до отъезда не наденет его. То есть, дома, перед зеркалом — пожалуйста. Но на люди — нет.
Как же она обещала! Как складывала руки на груди! Какими преданными глазами глядела!
Связала, подарила. Счастью не было границ.
Проходит несколько дней. И является ко мне та наша общая подруга, которая так просила меня не отказать несчастной…
— У тебя ниток от того свитера не осталось?
— ???
— Понимаешь, она пошла в нем Восьмое марта отмечать. Ну, муж напился, приревновал… В общем, разодрал ей спереди свитер в клочья…
— Она же обещала тут не надевать, клялась такими клятвами.
— Да она уж об этом только и вспоминает. Говорит, что ты колдунья.
Обратите внимание! Связала, подарила, просила только об одном… И вот — кто виноват в случившемся? Нарушившая свое слово? Муж? Нет, конечно! Они простые хорошие люди!
Виновата я. Наколдовала.
— Зачем ей нитки-то? Она ж вязать не умеет.
— Нет, не она, я… какой-нибудь кусок спереди свяжу, вставлю…
Жалко стало мне своей работы. Попросила я принести, показать. Разодрал ревнивый муж на совесть. Силен мужик! Действительно — в клочья. Перевязала ей заново. Просила больше не нарушить данное слово — и не только мне данное, а вообще. Плохо кончается.
Она смотрела на меня с испугом. Как же! Я ведь колдунья!
Беда
Случилась в Оломоуце страшная трагедия. Из своей части сбежал наш солдат, пробрался через гараж в частный дом и зверски убил женщину с двумя детьми.
Весь город об этом говорил. Объяснения преступлению нет. Парень из Свердловска, служить осталось совсем немного. Чего он хотел? Что у него в голове?
У одной из учительниц муж работает в военной прокуратуре. От нее узнаем ужасные подробности.
Солдат проник в гараж и там затаился. Через гараж можно было попасть в дом. Но дверь была заперта. Он сидел и ждал.
Потом в гараж въехала машина. Вышла женщина с детьми, отперла дверь и прошла в дом. Муж ее, бывший за рулем, уехал что-то отвезти родителям. Дверь осталась незапертой.
План солдата был такой. Он хотел переодеться в цивильную одежду и поесть. А потом отправиться восвояси. Так он объяснял. Однако в гараже он заранее вооружился молотком.
Вроде он надеялся незаметно украсть одежду и еду. Но, конечно, женщина его заметила, закричала. Он убил ее молотком на глазах детей. Потом убил маленького, который и свидетелем-то быть не мог.
Другой ребенок пытался спастись, убегал от него, прятался. Этот ребенок все время просил:
— Дядя, не убивай меня!
А он убил.
Рассказывал он все на следствии спокойно, в деталях. Стало быть, был в своем уме?
Дальше он умылся, переоделся и достал продукты из холодильника. Поел и ушел через гараж. Молоток и форму оставил в уголке в гараже.
Приехавший отец семейства, заставший этот ужас, вскоре потерял рассудок. Отец убитой женщины умер от инфаркта.
Убийцу поймали очень быстро.
Не могу передать, что с нами творилось, как плакали мы, слушая этот рассказ. До сих пор нет слов. И до сих пор слезы застилают глаза.
Я не знаю, какие проклятия посылали жители города на наши головы. Видимо, хотели мести. Я это поняла вот почему. Однажды в наш подъезд (он обычно запирался) вошел человек и позвонил в нашу квартиру. Фамилия на звонке внизу была русская. Возможно, были у него мысли о мести, а может, просто ошибся. Я беззаботно открыла дверь и не успела еще ничего сказать, как из квартиры напротив выскочила пани Мария и принялась кричать на пришедшего, не давая мне и слова произнести:
— Что вам здесь надо? Кого вы ищете? Зачем в подъезд вошли? Я сейчас VB позову! (VB — общественная безопасность, полиция).
— Наверное, я ошибся, — смутился мужчина и убежал.
Я поняла, что пани Мария, зная ходившие по городу разговоры и настроения, тревожилась за нас и бросилась спасать.
Убийцу приговорили к расстрелу. Привели приговор в исполнение.
На кладбище воздвигли памятник его жертвам. Там имена, даты рождения и смерти. И высеченные на камне слова: «Убиты советским солдатом».
Чоп и Черна-над-Тиссой
Чоп в те времена был последним пунктом СССР. Там поезд останавливался для пограничного контроля и смены колес (в Европе железнодорожная колея уже). Стоянка поезда длилась не меньше двух часов. Дети засыпали сразу после проверки паспортов. Муж отправлялся на вокзал, чтобы купить лимонад. Возвращался с несколькими бутылками. Дети, проснувшись, радовались сюрпризу.
В одну из поездок все шло, как обычно. Муж отправился на вокзал, а вернулся с пустыми руками, совершенно ошарашенный. Пассажирам, прошедшим в поезде паспортный контроль и ожидающим смены колес, разрешалось выходить в станционный буфет. Назад приходилось проходить через зал таможенного контроля. С паспортом и отметкой погранконтроля. Это для нас было пустой формальностью.
Муж, купив, как обычно, лимонад, пошел в таможенный зал. В тот раз он был полон людьми. Люди эти сидели на тюках, чемоданах, дети спали на полу. Все выглядели крайне измученными. Кто-то из этих изможденных людей попросил Артема продать ему бутылку лимонада, отчаянно предлагая при этом какие-то бешеные деньги (чуть ли не десять рублей за бутылку, тогда как стоил этот напиток копеек десять).
— Так в буфете этого лимонада полно, пойдите, купите, — посоветовал муж.
— Нам туда уже нельзя. Мы тут сидим больше суток. Таможенный досмотр. Трясут каждую тряпку. Забирают, что понравится… Ни пить, ни есть купить не можем. Продайте!
Это были еврейские эмигранты, которые проходили в Чопе последний обряд прощания с родиной перед посадкой в поезд, идущий на Вену. Таможенники-мародеры наживались на каждом уезжающем, абсолютно не считаясь с тем, что люди испытывают жажду, голод… Это была ожившая картина времен гитлеровского холокоста.
Конечно, муж раздал бутылки с лимонадом этим людям. Он больше ничем не мог им помочь, назад бы его тоже не пустили. Он все описывал и описывал эту поразившую его жуткую сцену, измученных людей, деток на полу…
Тогда он им сострадал.
Каждый раз, когда поезд наконец трогался в сторону границы с Чехословакией, я испытывала чувство огромного подъема и легкости. Не стесняюсь в этом признаться. Десятки раз пересекала границу на станции Чоп, и десятки раз возникало это удивительное чувство. Вот мы едем по ничейной полосе, вот приближаемся к первой пограничной станции на чужой земле… На чужой… А душа трепещет от счастья.
Черна-над-Тиссой. Первая наша станция. Приходят улыбающиеся пограничники, разрешают не будить детей — уже глубокая ночь, пусть детки спят. Мы открываем окна и вдыхаем уютные запахи: цветов, вкусной еды. Покой разлит в воздухе. Слышно даже пение птичек. Неужели некоторые поют ночью?
Наконец поезд трогается. Мы едем через Татры, через спящие деревушки и городки… Я никогда не ложилась спать, пересекая границу. Я дышала горным воздухом, смотрела, как потихоньку светает, как рано-рано, в пять утра идут люди на работу, я махала им из вагонного окна, и они махали мне в ответ.
…«Крик станций: останься!..»
Поезд мчал меня по чужой земле. По родной, любимой… Но на эту любовь прав у меня не было.
Торпеда
Собралась я уезжать до времени. Все. Сдаюсь. Нет у меня больше сил участвовать во всех безумствах Артёма. Детей жалко. Как они будут жить, видя в детстве такое?
Был бы у нас большой дом, приходил бы он в любом виде в свою комнату в другом конце, подальше от наших спален, ложился бы спать… Никто бы его не видел… В конце концов — распоряжаться собственной жизнью — это право каждого человека. Пусть. Я ему не воспитатель, не мать, не начальник. Я — человек, которого он ни в грош не ставит. И ладно. Мне бы только детей поднять.
Паспорта наши хранятся не у нас, у начальства.
— Принеси мой паспорт, я домой поеду. Не могу больше.
— Прости меня. В последний раз прости. Вот — прости, увидишь, как все будет хорошо.
— Я это слышу почти десять лет. Не будет хорошо. Дай своим детям жить без ужаса.
— Я виноват. Я очень перед вами виноват! Прости меня! Я — знаешь, что я сделаю? Я сегодня же зашьюсь!
— Где же ты зашьешься? Ты знаешь, где это делают?
— У нас в госпитале делают!
— Что ж ты раньше не говорил?
— Думал, что сам справлюсь. Но сейчас… Я не могу вас потерять. Я решил!